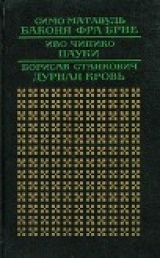
Текст книги "Дурная кровь"
Автор книги: Борисав Станкович
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц)
V
Было это незадолго до пасхи. Перед большими праздниками Софка все время проводила наверху, где прибирала и украшала комнаты, от кухни ее в таких случаях освобождали. Так было и на этот раз. Чтобы не запылиться, она надела старый минтан, который был ей узок и теснил грудь, и покрыла голову большим желтым платком, оттенявшим свежесть ее лица. Она проветривала и обметала комнаты. Деревянные сандалии ее гулко стучали по сухому полу веранды верхнего этажа.
Двор перед кухней был давно выметен и полит. От ворот к дому белела мощеная дорожка. Из деревянного ведра на колодце сочилась вода, и капли, падая на плиты, переливались на солнце. Трава около колодца, во дворе и даже на дорожке ярко зеленела. Зеленел и тянувшийся за домом сад, отгороженный дощатым забором. Под стрехами чирикали воробьи. Из соседних дворов тоже доносились разнообразные звуки приготовлений к празднику: выбивали ковры, рядна, скоблили медные противни и тазы. Слышался топот ног на улице. День стоял ясный, теплый, напоенный животворной и целительной свежестью, как бывает весной на пасху. На нижних ступеньках лестницы, у самой кухни, сидела мать; на плечи она накинула короткую колию, словно ей было холодно, на самом же деле, чтобы защитить от пыли, падавшей сверху, где работала Софка, ворот и грудь своей чистой белой рубашки. Прикрывшись колией, она держала на коленях медный противень и шелушила пшеницу, одновременно следя, чтобы на кухне не выкипели горшки, булькавшие на огне. Пшеницу она шелушила старательно, вечером ее надо было нести на кладбище, на помин души.
На воротах стукнуло дверное кольцо.
– Эй, хозяева!
Даже Софка на верхнем этаже услышала резкий голос с нездешним акцентом.
– Софка, стучат! – крикнула снизу мать.
Софка оставила работу и направилась вниз.
– Маменька, отворила бы сама, – медлила она, спускаясь по лестнице.
– Иди, иди, кто-то пришел! – торопила мать.
Пока Софка шла по дорожке мимо колодца к воротам, мать быстро спрятала противень с пшеницей и, хотя все было чисто, еще раз поспешно прошлась метлой перед кухней и убрала тряпку и еще что-то под лестницу.
Отворив ворота, Софка остановилась, ожидая, чтобы стучавший вошел.
В воротах появился высокий, с бритой головой албанец. Софка улыбнулась, так как сразу поняла, что это посланный отца, один из тех барышников, что каждую субботу, в базарный день, приезжают из Турции покупать здесь лошадей. Как только мать, узнав в пришельце албанца из Турции, подумала, что это, по всей вероятности, посланец отца, которого она всегда перед большими праздниками с нетерпением поджидала, и уверилась, что это так и есть, она испуганно засуетилась перед кухней, оглядывая, все ли чисто и прибрано.
– Это дом эфенди Миты? – громко крикнул албанец и, словно сомневаясь, опять поглядел на ворота – туда ли он попал.
Софка утвердительно кивнула головой. Он вошел и широким шагом направился к матери, засунув руки в белые штаны. Еще не дойдя до нее, он заговорил:
– Кланяется вам эфенди Мита и приказал мне сказать вам…
– Добро пожаловать, добро пожаловать! – ласково перебила его мать и быстро вынесла ему низкий трехногий табурет. – Садись, отдохни! – сказала она, усердно приглашая его сесть.
Албанец с опаской опустился на табурет. Мать, как всегда перед посланными отца, стояла, скрестив руки на животе и слегка склонив голову, жадно и почтительно выслушивая наказы и распоряжения мужа. Софка пошла на кухню варить албанцу кофе. Албанец, нахмурившись так, что отчетливо выступила полоса на челюстях и лбу, показывавшая границу его утреннего умывания, заговорил резким голосом. На мать он взглядывал редко, больше смотрел на свои крепкие, мускулистые ноги в толстых и длинных чулках из грубой шерсти. По его голосу Софка поняла, что он чем-то озадачен. И, догадавшись, усмехнулась. Очевидно, албанец, как и прочие посланные отца, отправляясь к ним, полагал увидеть мать и Софку, как и весь дом, в большей бедности и мысленно готовился в утешение им порицать отца и говорить, что он, мол, живет в Турции не лучше. А вот поди ж ты, ошибся! Он увидел Софку и ее мать, которая, несмотря на свои сорок с лишним лет, выглядела еще молодой и свежей. В глазах ее дрожал огонек, черные как смоль волосы блестели. Правда, вокруг глаз и рта виднелись морщинки, но они были едва приметны на ее свежем, округлом, нежном и, как молоко, белом лице. И если она так хороша в будничном платье, то как же она должна выглядеть, когда приоденется!
И как смиренно стоит она перед ним, как робко расспрашивает о «самом», беспрестанно укоряя себя, что заранее не догадалась приготовить то, что он может потребовать, и вот теперь не в состоянии сразу все передать посланному. Извиняясь, она сказала, что все пришлет со слугой в харчевню, где остановился албанец.
По выражению его лица Софка поняла, какое впечатление произвел на него их дом. В особенности, когда он поглядел туда, где Софка варила кофе, и увидел, как в темной, просторной кухне поблескивали большие, тяжелые подносы и широкие медные сковороды, увидел прямо против того места, где сидел, лестницу, ведущую на второй этаж, у ворот старую ветвистую шелковицу, а еще дальше тумбу, правда, почти вросшую в землю, но со сверкающей мраморной верхушкой. Албанец совсем оробел. Быстро, большими глотками он выпил кофе и сразу поднялся – причем встал не на середину мощеной дорожки, а с краю, как бы боясь ее запачкать, – прося прощения и приговаривая, чтоб мать не спешила и что он будет ожидать в харчевне, пока она все приготовит.
– Я подожду, ханум. Не успеешь сегодня, давай завтра или когда хочешь. День, два, три, не беда, я подожду. Подожду! – приговаривал он, уходя.
Мать проводила его до ворот, а Софка осталась на кухне мыть чашки. Она видела, как, проводив албанца и заперев за ним ворота, мать возвращалась медленными, тяжелыми шагами. Дойдя до колодца, она остановилась и долго там стояла. Потом направилась к погребу. Постояла и перед погребом, очевидно рассматривая что-то внутри, и лишь спустя некоторое время Софка услышала ее зов:
– Софка, пойди к Аритоновым и кликни Ванко!
Софка пошла и скоро возвратилась все с тем же Ванко. Как всегда, увидев мать, он испуганно замер перед ней. Та жестами велела ему сходить на базар за Тоне. Ванко побежал.
Немного погодя появился Тоне. С улыбкой на уже обрюзгшем, чисто выбритом лице, в широких черных шальварах без тесьмы, он мелкими, быстрыми шажками подошел к Тодоре, своей бывшей госпоже. Пока Ванко ходил за Тоне, она сварила кофе, вынесла на медной тарелочке табак, поставила и то и другое возле себя, скрутила сигарету и в ожидании его прихода медленно покуривала.
– Звала меня, госпожа? – спросил Тоне, низко ей кланяясь.
– Садись, садись, – ответила она, предлагая ему кофе и табак. – Да, звала я тебя, не бог весть зачем, но звала. Ты наши бочки знаешь?
– Как же, госпожа! Помню и как их делали. Пришлось ворота ломать, чтобы их внести! Как же, знаю отлично!
– Ну так вот, они… Возилась я кое с чем в погребе, и попадись они мне на глаза. Теперь, знаешь, года стоят неурожайные, и я не могу все их наполнить, потому и позвала тебя, хочу спросить, не поискать ли нам кого-нибудь, кто хранил бы в них вино, чтобы обручи не полопались от сухости. Ты ведь небось знаешь таких. Занимаешься вином. Замок же в погребе, как тебе известно, надежный!
– Да уж это…
И по голосу Тоне Софка поняла, что он наперед обо всем догадывается.
– Да как сказать, госпожа, – начал Тоне ломаться, – конечно, было бы неплохо! Неплохо было бы, да вот я… Есть у меня малость вина, и если ты позволишь…
– Вот и хорошо. Все лучше, чем чужой, – сказала мать, вздохнув с облегчением.
– Ну и ладно. Спасибо тебе! – быстро продолжил Тоне. – Только знаешь, госпожа, я могу взять одну или две, не больше. Все бочки одна ваша семья может наполнить, а я не могу, знаешь ведь, какое у нас положение.
– Ну, сколько сможешь, Тоне. А об остальном господь позаботится!
– Дай бог, дай бог, госпожа! Пусть каждому воздаст по его желанию. А как эфенди Мита? Есть ли какие вести?
– Сегодня утром был у меня один торговец. Говорит, здоров, но приехать еще не может. Занят делами. Шелк на платье прислал Софке и денег, чтобы все было как следует к празднику.
Тоне, хотя и был уверен, что на самом деле все обстоит наоборот, делал вид, что ни о чем не догадывается. Он тут же ушел и с мальчишкой прислал матери за год вперед плату за две бочки, пообещав, остальные, да и весь погреб занять позже, тогда же и замок свой навесить. Мать, по обыкновению не пересчитав денег, хотя каждый раз он подсовывал ей несколько фальшивых грошей, дала мальчику на чай и велела кланяться Тоне и его хозяйке.
Мальчишка ушел. Ворота за ним затворились. Софка видела, что мать продолжала неподвижно сидеть, высыпав деньги в подол и задумчиво глядя в порожние кофейные чашки. Она даже не слышала, как ворота снова отворились и в них проскользнула Магда.
Служанка, как всегда, быстро вошла, нагруженная узлами. Не останавливаясь и не здороваясь с матерью, она прошла прямо на кухню.
– Пришла? – очнулась мать, увидя ее на кухне.
– Да вот, госпожа, еле вырвалась, – ответила Магда, оправдываясь. – Никак не отпускали: то одно, то другое. Просто не отвяжешься. С трудом донесла вот…
Не показывая матери, что она принесла, словно это не стоило ее внимания, она принялась высыпать в лари белую муку, а в медные сосуды и кастрюли выкладывать масло и брынзу, принесенные ею из дому, где все это бережно собиралось ее родными во время поста, чтобы она могла отнести своим хозяевам побольше.
– Магда! – снова позвала ее мать.
– Слушаю, госпожа! – ответила Магда, выбегая с грязными руками и засученными рукавами – она уже начала мыть посуду.
– Сходи в «Пестрый хан» и спроси там торговца, албанца, – приказала мать. – Отыщи его и узнай, возьмет ли он хозяину что-нибудь печеное. Потом зайди в лавку за ситцем. Они уже там знают, какой дать. Только поскорей, а то потом нам надо будет идти. Поняла?
– Поняла, госпожа!
И старая, высохшая, костистая Магда, одетая в полудеревенское, полугородское платье, быстро обула на босу ногу потрепанные туфли и ушла. Причем вышла она не в ворота, а в калитку, чтобы пройти соседними садами и дворами, повидать всех соседей, с. каждым поздороваться, а уж потом кратчайшей дорогой направиться в «Пестрый хан». А Софка наперед знала, что Магда, даже не спросив албанца, сможет ли он что-нибудь взять, начнет давать ему советы, как все довезти, не попортив и не поломав дорогой. Потом примется рассказывать о них, своих хозяевах: о Софке, о ее матери и отце, а больше всего о дяде, у которого она служила. И не для того, чтобы албанец узнал о всех, так как, по ее мнению, все и так должны были это знать, а для того, чтобы своими рассказами запасть в память посланного и чтобы он, когда станет передавать посылку и поклоны, упомянул мимоходом, что была, мол, там еще одна бабка, и тогда он, эфенди Мита, вспомнит ее и поймет, что речь идет именно о ней, о Магде.
Действительно, скоро Софка увидела в окно, как Магда соседними дворами вышла на улицу, которая вела прямо в торговую часть города, где находились базар и разные постоялые дворы. Боясь опоздать, она чуть не бежала, то и дело поправляя свои короткие, небрежно повязанные волосы. Иногда, утомившись, она замедляла шаг. Сбитые туфли, надетые на босу ногу, мешали, она снимала их на время, брала в руки и бежала дальше. И опять поминутно останавливалась: то ребенок бегал посреди улицы, грозя попасть под лошадь или телегу, и надо было отвести его в сторону, то встречался кто из знакомых, и надо было спросить про здоровье.
Прошло много времени, прежде чем Магда вернулась в сопровождении двух мальчишек из лавки с целой грудой ситца. Софка знала, что Магда нарочно прошла с мальчишками у всех на виду, чтобы соседи могли видеть ситец и позавидовать Софке.
Когда день начал клониться к вечеру, подошла пора собираться на кладбище. Сквозь городской гул уже пробивался звон колоколов. До Софки, сидевшей наверху, доносились с базара крики, блеяние овец, шум, суматоха вокруг разгоряченных коней, грохот повозок. Гам и галдеж на базаре все увеличивались, все там утопало в облаках пыли, которую подняли уборщики, подметая и поливая перед лавками. Видно было, как продавцы бубликов покидают базар. Бегут сломя голову на дороги, откинувшись назад под тяжестью корзин, догоняют покупателей. Карманы, набитые мелочью, выпирают и бьют о ноги. Разинув рот, они кружатся вокруг крестьянок и силой суют им черствые подогретые бублики.
– Горячие, тетка! На двадцать пара три! На двадцать пара три!
Крестьянки убегают от них, прячутся, уверенные, что они их обязательно обманут, но сильнее всего шарахаются от лошадей пьяных мужиков, которые не пропускают на базаре ни одного трактира, в каждом выпивая по окке ракии, а потом несутся как бешеные, из-за пазухи у них вываливаются покупки для домашних, но они знай мчатся вперед, давя на своем пути все, а с особенным удовольствием цыган и цыганок. Цыганки в новых желтых шалях и старых антериях бегут перед ними и, думая их умилостивить, время от времени оборачиваются и униженно просят:
– Хозяин, не надо! Смилуйся, хозяин!
– А ну прочь с дороги! – орут мужики. Лошади встают на дыбы, и цыганки в смертельном ужасе разбегаются куда попало.
Внизу суетилась Магда. Не в силах дождаться, когда оденется мать, она взяла корзину с едой и угощением, приготовленными для кладбища, и вышла к воротам. Корзину она поставила себе на голову, так что края шелкового полотенца, наброшенного на корзину, почти закрывали ей голову. Взбудораженная шумом и криками, несшимися с базара, она поминутно заглядывала во двор и звала:
– Идем, госпожа, все уж пошли!
И действительно, слышно было, как на верхних улицах, в соседних дворах и на боковых улицах, где не было толчеи, стучали калитки, и замужние женщины, старухи и слуги выходили и направлялись на кладбище. Некоторые, проходя мимо Магды, спрашивали:
– Пошли, Магда! Госпожа Тодора ушла уже?
– Нет, нет! Сейчас, – отвечала Магда, переступая с ноги на ногу.
Между тем Софка в кухне снаряжала мать. Даже ей было приятно, что мать, одетая во все новенькое, в шелковой антерии, лаковых туфлях, дорогой темной колии, мягко облегающей ее талию, выглядела такой красивой и моложавой. Только вот глаза от одной мысли о кладбище и предстоящем плаче увлажнились и губы горели. Но Софка понимала, что этому была и другая причина – приезд отцова посланного. И хотя отец не передавал, что приедет, появление гонца возбудило предчувствие и надежды, что, может быть, теперь, на пасху, он после столь долгого отсутствия наконец обрадует их приездом. И потому мать, чувствуя себя виноватой перед Софкой за эти свои надежды и мысли о муже, как бы стыдясь своей слабости, отворачивалась от дочери, прятала глаза и вырывалась, недовольная тем, что та так долго ее наряжает.
– Будет, будет, Софкица! – поминутно останавливала она дочь, хотя видно было, что она тоже рада, что платье ей к лицу.
Повязав матери шаль так, чтобы лучше подчеркнуть ее полные щеки и овальный подбородок, и накинув ей на плечи белый мягкий шелковый платочек, она проводила ее до ворот.
Затворив за матерью и Магдой ворота, Софка быстро, почти бегом, поднялась наверх и из окна стала наблюдать за ними. Мать шла с горделивым и счастливым видом, чуть переваливаясь, поводя плечами, и раскланивалась с каждой соседкой, выходившей из своего дома. Женщины присоединялись к ней и шли либо рядом, либо позади. Вон и тетя Симка – ее дом стоит на соседней улице, – смуглая, худая женщина, давно уже вдова. Она все ходит по судам и судится с крестьянами, не в силах поверить, что ее покойный муж мог действительно столько растратить, а землю распродать мужикам, ничего не оставив ни ей, ни детям. Она выходит с младшим сыном и, едва завидев Тодору, подходит к ней и целует руку. И Софка знает, что она при этом говорит:
– Как поживаешь, госпожа? Сегодня у меня был суд, так еле-еле поспела вовремя, чтобы идти на кладбище. – И дальше уже идет с матерью.
Как всегда, мать шествует в толпе женщин впереди всех, как бы предводительствуя; наконец, свернув в боковую улицу, они скрываются из виду. А Софка, изогнувшись, продолжает смотреть в окно, чувствуя как шальвары тяжело облегают ей бедра, а лопатки соприкасаются друг с другом. Вдруг она вздрогнула. Заходящее за горы яркое, горящее, как кровь, солнце заливало город снопами лучей; они гасли в окнах, переливаясь багровыми отблесками от красных ковров. Городской шум постепенно стихал. Над базарной площадью в освещенном еще воздухе поднималось и дрожало облачко пыли. Снизу же, из дома, из кухни и большой комнаты, и даже со двора и из сада, не доносилось ни звука. Софка вздрогнула, встревоженная этой внезапной тишиной и спокойствием надвигавшихся сумерек; раздувая ноздри, она вдыхала свежесть, шедшую из сада. В саду шелестели листья; от травы и цветов исходил влажный, крепкий запах.
Она знала, что все эти ароматы, с каждой минутой усиливаясь, проникнут к ней сквозь тишину. А тишина будет все глубже и шире. Словно утомившись от дневных дел и совершив положенное, жизнь медленно отступит, чтоб отдохнуть в ожидании вечера и ночи. Лишь изредка слышался запоздалый скрип коромысла у колодца, шаги на улице. Слуга или мальчик из магазина поспешно проходил с покупками, которые хозяин сделал на базаре; чаще всего это были выглаженные фески на болванках или новые, сшитые у портного платья. В наступающем сумраке разливалась тишина и только в церквах, как городских, так и окрестных, продолжали звонить колокола. В эту пору Софка всегда испытывала особенно сильный страх. Поэтому она, хотя и знала, что заперла ворота, все же, накинув на голову платок, спустилась вниз. Торопясь, пока еще было видно, она с трепетом вошла в кухню, чтобы закрыть дверь в большую комнату. Туда она не решалась входить, так как в глубине было совсем темно. Затворив за собой и кухонную дверь, Софка почувствовала облегчение. Дойдя до ворот и убедившись, что и они хорошо заперты, она пошла назад, успокоенная и умиротворенная.
Как всегда, когда она в такие вечера, заперев ворота, оставалась одна и шла мимо колодца, ее охватывало сладостное томление. Она уже не решалась подняться на второй этаж и сидеть в комнате одна, так как знала, что на нее сразу найдет «ее настроение». Знала, что, хотя мать пошла на кладбище, что сейчас страстная, скорбная неделя, когда даже улыбаться грех, состояние сладостного возбуждения, как это ни грешно, еще сильнее овладеет ее существом.
И чтобы избавить себя от греха, Софка, делая вид, что занята чем-то, стала слоняться по двору, главным образом у ворот, до которых доходил шум города, придававший ей храбрости. Из сада потянуло живительной, ласкающей прохладой. С кладбища продолжал доноситься тяжелый, размеренный звон колоколов, мучительно отзывавшийся в душе Софки. Неизвестно почему, ее бросило в жар. Она не решалась войти в кухню, а тем более в спальню, большую мрачную комнату на первом этаже со шкафами в стенах и домашней баней. В страхе ей мерещилось, что из шкафов может кто-то вылезти. Против воли она все же побежала наверх. Села у окна на тахту среди мягких, взбитых красных подушек. Тело ее горело, лоб и руки были в поту. Она боялась двинуться, а тем более встать и закрыть окна и двери.
Кто знает, сколько времени она бы просидела так, если бы снизу не послышался стук в ворота. Негромкий и легкий, он мог принадлежать только человеку усталому, не желавшему привлекать внимание прохожих и слабо ударившему разок-другой, лишь бы его услышали в доме и поскорее отворили. Вслед за стуком послышался утомленный голос матери:
– Софка, отвори!
Обрадовавшись, Софка пошла отворять. Да и пора было им с Магдой вернуться, потому что от стен ограды уже веяло запахом накопившейся за день пыли. Но пока она сошла вниз и неторопливо направилась к воротам, Магда, как всегда шедшая напрямик дворами, чтобы прийти раньше матери и отворить ей ворота, и теперь, оставив корзину на кухне, опередила Софку.
– Постой, Софка, я сама, – сказала она, отстраняя Софку и отворяя ворота.
Мать ждала, с трудом переводя дух от усталости, слез и обилия съеденного на кладбище.
– Пришли? – коротко спросила Софка, беря у матери полотенце, в которое, когда они шли на кладбище, были завернуты свечи, базилик и другие цветы, а теперь – печенья и прочие гостинцы.
– Пришли! – ответила мать, входя во двор.
Софка задержалась у ворот, чтобы их запереть. Она слышала, как Магда побежала вперед, чтобы поспеть в дом прежде матери, убрать все с дороги и зажечь свечу, дабы хозяйка не споткнулась обо что-нибудь в полумраке. Софка вошла вслед за ними, раздраженная и усталая от пережитого страха.
Магда уже возилась на кухне. Разожгла огонь в очаге и разбирала большую корзину, которую несла на голове. Она была набита остатками пирогов, которые не удалось раздать на кладбище, а также пирогами и гостинцами, полученными в обмен на то, что они раздали по соседним могилам. И как всегда, когда она возвращалась с поминок, Магда после большого количества выпитой ракии ежеминутно прикладывалась к кувшину с водой. Чтобы не запачкать кувшин, она ловко ставила его на согнутый локоть и таким образом подносила ко рту и пила полными глотками. Затем, так и не утолив жажды, делала передышку. Вода ей казалась приятной и вкусной вовсе не после ракии, выпитой на кладбище; из других колодцев она вообще отказывалась пить, считая, что вода из них никуда не годится и не может идти ни в какое сравнение с их водой. Вздыхая, она приговаривала:
– Ох, и хороша же наша вода! Нигде такой нет!
Чтобы замять неловкость, Магда обернулась к Софке и стала, по своему обыкновению, рассказывать, как было на кладбище: кто какой пирог спек, какое угощение принес; кто пришел рано, кто поздно; кто как плакал и причитал; какого покойника больше поминали: мужа, отца, единственного сына, и до какого времени плакали; кто как был одет. Говорила она главным образом о матерях тех Софкиных подруг, которых, как Магда угадывала, та не любила, и больше всего о Миленковой и Трайковых.
Мать, усталая после кладбищенской суеты, перебила Магду:
– Иди ужинать, Софка! Магда, подай!
Софка не успела ответить, как мать, кивнув головой на корзину с едой и пирогами, стала ей говорить:
– Бери, бери, поешь, хоть попробуй. Ведь знаешь, что и тебе надо поесть за помин души.
Не желая спорить с матерью, Софка согласилась.
Она не любила есть то, что приносили с кладбища. Пироги всегда отдавали запахом ладана, восковых свечей и сухих, полуистлевших венков самшита с могильных крестов. Ей даже слышался запах кладбищенской земли. Магда взяла широкий, низкий стол и, нагнувшись над ним, понесла его к Софке, отталкивая ногами все, что попадалось ей на пути. В середине стола лежал огромный кусок пирога, выделявшийся белизной муки, сдобностью и обилием брынзы.
– Поешь, Софка, – стала потчевать ее Магда, показывая головой на пирог. – Это тебе тетя Стоя послала, уж так она меня просила кланяться тебе и передать, чтоб ты отведала ее пирога, – другим она ни кусочка не дала, только для тебя и пекла.
Мать сочла это безумием и ревниво возмутилась: как будто она сама не может испечь пирога по вкусу дочери; надо это делать сестре, у которой куча детей, а всего добра – домик с виноградником, да и муж к тому же почти поденщик. Мать принялась бранить Магду:
– И зачем только ты брала? Да еще такой кусок, чуть не половина противня? Самой есть нечего, а другим дает…
– Да ничего не могла поделать, госпожа, – оправдывалась Магда, – подошла к ней, а она уж ждет не дождется: «Садись, Магда! Давно не видались!» И давай угощать: то ракия, то то, то другое, и тут же пирог этот сует. Она его загодя приготовила и завернула в полотенце. «На, Магда! Для Софки. Из самой белой муки. На одном молоке и яйцах. Знает тетка, что любит Софка, вот и испекла для нее. И смотри кланяйся нашей Софкице как следует. Давно уж не видала ее тетка! Денька через два постараюсь улучить минутку, зайти повидать ее…»
Матери все это уже было известно, и она махнула рукой, чтоб Магда замолчала. Софка от всего, разложенного на противне, отщипывала понемногу кончиками пальцев и чуть касалась губами. Только теткиного пирога поела побольше.
Мать едва могла дождаться, когда Софка кончит ужинать. Как только она перекрестилась, стряхнула крошки с подола и отодвинулась от стола, который Магда снова унесла на кухню, мать поднялась и начала раздеваться.
– Ну, Магда, стели, – приказала она, раздеваясь. Она развязала платок, освободив голову и полную шею со следами туго стянутых концов платка; сняла антерии, безрукавки и пояса, чтобы дать отдых груди, полным рукам и плечам, еще вполне сохранившим свежесть и привлекательность, несмотря на годы.
Магда тем временем вытаскивала из стенных шкафов свернутые постели, подушки, тюфяки и стеганые одеяла. Тюфяки были дорогие, тяжелые, из чистой шерсти, но старые, и хотя были обшиты совсем новым чистым холстом, нельзя было не ощутить крепкого запаха старых, латаных и перелатаных, плотно слежавшихся матрацев. От того, что они вечно лежали на одном и том же месте, и от ежедневного употребления они только что не покрылись плесенью. Такими же были подушки, длинные, взбитые, но с буграми. То же можно было сказать и о ватных одеялах, когда-то подбитых шелком, тяжелых, теплых, но уже поредевших и тонких.
Постелив постели, Магда принесла и поставила у изголовья кувшин свежей воды, заткнув горлышко листьями; потом унесла на кухню свечу, чтобы Софка с матерью могли в темноте раздеться совсем и лечь. Прежде чем лечь самой, она загасила и залила огонь в очаге, чтобы ночью не вспыхнула искра и, не дай бог, что-нибудь не натворила, не ровен час дом подожжет.
Софка и ее мать раздевались молча. Мать была готова первая. Кое-как перекрестившись и наскоро пробормотав молитву (Софка, как всегда, слышала только конец: «Господи, боже мой, пресвятая богородица, помилуй мя…»), она быстро легла, укрывшись с головой одеялом. И тут же, вздохнув и как бы освободившись от всего, заснула. Слышно было, как в глубоком сне она причмокивает и попыхивает. Софка, обмотав старым платком свои густые волосы, чтобы за ночь они не спутались и утром не пришлось бы их снова расчесывать, легла рядом. Она накрылась тоже дорогим одеялом, но столь вытертым и тонким, что оно отчетливо обрисовывало ее фигуру; а так как она лежала на боку, вытянув руки вдоль тела, хорошо были видны ее округлые бедра и ноги.
Сон не шел. Пальцы на руках горели, ночь становилась все глуше, темнее. Мать давно спала. Из шкафов, в которых лежали постели и которые забыли закрыть, несло холодом, из кухни от очага, залитого водой, – запахом влажного пепла, развеявшегося по комнате. И только с верхнего, этажа сквозь трещины в потолке проникал сухой дух старых досок, дранок и деревянных украшений на полках в комнате и на веранде. И все это глубже и глубже погружалось в ночь и темноту и лишь прерывалось неожиданным звоном противней или медных тазов, задетых мышью, и скрежетом мышей под ларем и квашней. Но все эти звуки покрывал храп Магды, спавшей в глубине кухни у очага. Она спала, как всегда, подложив руку под голову, не раздеваясь, даже туфель не скинув, – ведь, господи боже мой, завтра чем свет она должна встать, подняться раньше всех, ее ждет столько работы!








