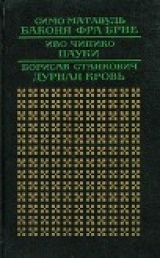
Текст книги "Дурная кровь"
Автор книги: Борисав Станкович
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 15 страниц)
Дурная кровь
БОРИСАВ СТАНКОВИЧ
(1875—1927)
Один из самых известных сербских писателей Борисав Станкович родился в городе Вране, расположенном на юге Сербии, на перекрестке дорог, ведущих в Ниш и Скопле, в Албанию и Болгарию. Во времена турецкого владычества дороги эти имели большое торговое и военное значение. Враняне твердо придерживались веры предков, но в обычаях и нравах усвоили много восточного, особенно высший класс, состоявший из православных купцов.
Станковича, рано оставшегося круглым сиротой, воспитала бабушка. От бабушки он унаследовал дар рассказчика, от покойного отца – лирический талант. Станковичу удалось закончить не только гимназию, но и экономическое отделение юридического факультета в Белграде. Особой страстью к учению он не отличался. Рассказывают, что в Париже, куда его послали учиться в 1903—1904 годах, балканский писатель ничего не захотел увидеть и лишь мечтал за чашкой кофе о своем полувосточном Вране. Нельзя не отметить, однако, что экономическое образование помогло Станковичу разобраться в социальных проблемах южной Сербии, в положении угнетенных своими и турецкими помещиками крестьян, в процессе обогащения и разорения торгового класса, то есть в тех вопросах, к которым он испытывал глубокий и острый интерес. Несомненно также, что в молодые годы Станкович читал сербских и польских романтиков, затем сербских и русских реалистов. Если не из романов Золя, то через белградские литературные круги он был знаком с идеями натурализма. Однако не следует преувеличивать эти литературные влияния. Станкович – писатель весьма своеобразный, с резко выраженными индивидуальными чертами.
Жизненный путь Станковича был тяжек и мучителен. Бедный молодой человек из провинции, без знакомств и устойчивого общественного положения, должен был пробиваться сквозь толпу белградской буржуазии, ценившей лишь деньги и связи. Среди униженных и оскорбленных, в кругу случайных собутыльников из мелких чиновников и не слишком удачливых литераторов Станкович прожил почти всю жизнь. До первой мировой войны он был счетоводом, затем акцизным контролером на пивном заводе. В 1913 году Станковича – в то время уже известного писателя – назначили чиновником в церковное отделение министерства просвещения.
За пятнадцать лет (1898—1913), начав печататься еще на студенческой скамье, Станкович написал почти все свои произведения. В 1899 году вышла книга его рассказов «Из старого Евангелия». Премьера драмы «Коштана» состоялась в белградском Народном театре 22 июня 1900 года; автору было тогда двадцать пять лет.
Рассказы, составившие впоследствии книгу «Божьи люди», напечатала редакция старейшего сербского журнала «Летопись Матицы Сербской» в 1902 году. В том же году вышел сборник рассказов «Былые дни». Начиная с 1900 года в разных повременных изданиях появлялись отрывки из «Дурной крови». Первое полное издание романа вышло в 1910 году. Выдающийся сербский критик и литературовед Йован Скерлич писал вскоре после появления романа:
Можно по-разному судить о деятельности Станковича в годы австрийской оккупации. Известно, что он печатался в прессе, бывшей под контролем австрийских властей, что ему и было поставлено в вину после освобождения Белграда. Известно также, что политические хамелеоны и прислужники оккупантов первыми набросились на Станковича, когда он в 1919 году опубликовал часть своих воспоминаний («Под оккупацией»), в которых показал нравственное разложение сербской буржуазии, стремившейся урвать последний кусок у бедняков. Не лишним будет заметить, что во время второй мировой войны немецкие власти запретили последний том собрания сочинений писателя, содержавший текст «Под оккупацией». Вместе с романом Бранимира Чосича «Скошенное поле» мемуары Станковича имеют первостепенное значение для истории сербского общества в годы первой мировой войны. После 1919 года Станкович почти перестал писать.
По настоянию влиятельных друзей остро нуждавшегося писателя снова приняли на государственную службу. Его послевоенная карьера в министерстве просвещения была неблестяща. Высшие власти все время переводили Станковича из отделения в отделение, сбавляли ему жалованье и наконец 27 марта 1927 года услали на пенсию «по служебной необходимости».
Слава автора «Дурной крови» росла с каждым годом. Он справедливо считается одним из самых выдающихся писателей своей страны. Роман его переведен на ряд европейских языков (итальянский, немецкий, французский и др.).
В первых рассказах Станковича, посвященных жизни родного города, преобладают романтические сюжеты, встречаются сугубо мрачные и надуманные ситуации. В сборнике «Былые дни» несколько наивное восхваление «доброго старого времени» переходит в осуждение средневековой морали патриархального мира. Натуралистическое мироощущение – натурализм в литературе рождается часто из боли, из неприятия нечеловеческих условий бытия – в произведениях Станковича постепенно уступает место реалистическому взгляду на жизнь. К натурализму ближе всего стоят рассказы из цикла «Божьи люди». Автор «Божьих людей» спускается на дно жизни, где тлеет существование юродивых, одержимых, дурачков, составлявших особую касту в полусредневековом Вране XIX века. В зарисовках Станковича нет и следов религиозной мистики. Отрицание общества, окостеневшего в традициях старины, передается не сентенциями, а самой живописью. Из этого периода творчества Станковича особенно следует отметить рассказ «Парапута», в котором обрисована горькая участь молодой вдовы, нарушившей верность мужу после его смерти. Семья заставляет ее в наказание за грех не только каяться до самой смерти, но и прислуживать шелудивому юроду Парапуте.
Театр привлекал Станковича всю жизнь. Обилие диалогов в его рассказах в значительной степени облегчало драматизацию его прозы. После «Коштаны» Станкович приступил к театральной переделке рассказа «Йовча» о затаенной страсти отца к дочери. Мотив взят из жизни старого Вране. Станкович оставил также фрагменты драматизации «Дурной крови». Незадолго до смерти автора состоялась премьера драмы «Ташана» (по рассказам «Парапута» и «Жена покойника»).
Творение молодости Станковича «Коштана» многие десятилетия не сходит со сцен югославских театров. Зрители, пришедшие на ее премьеру, по свидетельству Скерлича, ожидали увидеть полуфольклорное представление с музыкой и пением и обязательной свадьбой в конце. Однако они услышали диалоги, полные лирической страсти и горечи. Все действующие лица – жертвы патриархальных традиций. Они ищут забвения в вине, песне и пляске, но бунт их бессилен и краткосрочен. Порывы безумного веселья быстро стихают, подавленные оледеневшей моралью.
«Коштана» кончается, как и многие фольклорные пьесы, свадьбой. Но свадьба эта похожа на похороны – похороны молодости. Молодые и пожилые мужчины из богатых и уважаемых хаджийских домов сходят с ума, слушая песни красавицы цыганки Коштаны. Но председатель общины приказывает насильно выдать Коштану за цыгана Асана, чтобы пресечь соблазн в городе. Никто не хочет ей помочь: земля тверда и глуха, небо высоко, никто не слышит, нет человеку помощи перед лицом судьбы. Коштану ждут унылые будни, изнурительная работа, преждевременная старость.
Участь Софки – героини самого известного произведения Станковича – романа «Дурная кровь», напоминает судьбу Коштаны.
Два сюжетных мотива использованы в романе. Станкович повествует о семье отуреченных южносербских «патрициев», наиболее ярко представленной эфенди Митой и его единственной дочерью Софкой, первой красавицей во Вране, и о родичах Марко, вождя полуразбойничьего, полукрестьянского племени в пограничной Туретчине.
Быть может, читатель не найдет в «родословной» потомков хаджи Трифуна той ясности, которая проявляется в «Форсайтах» Голсуорси или «Глембаевых» Крлежи. Все же предки эфенди Миты, три или четыре поколения православных купцов, превратившихся в землевладельцев, представлены весьма красочно. После прихода сербов во Вране эфенди Мита теряет свои поместья и скрывается в Турции. Он – левантинец и по всем своим навыкам, и по мировоззрению, сложившемуся в Константинополе. То, что стяжательством, твердостью характера, хитростью и преступлениями приобрели его предки, предприимчивые купцы, эфенди Мита беспечно растрачивает, передав все дела плуту управляющему. Его «господство» состоит в абсолютной праздности, высокомерии, самолюбовании, безграничном эгоизме и восточном франтовстве. Все великолепие эфенди исчезает вместе с его богатством. Тогда он решается «снизойти» до крестьянина Марко, разбогатевшего не то торговлей скотом, не то контрабандой и грабежом, и выдать за его малолетнего сына свою взрослую дочь. За это он требует от него выкуп, что соответствует скорее магометанским нравам (калым). Образ эфенди Миты дан без всякого комментария. Автор не высказывает ни сочувствия, ни порицания, предоставляя судить о его моральных качествах читателям.
Психологический портрет главной героини Софки более сложен. Некоторыми чертами характера она напоминает отца, однако ей свойственны и нежность, и самопожертвование, и чувство прекрасного. Станкович не выдумывал переживания своей героини, чтобы поразить воображение читателя, – он лишь верными и резкими мазками живописал страсти, свойственные среде, которая реально существовала во Вране. Женщины, воспитанные в полугаремном быту, в праздности и довольстве, лишенные интеллектуальных интересов, легко становились жертвами преувеличенной чувственности, в которой проявлялась вся их нерастраченная жизненная энергия. Станкович обнажил, сознательно нарушая патриархальные устои, то, что в ханжеской среде его родного города принято было скрывать. Протест Софки против неравного брака и стоическая жертва, которую она приносит отцу и семье, обнаруживают в ней незаурядную личность. Но над ней висит трагический рок, который сильнее чувств и порывов молодости. Страстные устремления героев Станковича остаются неудовлетворенными, разбиваются о препятствия, зачастую ведут к унижению или гибели. Такова участь не только Софки, но также Коштаны, Ташаны, почти всех персонажей писателя.
Сцена свадьбы Софки – одна из самых сильных страниц в сербской прозе. Героине романа кажется, что она попала в плен к разбойникам, о которых поют эпические песни. Свадебное пиршество, переходящее во «фракийскую вакханалию», настолько своеобразно представлено, что сравнения с натурализмом или иными литературными школами и направлениями тут же пресекаются. Полудикое окружение Марко, где эпические кони понимают каждое слово хозяина и вот-вот сами заговорят человечьим голосом, где снохачество и кровосмешение – остатки каких-то древнейших обычаев, быть может, ровесников группового брака, – дано во всем бешеном проявлении стихийных сил.
Марко все же не решается, по примеру предков, овладеть невесткой. Терзаемый неудовлетворенной страстью, он мчится на коне в горы, где его ждет албанская пуля. Заплачка женщин, скорбный вой всего клана, потерявшего вождя, снова переносит читателя в эпическое прошлое.
Роковые события в последней части романа Станкович объясняет наследственностью: в Томче, муже Софки, обнаруживаются все пороки и необузданные страсти его отца. Античная тема «дурной крови» проявляется также в самом конце повествования (вырождение детей Софки). Всего на двух заключительных страницах обрисована стареющая и глубоко несчастная Софка. В этих страницах весь Станкович – певец трагической участи женщины и всего прекрасного в мире.
Роман вызывает страстное чувство протеста против общества, где все человеческое находится под запретом, где жизнь вколачивается в жесткие рамки отживших канонов, прадедовских обычаев и предрассудков, где предметом купли-продажи становится человек, его красота, молодость, достоинство. В трагедии Софки Станкович увидел отражение глубочайших социальных сдвигов: крушение и самовырождение патриархального мира, стык двух эпох, одна из которых уже изжила себя, а другая еще только-только заявляет о себе.
Проза Станковича, его стиль, то плавно текущий, то неровный и прерывистый, открыли новую эру в сербской литературе. Он развил и углубил психологическую ткань повествования, освободившись от примитивных и часто наивных приемов сербского реализма конца XIX века. Тем самым он приблизил сербскую прозу к достижениям русской, французской и английской реалистической литературы.
Мы не ошибемся, утверждая стилистическую связь Станковича с Гоголем. Следует, например, сравнить ритмическую прозу монолога Митки, одного из героев «Коштаны», о безвозвратно утерянной молодости с ритмикой Гоголя в «Вие» (полет Фомы Брута). Широта раскрывшихся горизонтов, экстатический «полет» в овеянные музыкой пространства родственны у обоих славянских писателей.
Жизнь и творчество Станковича еще ждет своего историка. Более подробный стилистический анализ произведений Станковича покажет, как мы полагаем, его близость к русскому реализму и в то же время еще ярче подчеркнет его оригинальность как творца неизвестного нам ранее мира, выраженного в соответствующей содержанию новой форме.
И. Голенищев-Кутузов
ДУРНАЯ КРОВЬ
Перевод М. ВОЛКОНСКОГО
I
О прапрадедах и прадедах Софки люди знали и говорили больше, чем об ее отце, матери и даже о ней самой.
Это был старинный дом. Похоже, он уже стоял тут, когда город только начинал свое существование. Весь их род вышел из этого дома. Спокон веков по большим праздникам, после обедни, епископы сперва приходили с поздравлениями к ним, а уж потом шли в другие, столь же известные и старые дома. В церкви семья имела свое место, а на кладбище – свое кладбище. На всех могилах лежали мраморные плиты и всегда, и днем и ночью, горели лампады.
Неизвестно, кто из предков построил самый дом, хотя известно, что все они издавна славились богатством. И только о прадеде Софки, хаджи Трифуне, с которого их и начали звать хаджиями, было известно, что он первый осмелился, вернувшись из паломничества, все богатства, укрытые до тех пор в подвалах, амбарах и конюшнях, вытащить на свет божий, разместить и разложить так, чтобы «люди видели». Он построил массивные крытые ворота, как в крепости. Второй этаж поднял, побелил и украсил резьбой. Комнаты щедро убрал дорогими коврами и старинными ценными картинами духовного содержания из Печа, Святой Горы и Рилы; по полкам расставил серебряные тарелки и золотые зарфы. Внизу, у ворот, установил мраморную тумбу, с которой садился на своих знаменитых коней. Как рассказывают, и летом и зимой он ходил в кафтане на меху, с широким поясом, пистолетами и ятаганами, в тяжелых крепких сапогах до колен. С той поры турок-жандарм не смел пройти мимо дома, а уж тем более остановиться перед ним. У ворот всю ночь горел фонарь и дремали три-четыре ночных сторожа. Хаджи Трифун вел торговые дела в больших городах, водился с очень видными людьми и благодаря своим знакомствам, а главное, своему богатству мог смещать и отправлять в изгнание не только жандармов или каймакамов, но даже и пашей. Всем было известно, что по любому общественному делу – будь то новая школа, церковь или монастырь, который требовалось построить, подновить, или по более сложным и рискованным затеям, как, например, смещение какого-нибудь палача или тирана, – надо обращаться к нему. И тогда в богато убранной комнате второго этажа собирались первые люди города, ночь напролет они уговаривались и договаривались, а в конце концов всегда предоставляли хаджи Трифуну поступить так, как он найдет нужным. И Трифун быстро улаживал дело. Чаще всего взятками, а если это не помогало – пулей, причем непременно пулей иноверца, какого-нибудь беглого албанца. Вот почему их семейная золотая лампада горела неугасимо перед распятием в церкви и почему они откупили место рядом с епископским, куда, кроме них, никто не имел доступа. На пасху, рождество и славу они три дня кормили и поили бедняков и арестантов.
Трифун был нрава строгого и крутого. В страхе и трепете держал не только домашних, но и всю родню. Для крестьян, работников в имении Ратае и мельников с водяных мельниц в Собине он был царь и бог. Рассказывали, что кое-кого он даже прикончил. Когда он ездил по своим торговым делам в Турцию, – а обычно он проводил там все лето, – в семье непрестанно поминали его, запугивая его именем. Особенно вдовы, сыновья которых только-только встали на ноги и, вместо того чтобы взять на себя заботу о доме, заменить отца и хозяина, транжирили деньги, – особенно они стращали сыновей «братцем», как называли Трифуна в семье.
– Вот погоди, он приедет. Вчера заходила к ним, сказали: ждем с минуты на минуту. Не желаю я больше дрожать от страха, не стану больше лгать и покрывать тебя. Не хочу, чтоб он, как придешь к нему, таращил на меня глаза: «Ты что покрываешь своего?.. Думаешь, я не вижу и не слышу, что он делает, где шатается и сколько проматывает. Голову сверну ему, как куренку! Да чтоб ни ты, ни он, никто из вас не смел мне на глаза показываться!» Вот потому я и не могу и не стану тебя выгораживать, не хочу, чтоб он на меня потом кричал. Все ему выложу, как только приедет, – посмотришь тогда.
И это помогало, устрашало, ибо каждый знал, что его ожидает. И действительно, стоило Трифуну возвратиться, как к нему стекалась вся родня: снохи, тетки… Мужчины в первый день не решались приходить к нему, зная, что все, что надо, он передаст через женщин.
Женщины поднимались на второй этаж и проходили на веранду, где он обычно сидел. Со страхом и смирением, не смея даже взглянуть на него – таким величественным и грозным он им представлялся, – они склонялись в поклоне.
– Приехали, братец?
– Приехал! – кратко отвечал он скучающим голосом.
А уж которую он особо вызывал к себе наверх, та просто обмирала. Знала, что это не предвещает ничего хорошего. Скорее всего муж провинился. Либо не вернул занятых денег, либо обманул его, не вложил деньги в дело и истратил их на что другое. Но при всей своей строгости хаджи Трифун не забывал даже самой бедной и дальней родственницы – каждой из путешествия привозил подарок, каждую хоть чем-нибудь да порадует.
Говорил он всегда мало. Но что скажет, то скажет! Слова его и изречения долго помнились и повторялись: «Эх, вот так-то и так-то говаривал покойный хаджи Трифун». Если он не был в дороге, то все время сидел дома: летом наверху, на веранде, зимой внизу, в большой просторной комнате. Он проводил там весь день, курил, пил кофе и отдавал распоряжения.
Никто не перечил его воле, и все же со своим единственным сыном хаджи Трифун никак не мог справиться. Дочерей он пристроил, выдал замуж по своему выбору. Но с сыном, который родился поздно, когда он уже состарился и когда уже никто не думал, что у него может быть ребенок, да еще сын, наследник, с этим «последышем» он никак не мог совладать. Сын, наперекор всем, лишь только подрос, не желал повиноваться отцовской воле. «Почему?» – недоумевал старик. То ли потому, что, состарившись, он не мог, как прежде, разъезжать по торговым делам, зарабатывать и приносить в дом, и это пошатнуло его авторитет; то ли – и это сильнее всего огорчало старика – кто-то восстанавливает, настраивает сына против него. И кто же, как не мать, ведь до рождения сына она была ниже травы, тише воды. Правда, она и потом не осмеливалась открыто перечить мужу, не выполнять его приказаний, но тем не менее он чувствовал, что она стала другой. Словно ей в конце концов надоело пребывать в постоянном страхе и трепете и она махнула на мужа рукой – пусть себе ругается, приказывает слугам, распоряжается крестьянами – и всецело занялась сыном, всю себя посвятив заботам о нем. Всюду она брала сына с собой – и к дочерям и к родным, с ней он ездил по хуторам, славам, храмовым праздникам, дальним родичам. И мать и сестры наперебой старались угодить мальчику. Что бы он ни сделал, ни натворил – для них все было свято. Они и мысли не допускали, что он может совершить или совершил что-нибудь дурное и безобразное. Старик же, больше из ревности, а также замечая, что сын, окруженный всеобщим вниманием, становится чересчур изнеженным, дулся на него, говорил, что видеть его не может. Но бить, как бил других, – был не в силах, потому что и сам очень его любил. Правда, он никогда этого не выказывал; даже когда сын болел, он не спускался к нему; но поднять на него руку, как он поступал с другими – слугами и крестьянами, – не мог.
Когда же сын начал водиться с одними турками да бегами, пить с ними и даже ходить в их гаремы и путаться с их женами и любовницами, старик чуть рассудка не лишился.
– Если его к этому тянет, – бушевал он, – так хаджи Трифун тоже не святой. И он когда-то был молод. Мало ему поместий да крестьянских жен. На что ему турчанки, иноверки? У турчанок кровь горячая, сердце податливое, даром, что ли, у них один муж на четверых. Все соки они из человека вытягивают! Вот потому-то, – объяснил старик, – сын его так худ и бледен, больше похож на бабу, чем на мужчину. И смотреть-то на него тошно!
Когда же, после очередного потока ругани и брани, он вдруг узнавал, что сын опять устроил с бегами дебош всем на удивление и вернулся домой на заре, Трифун призывал к себе не сына, а мать.
– Слыхала?
Мать прикидывалась непонимающей.
– А что?
– Как так что? – взвивался старик и начинал разуваться, чтобы кинуть в нее башмаком, – так-таки ничего не слыхала? Где ты была? Очумела, что ли? Раз я не спускаюсь, так уж ничего, думаешь, не вижу и не слышу? Когда он вернулся сегодня? А?
– Как когда? – упорно продолжала она изумляться. – Мальчик пришел рано, лег, вот и сейчас еще спит.
Терпение Трифуна лопалось. Он бросался на нее с башмаком или чубуком в руке.
– Вон, убирайся и ты с глаз долой! – ив ярости откидывался на подушку.
Злился и бесновался он в таких случаях не столько на сына, сколько на нее, на ее, видите ли, превеликую любовь к сыну, на то, что она якобы во имя этой любви все время врет и защищает его, словно он только ее сын и она одна его любит и желает ему добра.
А ведь знает, когда он вернулся. Один-единственный раз стукнул сынок кольцом на воротах, и мать сразу выбежала из дома, наверняка даже и не спала, поджидая его. Слуге, который, как водится, спал с ружьем в руках возле ворот, она не позволила их отворить, отогнала со словами:
– Дай я. Ты когда отворяешь, больно стучишь, еще старика разбудишь.
Старик между тем понимал, что делала она это не потому, что шум мог его разбудить, обеспокоить и прогнать сон, а лишь для того, чтобы он не слышал, что сын возвращается на заре, в неурочное время.
Так в постоянных ссорах, брани и размолвках с сыном старик и умер. Даже заболев, он как бы назло им, а особенно жене, не сказал ничего, ни разу не пожаловался, лежал себе неподвижно наверху, на веранде, только со слугами и разговаривал. Там однажды и нашли его мертвым.
И с тех пор, со смерти хаджи Трифуна, в доме воцарилась скрытая от постороннего глаза роскошь, жизнь, полная всяческого изобилия, красивых женщин, изысканных нарядов и еще более изысканных яств. Булочная, выпекавшая только для них, процветала – столько всего поглощала эта семья. Из дома никогда не доносилось ни ссор, ни побоев, ни детского писка, как бывало у соседей. Никто даже похвастаться не мог, что слышал когда-нибудь громко произнесенное бранное слово. А если и случались ссоры, размолвки и даже смерти, то и это происходило в тишине. Неизменной заботой дома было жить как можно спокойней, лучше и в возможно большем изобилии, чтоб комнаты были всегда убраны, битком набиты разной утварью и жарко натоплены, чтобы в доме и во дворе шелестели мягкие женские одежды, чтоб лица у всех были белые, нежные, чистые, холеные. Постоянно прикупались соседние с домом участки и амбары. Конюшни, находившиеся сперва возле дома, отодвигались все дальше и дальше, чтоб подводы с зерном и провизией не нарушали домашнего покоя. А сад постоянно расширялся и пополнялся прекрасными деревьями лучших пород: сирийской шелковицей, черешней, вишней, дорогими, редкими породами роз, низкорослой яблоней, дававшей лишь по нескольку яблок в год.
Женщины знали одну заботу – наряды и украшения. Кроме того, они изощрялись в приготовлении заморских блюд, а также в сложных и замысловатых вышивках. Но все же главной заботой было холить свою красоту и свое тело, быть как можно белее и изысканней. Целью их жизни стало, нежа и украшая себя, затмить яркостью своей красоты остальных женщин, а всех мужчин в доме, не считаясь ни с родством, ни с возрастом, покорить и свести с ума.
Так же и мужчины: они тоже жили какой-то своей жизнью. Нигде не показывались. Хотя в торговых рядах, в самом центре, у них и был лабаз с солью и коноплей, но служил он не столько для торговли, сколько для расчета с крестьянами и для переговоров с арендаторами. Да и в лабазе-то их никогда не увидишь, – все главный приказчик сидит. Еще реже появлялись они на хуторах в виноградниках. Ездили только на хутор в Нижнее Вране. Но больше прогулки ради. До хутора было рукой подать, и там можно было, в особенности летом и осенью, прекрасно отдохнуть в тиши и на свежем воздухе. Хутор находился за полем, его окружали стены и ряды высоких тополей, убаюкивающих своим неумолчным шелестом; двухэтажный дом утопал в зелени. С этим уединенным хутором и домом было связано столько легенд и былей! Только тут и можно было увидеть кого-нибудь из мужчин, жизнь которых состояла лишь в стремлении роскошно одеваться и продлить свой век как можно дольше. Поэтому они и проводили большую часть года на окрестных курортах, где лечились от последствий беспорядочного образа жизни, чтобы потом на первом же пиршестве, славе или ужине иметь возможность снова напиться и наесться до отвала. Приготовления к Юрьеву дню, дню святого покровителя их семьи, начинались за две недели. В это время можно было наблюдать, как со всех сторон стекалась в их дом родня, обычно тетушки победнее, которые оставались и ночевать, чтобы побольше успеть намесить, наготовить, прибрать. По три раза заводили тесто, если почему-либо оно не выходило так, как хотелось. Несколько дней совещались о стирке, мытье полов, убранстве комнат. Всем, от малого до старого, шилось новое платье. Получали обновки даже слуги и, уж конечно, служанки, которых всегда держали несколько, как правило, брали с собственных хуторов. Им перепадали платья, всего несколько раз надеванные, но либо цветом, либо покроем вышедшие из моды. Все это готовилось заранее, люди лезли из кожи вон, только чтобы день славы прошел как надо, чтобы всех превзойти, чтобы гости были поражены и потом еще многие месяцы говорили и изумлялись, женщины бы восклицали: «Ай, что было на славе у хаджи Трифуновых!» – а мужчины вспоминали бы на базаре, как после славы веселье и попойка продолжались, по обычаю, на хуторе в Нижнем Вране. Там в компании видных греков, валахов и первых бегов-турок, которых из-за веры нельзя было принимать дома, они запирались и пускались в настоящий разгул. Привозили из Скопле танцовщиц, из Масурицы музыкантов с духовыми инструментами и зурнами, цыганок, причем не городских, из цыганского квартала, а из больших окрестных сел и придорожных харчевен, так называемых джорговок, славившихся своим хрупким, жарким телом и сладострастным взором. Музыкантов помещали в отдельной комнате, чтобы они не видели, что происходит в соседней, и в течение нескольких дней из хутора в город доносилась ружейная пальба и можно было видеть, как взлетали ракеты. А позже по секрету рассказывали, как ночью на хутор приезжала знаменитая Савета. Это была не обычная продажная женщина, а богачка, обладавшая огромным состоянием, оставленным ей мужем. И о ней говорили, что она, хоть и тайком, бывала на хуторе и бражничала вместе с ними. И наконец вспоминали, как в конце веселья начиналась картежная игра, во время которой хозяева, как того требовали обычай и приличие, проигрывали целые поля и виноградники.

Вот в чем состояла жизнь мужчин этого дома; вся остальная жизнь – все, что происходило на улицах, у соседей, на базаре, в торговле, – не только была далека от них, но они сами всячески старались отодвинуть ее от себя подальше, чтобы и дом и усадьба не имели ничего общего с городом. И именно в этом стремлении к полному отчуждению они, казалось, видели главный смысл своего существования. Этого непреложного правила они придерживались даже в мелочах. Так, например, кушанья в их доме никогда не подавались жирные, жареные и острые, как у прочих, а, наоборот, легкие, пресные и только на масле – ни в коем случае не на свином сале, тяжелом для желудка. Отличались они и выговором: у греков, валахов и турок, с которыми они больше всего и знались, они переняли мягкость произношения и привычку оканчивать фразу особым словечком, вроде джанум или датим[2]2
Правильно (тур.).
[Закрыть]. Но легче всего их было узнать по платью и манере одеваться. Никто из них не носил башмаков или сапог – только лакированные туфли. Штаны, правда, и у них вверху были широкие, спадавшие сзади тяжелыми складками, но без всякой тесьмы и внизу узкие и короткие, чтобы лучше были видны белые чулки. Четки у них тоже были не как у всех и даже не с крестом, как у паломников, а мелкие, черные, из дорогих камней; их можно было зажать в кулак, какой бы длины ни была нить. И брились и подстригались они по-особому. Лица у них и без того были схожие – узкие, худые, но они еще и усики носили одинаковые – маленькие, вровень с губой.
Чтоб о них все же не совсем забыли, они регулярно появлялись на ярмарках и празднествах; давали щедрые пожертвования на постройку школ и церквей. А потому, когда выбирали попечителей церкви или какого-либо другого общественного достояния, всегда выбирали и членов этой семьи, и не столько из-за того, что надеялись приобрести в их лице совестливых радетелей, сколько из-за денежных пожертвований и приношений. Да и обидеть их боялись, потому что знали, что, если случайно обойти их даже в самом незначительном общественном деле, это проявление; невнимания они примут не с огорчением, а с оскорбленной гордостью: «Да разве дождешься в наше время благодарности!»
И очевидно, из-за этого неблагодарного внешнего мира, которого они так чурались и избегали, но которого в то же время и побаивались, зная, что люди из зависти всегда готовы и посудачить, и позлорадствовать, и понасмешничать, они издавна все, что бы ни случилось в семье, старательно скрывали и хранили в тайне. Лютые ссоры при дележе имущества, самые дурные страсти и наклонности, так же как и болезни, держались в секрете. Никто ничего не должен был знать и видеть. А если что и случалось, каждый, собираясь выйти из дому и не доверяя самому себе, подходил сперва к зеркалу и проверял, не видно ли чего-нибудь у него на лице или в глазах.











