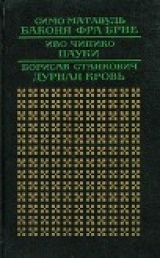
Текст книги "Дурная кровь"
Автор книги: Борисав Станкович
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 15 страниц)
IV
Софка всегда, с тех пор как себя помнила, знала обо всем этом. Никогда ни о чем не расспрашивая, она чувствовала и понимала все, что происходит вокруг нее, точно так же, как она ясно представляла себе свою собственную судьбу. Еще ребенком она была уверена, что станет красавицей и что красота ее с каждым днем будет все сильнее поражать и удивлять людей. По общему мнению, такой красотой могла быть отмечена только она, дочка эфенди Миты, представительница их дома, больше никто.
И она не ошиблась.
Софка всегда думала, что красота сделает ее не столько гордой, сколько счастливой. И не потому, что она могла мучить и сводить с ума мужчин, а потому, что красота ей самой доставляла много радости. Софка все больше следила за собой, все больше любила себя, сознавая, что, когда она вырастет, красота ее будет не обычной, заурядной, выражающейся в пышности форм, а совсем иной, подлинной, неземной красотой, которая появляется на свете редко и долго не блекнет, становясь все ярче и обворожительнее, и аромат которой чувствуется в каждом движении.
Все так в точности и исполнилось. Она стала взрослой девушкой, перешагнула за двадцать, а там, поскольку никто не осмеливался к ней посвататься, и за двадцать пять, и не только не утратила своей красоты, но казалась еще более ослепительной и прекрасной. Исчезла только излишняя полнота, во всем же остальном она приобретала все большую отточенность и выразительность. Спина и плечи были по-прежнему налитые, округлые и крепкие; предплечья тоже полные и упругие и вместе с полными плечами делали ее фигуру стройной и статной, подчеркивая тонкую талию и крутые бедра. Руки были немного длинноватые, худощавые, с тонкими, нежными пальцами и еще более нежным, полным запястьем, показывающим ослепительную белизну ее кожи. Лицо ее отличалось не столько свежестью, сколько белизной; слегка продолговатое, с мягкими чертами, немного выдающимися скулами, но с ясным, высоким лбом, черными, большими, миндалевидными глазами, всегда румяными щеками и тонкими сжатыми губами, лишь в уголках немного влажными и страстными. Красота ее, в стремлении сохранить себя, словно застыла, окаменела, и только волосы росли, как и прежде, пышными. Они были черные, мягкие, тяжелые, так что, распуская их, она чувствовала, как они темной и легкой тенью скользят по ее шее и плечам.
Но по мере того как она росла, превращаясь в известную всему городу красавицу, отец приезжал все реже и реже, и Софку это очень тревожило. Она понимала, что причина в ней. Словно он ее боялся. Бывало, пройдет и лето, и осень, и зима, а о нем ни слуху ни духу, даже и нарочного не шлет. Позднее случалось, что он пропадал на два-три года, не подавая о себе никаких вестей.
Мать обмирала от страха. И не потому, что боялась остаться без куска хлеба, в полной нищете. С бедностью она уже давно начала бороться и почти уже договорилась о продаже верхнего участка сада за домом, выходившего на улицу. Договорилась, конечно, с Тоне, так как только ему можно было довериться: он не станет выкладывать людям и хвастать, что сад его и что он его откупил совсем, а по-прежнему будет говорить, что взял в аренду. И то, – скажет, – пришлось долго упрашивать хозяев, чтобы они разрешили ему поставить там кое-какие склады.
Итак, очевидная бедность пугала мать меньше, чем все более редкие появления отца. Зная его нрав, она боялась, что он в конце концов совсем покинет их и никогда больше не вернется. И тогда – о себе она не думала: ее время прошло и она была готова на все, – что будет с Софкой, как она, уже взрослая и прославившаяся своей удивительной красотой, переживет такой срам и позор?
Софка же, видя мучения и страхи матери, жалела больше ее, чем себя. О себе она не беспокоилась. Еще вначале, когда она почувствовала, как наливается ее грудь, как округляется ее тело, как от всякого неожиданного прикосновения, от шума и звука шагов она ежится и вздрагивает, как от одного взгляда мужчины кровь кидается ей в голову, а ноги врастают в землю от сознания, что, если он подойдет к ней, она обомлеет и не сможет двинуться, а тем более сопротивляться и защищаться, – уже тогда, в самое трудное и тяжелое для нее время, она была убеждена, что не родился еще тот, кто был бы равен ей и достоин ее, дочери эфенди Миты, и ее красоты.
И поскольку она с самого начала знала, что ей никогда не встретить человека, который был бы выше ее и по происхождению и по красоте и которому она сочла бы за счастье отдать свою красоту, – а только такому человеку она могла бы позволить приблизиться к себе, любить себя, – поскольку она давно с этим примирилась, на все последующее она уже смотрела спокойно. Все было ясно, и Софка даже испытывала от этого удовлетворение. Ничто не могло ни смутить, ни напугать ее. Ни один человек не представлял для нее опасности, и она чувствовала себя совершенно свободной. В любое время могла выйти постоять за воротами. Молодым людям смотрела прямо в глаза. Даже, когда хотела, ходила одна по улице и к соседям. И по ночам ничего не боялась. Благодаря этому чувству свободы Софка не завидовала подругам, тому, что они, будучи моложе ее, давно повыходили замуж и теперь слыли хозяйками с достатком, так как мужья их богатели. Ничто не могло вызвать у нее злорадства. Сознавая свое превосходство, довольная собой, а особенно своей несравненной красотой, она на все смотрела с равнодушием.
Стоя у ворот, Софка при виде мужчины никогда, как требовал обычай, не пряталась и не выглядывала, чтобы посмотреть вслед, когда он пройдет, как делали другие девушки. Если она выходила за ворота, она стояла там без всякого стеснения, нисколько не стыдясь своей красоты и в особенности пышной груди, другая на ее месте прикрывалась бы платком – одни глаза оставляла бы. Софка этого никогда не делала. Непринужденно заложив руки за спину, слегка привалившись к закрытой створке ворот, она стояла, выставив одну ногу вперед, не спуская платка на лоб и не прикрывая цветов в волосах; она выходила на улицу так, как ходила дома, только держалась еще более свободно и, словно кому-то наперекор, равнодушно выпячивала нижнюю губу, отчего в уголки рта, ложилась легкая тень. Каждого прохожего она провожала пристальным взглядом, от которого тот терялся и, потупя взор, поспешно опускал голову, почтительно ей кланяясь.
Если шло двое и один из них не знал Софку или слышал о ней, но никогда не видел, то до нее всегда доносился такой разговор:
– Кто это, чья такая, а? – спрашивал тот, изумленный, прямо ошарашенный ее красотой и необычно смелым и дерзким поведением.
– Софка, дочь эфенди Миты! – раздавалось в ответ.
И всегда в разговорах о ней были лишь страх, удивление и уважение; ничего, что говорилось обычно о других женщинах, никогда не произносилось. Поэтому она всегда могла чувствовать себя свободно.
Так же просто и свободно Софка вела себя дома. У окон верхнего этажа, выходящих в сторону города, она тоже не пряталась, а, перегнувшись через подоконник и опираясь на него, смотрела на улицу равнодушным взглядом. Часто она проводила здесь целые дни; подперев лицо ладонями, отчего щеки еще больше наливались пламенем, она наполовину высовывалась из окна и, тихонько покачиваясь, испытывала особое удовольствие от прикосновения груди к подоконнику, от ощущения гибкости и послушности тела.
Особенно любила она сидеть у окна по праздникам, разглядывая народ на улице, по соседним дворам и даже около церкви и торговых рядов, – все это было рядом.

Равнодушно усмехаясь, наблюдала она за тем, как женщины расходятся из церкви, куда они ходили не столько ради службы божией, сколько ради того, чтобы показаться в новых, первый раз надетых платьях. Вот дочка газды Миленки Ната, молодая, полная, с чистым лицом. Каждое воскресенье она возвращается из церкви с отцом и мачехой. Отец идет позади, на его мясистом лице играет улыбка, он уже не в турецких штанах, а в европейском сюртуке и брюках – все ради второй, молодой жены, чтобы тоже выглядеть моложе; смотрит он больше на жену, чем на дочь. Но Ната этого не замечает. Она довольна тем, что отец всюду берет ее с собой, не понимая, что делает он это опять же ради мачехи, поскольку не положено выходить с женой, а дочь, да еще на выданье, оставлять дома. Софка всегда смотрела на Нату с сожалением: ничего-то она не понимает, знай себе радуется, что на ней новое платье, и беспрестанно оглядывается – все ли на нее, на такую красавицу, обращают внимание.
А сколько раз Софка наблюдала за дочерьми шорника Ташко, что жили на той же улице, несколько выше их дома. Их было четыре. Все погодки. Родители, хоть и разбогатели, были еще совсем деревенскими, но дети, и в первую очередь дочери, скоро стали известны всему городу своей изысканностью. Одевались они одинаково, большей частью в платья из легких, тонких и светлых тканей, во всяком случае таких, которые могут привлечь внимание. Лица у них были нежные, глаза бархатные, никто бы не подумал, что у них такие родители, в особенности отец, толстощекий, с грубой, загорелой мужицкой физиономией. Софка видела, как то одна, то другая, радуясь своей красоте и успеху у мужчин, или торчит у ворот, или выбегает на улицу, чтобы получше кого-нибудь разглядеть да показать, что она тут, поджидает. Они не пропускали ни одной службы в церкви, ни одной свадьбы или вечеринки. Даже на ярмарках в ближайших селах они непременно бывали. Сперва ездили в простой повозке вместе с родителями, запасшись на целый день провизией и вином. Позднее, когда еще больше разбогатели и братья стали взрослыми, закладывали собственный экипаж, лакированный, на рессорах, и отправлялись уже без отца, с матерью и одним из братьев. Выезжали они не как раньше – с раннего утра и на целый день, а лишь после обеда, как и все прочие богатые семьи, у которых имелись собственные экипажи и которые могли поэтому ехать когда угодно, побыть там немного, поглядеть и тут же вернуться. Ездили они туда прогуляться, в то время как простой народ ездил ради самой ярмарки, чтобы, пользуясь праздничным днем, отдохнуть, вволю поесть и выпить.
Но хотя Софка была вполне довольна собой, никому ни в чем не завидовала, а потому никогда ни о чем не тревожилась, а тем более никогда не чувствовала себя несчастной, все же зимой ей почему-то бывало легче. Вероятно, этому способствовали замкнутость и уединение, приходившие с наступлением холодов; начиная с поздней осени в течение всей долгой суровой зимы она почти не выходила из дому. Мать сходит к родным, да и то ненадолго, норовя в тот же день вернуться. Причем она спешила не потому, что Софка была дома одна или, как другие матери, опасалась чего-нибудь плохого, а потому, что знала, что в зимнюю пору Софка, если ей понадобится, не сможет выйти даже к соседям. Помимо этих отлучек матери, зимнее уединение нарушалось еще праздниками, но только большими, такими, например, как рождество. В эти дни, поскольку приходили знакомые, правда, самые близкие, живущие по соседству, надо было приодеться и тем самым как бы выйти в жизнь, всю же остальную зиму было совершенно тихо. В стенах дома можно было чувствовать себя в полном уединении и наслаждаться полной свободой.
Зима еще и потому была для Софки легче и приятней, что после нее, особенно с приближением весны, ей уже не было так хорошо. Она испытывала какое-то беспокойство, тревогу. То ли потому, что приходил конец зимнему уединению и замкнутости и жизнь, до того приглушенная и заточенная в четырех стенах метелями и морозами, выбивалась из домов и разливалась по улицам, базарам, ярмаркам и гуляньям, вовлекая в свой круговорот и мужчин и женщин. То ли потому, что ее начинало охватывать какое-то смятение при мысли, что она должна будет, чтобы не остаться совсем забытой, не ради себя, а ради матери и чести дома выйти из своего убежища и жить одной жизнью со всеми людьми. А между тем у нее не было с ними ничего общего, все ей казалось чуждым и диким.
Но всего хуже было то, что из года в год, и всегда с приходом весны и лета, Софка все с большим страхом и трепетом замечала – и в этом она никому, даже самой себе, не признавалась, – что по мере того как ей прибавлялись годы, не убавлявшие, правда, ее красоты, у нее к обычному беспокойству, вызванному необходимостью общения с людьми, все сильнее примешивалось иное беспокойство, жалившее ее подобно змее, – настоящий ужас, что вот нынешней весной или летом, может быть, на первой ярмарке появится у церкви новая красавица, которая сразу отбросит ее в запечек и превратит в старую деву.
Однако Софка была уверена, что этого никогда не случится. Она допускала, что, как обычно, весной какая-нибудь девушка, выведенная на люди впервые, подобно всякой новинке, привлечет всеобщее внимание своей молодостью и здоровьем, но чтобы она превзошла ее красотой, это было невозможно. Ни теперь, ни впредь. Пусть даже черты ее лица поблекнут, она была уверена, что и тогда никто не сможет ее превзойти. Если, не дай бог, это случится, она знала, что способна пойти на все. Чтоб только доказать свое превосходство, она перед всем светом бы открылась, всех бы убедила, что ни одна женщина никогда не сможет сравниться с ней красотой, сладострастием, пылом чувств. Да, это страшно, но она была бы не Софкой, если бы так не поступила.
И тут же, напуганная этими мыслями, растерянная, она принималась укорять себя и бранить: что это с ней, к чему думать о таких вещах, которые другим и в голову не приходят? И до каких же пор? Неужели ей никогда не быть счастливой и довольной? Когда и она наконец научится, как другие девушки, ни о чем не думать, и быть счастливой просто от того, что живешь. С утра до поздней ночи работать. Незаметно для домашних стараться урвать побольше лакомых кусочков, жадно, досыта обедать и ужинать и с трудом дожидаться минуты, чтобы без сил свалиться в мягкую постель и мгновенно заснуть мертвым сном. И так каждый день. Предоставить все судьбе, а самой, пышущей здоровьем, с упоении ожидать сватовства, венчания, когда и у нее, как у ее замужних подруг, появится свой дом, где она будет хозяйкой, когда и она вместе с мужем будет ходить по родственникам, славам и ярмаркам и стараться как можно веселее провести время, как можно сытнее и слаще поесть да как можно красивее одеться.
И как только такие мысли начинали ее одолевать, Софка силой заставляла себя быть такой. Сразу бралась за дело, обычно за какую-нибудь трудную замысловатую вышивку. Вся уходила в работу, загоралась, радовалась. Целый день головы не поднимала. Мать не могла дозваться ее обедать или ужинать. И по мере того как работа продвигалась вперед, ярче вырисовывался узор, оживал рисунок – причем узор и подбор цветов были настолько сложны, что другая бы на ее месте потратила месяцы, чтобы разобраться в них, – Софка все больше и больше увлекалась делом и сразу чувствовала себя по-другому. Спала спокойнее, по утрам бывала свежее. Смотрясь в зеркало, замечала, что кровь постепенно приливала к щекам. Пища ей казалась вкуснее, а воздух ласкал прохладой. В любую минуту она могла уснуть глубоким, сладким сном. Однако это продолжалось недолго. Как только работа подходила к концу, Софку начинали охватывать подавленность и безразличие. По утрам она уже не вставала такой освеженной. После неспокойной ночи просыпалась с тяжелой головой, руки дрожали, шею и тело ломило. Она приписывала это усталости и напряжению.
Тогда она принималась бродить без цели, не находя себе места, как больная… пока наконец, и всегда неожиданно, на нее снова не находило уже известное ей состояние: тело вдруг охватывал непонятный трепет и сладостная истома. И вся она, казалось, погружалась в мир неведомых наслаждений. Даже губы были сладкими, и она поминутно их облизывала. От безысходной тоски готова была застонать. И тут она понимала, что снова на нее нашло и подчинило себе знакомое «раздвоение»: ей начинало казаться, что в ней, Софке, заключен не один человек, а два. Одна Софка – это она сама, а другая была как бы вне ее, рядом с ней. И эта другая Софка утешала ее и нежно ласкала, так что первая, словно преступница, едва могла дождаться ночи, чтобы лечь в постель и остаться наедине с другой Софкой. Она чувствовала, как та страстно целует ее в губы, гладит ей волосы; как руки касаются ее колен и бедер и как, зная о ее самых сокровенных безумных стремлениях и желаниях, она обнимает ее так сильно, что Софка сквозь сон слышит, как хрустят ее кости. Наутро она оказывалась далеко от постели матери, вся в поту, с подушкой в объятиях. Днем, скрываясь от всех, она уходила в сад за домом и там, словно обезумев, разговаривала с цветами. Каждый цветок таил в себе одно из ее желаний, в каждом чириканье птиц ей чудилась то какая-то неспетая песня, то чей-то затаенный вздох.
И тогда у нее вдруг возникало уже не раз испытанное необъяснимое чувство… Все, что она видела, казалось, когда-то – она и сама не знала когда – уже существовало и жило именно таким же образом: все, все – и сны, и этот сад, и цветы, и деревья, и небеса над ними, и горные вершины, обступившие город, и сама она, Софка, в этом самом платье, сидящая вот так же возле цветов, и даже сам дом, и голоса, и шаги матери и других людей, и сами слова, возгласы, пожелания, – все это уже было раньше. И чем ближе к вечеру, все это вместе с ней как бы теряло земной облик, становилось ярче, самобытнее, чарующе, великолепнее, так что, возвращаясь домой, она от восторга и счастья протягивала руки к небу и едва сдерживалась, чтобы не запеть во весь голос. Но не смела. Старалась, чтобы мать ничего не заметила и потому, хоть и не была голодна, через силу заставляла себя есть, лишь бы не привлечь внимания матери, и тут же уходила.
Уходила якобы для того, чтобы лечь спать, на самом же деле для того, чтобы как можно скорее остаться наедине с собой и, укрывшись одеялом, отдаться сладостным снам с объятиями и ласками. И в конечном счете, хотя Софка и была уверена, что никогда не выйдет замуж, все ее сны сводились к мечтам о брачном счастье, о брачной комнате с ложем и прочей мебелью… Ей представлялось всегда одно и то же: огромная, роскошная комната, искрящаяся разноцветными огнями. Рядом другие комнаты, так же обставленные и украшенные полотенцами и подарками, которые она принесла в приданое. Внизу, во дворе, бьет фонтан, желтые струи его, озаренные светом из ее комнаты, горят как янтарь. Слышится музыка. Новобрачный, усталый от веселья, но все еще в приподнятом настроении, с увлечением слушает песни, которые на прощанье поют сваты, оставляя молодых одних. У него высокий лоб, черные, довольно длинные усы. Одет он в шелк и тонкое сукно. Одежда его издает крепкий запах. А она ждет его в постели, в брачной рубашке, утопая в море света, шепота фонтана, музыки и песен. И хотя он еще не подошел к ней, она уже ощущает на себе его тело, жар его губ. Его голова на ее груди, его руки сжимают ее до боли… И вот его приводят. Безумные, неистовые поцелуи, страстные объятия; слияние в бездонной пучине любви…
Потому-то Софка всегда любила одиночество. Даже оставаясь в доме совсем одна, когда мать уходила либо на кладбище, либо по делу и не возвращалась до глубокой ночи, Софка любила сидеть в темноте. Огражденная воротами и стенами от постороннего глаза, чувствуя себя в полной безопасности, она поднималась наверх. И чтобы совсем прогнать страх одиночества и темноты, предавалась грезам. Смело оголяла грудь, расстегивала пуговицы на рукавах и шальварах, чтобы ощутить, как она сможет одним движением скинуть с себя все. Она любовалась своим обнаженным телом, сладостно поеживаясь от щекотавшего ее воздуха. А сколько раз, словно мужчина, она принималась страстно разглядывать свои белоснежные, упругие, полные, давно созревшие груди.
Однажды Софка чуть не совершила глупость. Был конец лета, снова наступила суббота, базарный день. Мать ушла с Магдой на кладбище. Сумерки спускались жаркие и душные. Мать все не приходила, и Софка, как всегда, была одна, отделенная от внешнего мира оградой и стенами дома. Не находя себе места, боясь пошевельнуться, она сидела наверху, как обычно, едва одетая, в тот вечер сильнее, чем когда-либо, на нее накатила ее «раздвоенность». Но внезапно душу ее охватила какая-то особенно глубокая, тяжелая грусть, шедшая из самого нутра, страшная тоска, полная злых предчувствий: чем все это кончится? Неужели, неужели смертью? Конечно, смертью. Но тогда к чему и зачем все это?
В эту минуту она услышала, как из сада идет немой Ванко. Идет и поет. Наверняка пьяный: каждую субботу он получает немало чаевых, прислуживая на базаре, – есть на что напиться! Увидев, что внизу, на кухне, никого нет, Ванко пошел наверх к ней. Софка вздрогнула и быстро прикрылась. Однако в голову ей внезапно пришла безумная мысль, от которой ее бросило в жар. «А почему бы нет? Он пьян – ничего не соображает; немой – не сможет ничего сказать! И почему бы хоть один раз не испытать то, о чем она столько думала и мечтала? Почему бы хоть раз не испытать того, что чувствуешь, когда тебя касается рука мужчины?»
Ванко вошел, обрадовался, что нашел ее здесь, и, мыча, знаками стал объяснять, сколько и от кого он сегодня получил на чай.
– Ба… ба… ба!..
Но, заметив, что Софка полуодета и продолжает лежать на тахте, не подходит к нему, не отвечает, не улыбается, он остановился перед ней в испуге.
Но она подозвала его.
– Дай руку!
Он с готовностью протянул руку с вытянутыми и растопыренными пальцами, причем левую, которая была ближе к ней. Она взяла его за руку, но не как обычно, за пальцы, а выше – за квадратную, широкую кость. Расставленные пальцы изумленного Ванко скорчились, и ей показалось, будто к ней приближается черная жесткая лапа. Но Софка была не из тех, что, решившись на что-либо, останавливается на полпути и отступает. Она быстро привлекла его к себе, поставила между колен и, не обращая внимания на его дикие возгласы радости и страха, оголила грудь и с силой прижала к ней его руку. Ничего, кроме боли, она не ощутила. Быстро, содрогаясь от ужаса, Софка поднялась. Он же, обезумев, потеряв голову, с пеной у рта, с искаженным лицом, тыкался головой в ее живот, обнимал колени, как клещами стискивал тело, стараясь привлечь ее к себе, повалить, а с его покрытых пеной губ срывались безумные вопли:
– Ба… ба… ба!..
Другая на ее месте, несомненно, растерялась бы, сдалась, но Софка оттолкнула его с чувством омерзения и, оправляя одежду, вышла.








