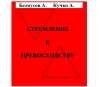Текст книги "Просто металл"
Автор книги: Борис Некрасов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 12 страниц)
Так рассуждал Горохов, возвращаясь из районного центра на прииск. Он сидел на заднем сиденье «Победы» и, погруженный в думы и планы, не подгонял, как обычно шофера, не замечал дороги. Небо над сопками покрылось уже легкой прозеленью, предвещавшей близкие сумерки, жара спала, но, расстроенный непривычным нагоняем, Горохов не выпускал из кулака носовой платок, то и дело утирая потевшие лоб и шею.
Иван Гладких, узнав, что его вызывают на партийное бюро, принял это как должное.
– Конечно, это мой просмотр, – сказал он Павлу Федоровичу. – Зная Важнова, злобную и мстительную натуру его, я должен был если не предвидеть события, то, во всяком случае, быть начеку. Глаз с него спускать нельзя было. И на приборе этом оставлять – тоже нельзя…
Проценко возразил:
– Ну, в этом-то, допустим, я виноват. На старый прибор Важнов с моего согласия вернулся. Значит, мне и отвечать.
– Не может быть, Федорыч, на участке дел, за которые я не был бы в ответе. А впрочем, ты не волнуйся, – Иван улыбнулся не очень весело, – я полагаю, что нам и на двоих вполне хватит.
С таким настроением Гладких и приехал на центральный стан прииска. Выехал он туда с утра, намереваясь решить попутно ряд вопросов, касающихся текущих нужд участка. Но здесь его ждал ряд сюрпризов, сразу же настроивших Ивана далеко не на мирный лад.
Директор принял его весьма нелюбезно.
– А что сам Проценко не мог по этим вопросам приехать? – холодно спросил он.
– Какая же была нужда нам обоим ехать? – удивился Гладких. – Или на участке уже делать нечего?
– Чем вы там на участке занимаетесь, теперь ясно, – многозначительно заметил Горохов. – И тебе, между прочим, не о шпильках и втулках теперь думать бы надо, а о том, как перед партией оправдаться.
– А я, товарищ директор, не оправдываться сюда приехал, а отчитываться перед бюро. И если за что-то должен отвечать, то отвечу.
– Ответишь-ответишь! Можешь быть уверен!
– Только не надо меня пугать, – обозлился Иван. – Или вы уже решили все? И за себя и за бюро?
– Обо мне не беспокойся. Своими административными правами я знаю, как пользоваться. Кстати, могу доставить тебе удовольствие, чтобы ты сам отвез на участок приказ о своем подопечном.
– О каком подопечном? – не понял Гладких.
– А их у тебя не один? Так я о том самом, который под твоим покровительством и защитой бездельничает, пьянствует, дебоши устраивает. О Воронцове. Хватит ему коллектив разлагать! Мне такие типы на прииске не нужны.
– Воронцова увольняете? – переспросил Иван.
– Его, его, – Горохов положил ладонь на лист бумаги и через стол пододвинул его к Гладких. – Можешь познакомиться с приказом, если желаешь. Кстати, и комсомольский комитет этим типом заинтересовался. Иван хотел было возразить что-то, но сдержался и молча повернулся к двери. Только на пороге задержался и сказал твердо, убежденно:
– Приказ этот вы отмените!
Горохов это заявление его взял на заметку я на заседании бюро решил опередить Гладких. Когда Иван закончил свой отчет о положении на участке, директор спросил:
– Пусть товарищ Гладких расскажет, как они там приютили под своим крылышком злостного хулигана и почему он лично старается оградить его от любого наказания? Больше того, им с начальником участка даже приказ мне удалось как-то подсунуть с благодарностью этому разложившемуся типу. Что это, особый метод воспитания или умасливание влияющей на коллектив шпаны, с которой они не находят других способов справиться?
Иван, как это было ни трудно, старался отвечать как можно спокойнее, понимая, что иначе рискует ничего не объяснить членам бюро.
– Я не считаю, так называемую защиту мной Геннадия Воронцова большей ошибкой, чем, скажем, направление на работу с молодежью Алексея Важнова. Здесь, конечно, мы все вместе с директором виноваты. Больше того, я вообще, не считаю ошибочным наше отношение к Воронцову – ни свое, ни начальника участка, ни всего рабочего коллектива. А в коллективе он пользуется не то чтобы великим уважением, но любовью. Хотя и не лишен известных недостатков, которые тоже всем видны. Но еще до нас воспитанная, в парне прямота и честность, уже доказанная готовность его прийти на помощь товарищу, просто такое хорошее человеческое качество, как смелость и жизнерадостность, даже сейчас вполне искупают некоторые недостатки его воспитания и характера. Кстати, и недостатки-то эти часто менее серьезны, чем у многих из нас.
– Но-но, не перегибай, Гладких. Не перегибай! – строго и как бы удивленно вставил Федоров.
– А что? Непедагогично? – повернулся к нему Иван. – Что ж, может быть, при Воронцове и не следовало бы таких вещей говорить. Но здесь-то почему я должен молчать о том, что думаю? Я готов отвечать за все, что произошло и происходит на участке. Но зачем же сводить счеты? Нет-нет, я в данном случае не о себе. Я – о Воронцове. Не знаю почему, но парень с первого взгляда не приглянулся директору. Может быть, за не всегда уместное острословие свое? Но честное слово, это не основание для увольнения, – Иван замялся немножко, но все же досказал до конца. – Очень не хотелось бы думать, что директор просто решил досадить мне.
Горохов приподнялся и, ища поддержки у членов бюро, картинно развел руками:
– Я попросил бы оградить меня, товарищи. И, вообще, мы сегодня товарища Гладких обсуждаем или директора прииска?
Иван спросил в свою очередь:
– Тогда и я не все понимаю. Здесь что, обсуждается мое персональное дело, как считает товарищ Горохов, или мой отчет о положении дел на участке?
– Мы о твоей работе спрашиваем, – несколько уклончиво ответил Федоров.
Старший геолог поправил:
– Э, нет! Давайте уточним тогда. Это тот редкий случай, когда я выступлю, как формалист. Помнится, мы голосовали именно за этот пункт повестки дня: «О положении дел и состоянии воспитательной работы на участке № 4. Докладчик товарищ Гладких».
– И мне так показалось, – сказал Иван, – Так, разрешите, я все-таки отвечу на вопрос товарища Горохова, как считаю нужным?
– Да-да. Конечно. Ты вправе говорить все, что думаешь, – Федоров постучал по столу карандашом, призывая остальных к вниманию, но добавил: – Только учти, пожалуйста, что мы не собираемся заседать до утра.
– Хорошо, я постараюсь учесть это, но мы ведем речь о живых людях все-таки, судьба которых не может быть партийному бюро безразлична.
Иван был, ну прямо, воплощенное спокойствие.
– Так вот, я никак не могу понять, – продолжал он, – почему поведение Воронцова, в общем-то вполне объяснимое, хотя и далеко не всегда безупречное, вызывает такое, раздражение директора. Почему такое негодование вызывает тот факт, что мы не даем этого парня в обиду, в то время, как тот же товарищ Горохов настаивал, чтобы мы взяли на работу Важнова? Нам убедительно доказывали тогда, что только доверие может помочь человеку избавиться от груза прошлого и что мы не имеем права отворачиваться от него, будь он хоть трижды Важнов. Вероятно, в принципе директор был прав. Но почему тогда этот принцип касается рецидивиста и не подходит к хорошему нашему парню? Пусть мне попробуют объяснить, за что его увольняют? За чувство юмора, может быть? И объяснять это придется не только мне. Я с уверенностью могу сказать, что этого директорского приказа на участке не поймет никто, в том числе и товарищи Воронцова, комсомольцы. Или это тоже не имеет никакого значения?
– Не поймут, – с ехидцей согласился Горохов. – У вас же в комсомольских вожаках сестрица родная этого самого Воронцова ходит.
Гладких даже поморщился.
– Ну вот, – развел он руками. – Так мы и относимся чаще всего к людским поступкам и отношениям. Во всем почему-то грязь разглядеть стараемся. А Воронцова – хороший вожак. И авторитет у нее заслуженный, и, в частности, к брату своему она относится, конечно же, заинтересованно, но вполне объективно. И влиять старается на него и по-сестрински, и по-комсомольски…
Закончилось заседание бюро поздно. «За недостаточное внимание к воспитательной работе среди молодежи, приведшее к фактам пьянства на участке и к срыву нормальной работы промывочного прибора номер шесть, за отсутствие должного контроля за работой бригады, что привело к неоднократным выводам прибора из строя», парторг участка Гладких был строго предупрежден. Директор прииска голосовал вместе с остальными членами бюро, сняв свое предложение о строгом выговоре с занесением в учетную карточку. Бюро рекомендовало также директору прииска пересмотреть приказ об увольнении Воронцова, поручив разобраться с ним комсомольской организации участка. И это предложение было Гороховым принято.
А что ему оставалось делать? – думал сквозь полудрему Иван, уже глубокой ночью возвращаясь на попутном самосвале на участок. Не так уж и глуп Горохов, чтобы позволить себе голосовать против большинства бюро. Даже если считает себя правым.
И тут же одергивал себя: стоп! Полегче, Иван! Вот и ты начинаешь за поступками людскими обязательно каверзы выискивать. Ведь не исключение же, что убедили Горохова?
И снова отвечал себе: нет. В этом случае – исключено. Не может Горохов иначе себя вести. Слишком велика инерция, набранная в прошлом, и, как это ни парадоксально, но работать с такими, как Важнов, директору, выросшему на руководстве с заключенными, легче, чем с новыми людьми, и во времена новые. Вопросов меньше и запросов меньше.
9. Будем строиться?
Гладких вышел из конторы участка и оглянулся кругом, высматривая Клаву Воронцову. До районного центра они договорились добираться вместе: Ивана вызывали в райком партии, Воронцову – в Магадан, на собрание комсомольского актива. До прииска решили пройтись пешком, оттуда до районного центра – на машине, с таким расчетом, чтобы Клава успела на рейсовый автобус.
Увидел девушку Иван не сразу. Она сидела на завалинке у соседнего с конторой здания столовой, почти скрытая широкой приземистой фигурой Сереги-сапера. Парень стоял против Клавы и что-то горячо ей доказывал. Девушка, нервно покусывая стебелек травы, смотрела мимо Сергея и лишь изредка, когда он замолкал на мгновение, вскидывала на него широко раскрытые, вопрошающие глаза.
Гладких, оценивая ситуацию, на какой-то миг задержался на ступеньках крыльца, потом быстро и решительно направился к ним.
– С добрым утром, молодежь!
Сергей оборвал себя на полуслове и оглянулся. Гладких чуть не рассмеялся: такое откровенное разочарование и досада были написаны на лице парня.
– Не работаешь сегодня? – спросил его Иван.
– Отгул, – буркнул Сергей.
– Очень удачный отгул, – обрадованно кивнул Иван. – Есть ответственное поручение. Будь джентльменом, проводи Клаву до прииска. У меня тут дело непредвиденное объявилось. Придется задержаться.
И опять отметил про себя, с каким ликованием и надеждой Сергей смотрел на девушку. Клава спросила нерешительно:
– А может быть, мне вас подождать, Иван Михайлович?
– Рискованно, – покачал головой Иван. – На автобус опоздать можно. Нет, ты уж иди, а я, если успею к машине, значит увидимся на прииске, а нет – действуй самостоятельно.
Клава встала.
– Поспевайте, Иван Михайлович. Все не так скучно ехать будет. Хоть до райцентра.
Гладких кивнул и снова направился к конторе. Присел на ступеньках крыльца. Закурил, Долго, пока они не скрылись за корпусом мехцеха, провожал взглядом Клаву и Сергея. На крыльцо вышел Проценко.
– Смотри-ка! Торопыга-то наш тут до сих пор прохлаждается. Воронцову ждешь, что ли?
– Нам, Федорыч, молодежь чаще догонять, а не ждать приходится, – с грустинкой ответил Иван, встал, бросил на землю недокуренную папиросу, втер носком в песок и неторопко зашагал следом за Клавой и Сергеем.
Невеселые думы роились у него в голове. Казалось, и не произошло ничего особенного, но нет, пробудило уснувшую боль это начало чужого счастья. Горькая память о неудачном своем жениховстве захлестнула Ивана. Эх, Вера, Вера! Или и впрямь не может быть уже в нашем возрасте простого человеческого чувства и только для юности с милым и в шалаше рай? А нам с тобой уже и мало друг друга без телевизора, горячей воды и прочих завоеваний цивилизации? Ну, одного письма ты не получила, допустим – бывает еще и такое с почтой. Но ведь я послал тебе три… Заболела? Случилось что?.. Испугалась? Нет, не найти ответа. И стоит ли искать теперь?..
Иван заставил себя думать о другом. На участке, кажется, дела наладились. Не то чтобы уже и делать было нечего – такого не бывает. Если искать хорошенько, то всегда найдутся резервы и в организации производства, и в техническом его совершенствовании, и в запасах человеческой энергии. Но коллектив вроде сложился, окреп. Даже на шестом приборе ребята уже стали забывать о былом позоре своем – работали ритмично, устойчиво наращивая темпы.
Что же, без лишней скромности он, Иван Гладких, может сказать, себе-то уж во всяком случае, что долг свой он выполнил. Не стыдно и напомнить там, в Магадане, о давнем их обещании. Не могут, не имеют права отказать ему в переводе! Сезон промывочный он здесь закончит конечно. Сам не бросит работу в разгар страды, даже если предложат. А там надо и честь знать.
…Да, немного бы пришлось тебе ждать, Вера. Совсем немного, – снова вернулся он мыслями к неудавшейся женитьбе своей, – А, может быть, оно и к лучшему? Может быть, хорошо, что стало на их пути это испытание… Лучше раньше, чем позже…
Или, вообще, плюнуть на этот перевод? Одному ему и здесь неплохо. Главное – дело живое и люди, уже близкие по-своему, тут вот, рядом. Взять того же Генку Воронцова. Ершист, с гонорком парень, ради красного словца не пожалеет и отца, как говорится, а честен, прям, унывать не умеет. За веселый нрав, за смелость, за готовность прийти на выручку товарищу ребята прощают ему и острый язык и некоторую рисовку.
Прощают? Да, но не все. Гладких вспомнил комсомольское собрание на участке, то самое, после партбюро. Генка явился на собрание с пунктуальностью члена палаты лордов и примерно с таким же видом – наигранно холодным и бесстрастным. На предложение комсомольцев избрать председателем собрания Клаву отреагировал по-своему: встал и заявил отвод председателю… суда.
– Считаю сроим долгом, – сказал он, – поставить высокий суд в известность, что упомянутая Клавдия Васильевна Воронцова является моей близкой родственницей и потому беспристрастной судьей быть не может.
Ох, и всыпали ему ребята – по первое число! Не паясничай, мол, не для того собрались, нашлись бы дела и поинтереснее в свободное от работы время, чем твоей персоной заниматься. А раз уж принудил нас к этому, то изволь отвечать со всей серьезностью и ответственностью за каждое слово свое. Припомнили ему все – и выпивки с Важновым, и картишками баловство, и песенки сомнительные. Круто говорили, без оглядки, без жалости. Гладких даже слова брать не стал – увидел, что ребята сами разобрались, что к чему. А Геннадий растерялся: не ожидал такого дружного навала. А когда дали ему слово, взял себя в руки и со спокойной решимостью сказал:
– Не буду долго говорить, ребята. Все понял, все учту. В отношении же Бахуса, он же Вакх, он же зеленый змий, хотите верьте, хотите нет, а после последнего захода своего с Важновым сам зарок дал: не напиваться до треска в голове.
Серега-сапер крикнул с места:
– Уж больно обещание неопределенное.
И пожалел. Вгоняя председательницу собрания в маков цвет, Геннадий парировал:
– Совсем отказаться не могу. На свадьбе твоей, к примеру, должен я буду выпить или нет? На правах посаженного папы.
В зале заулыбались. Тайное увлечение Сергея Генкиной сестрой ни для кого, разумеется, не было тайной. Клава же – молодец какая! – преодолев смущение, поднялась и сказала строго, спокойно:
– Опять? О деле говори!
– О деле я все сказал. Все понял, все учел.
– Вот и все, что от тебя требуется, – заключила Клава и, обращаясь в зал: – Говорит он много, и чаще всего попусту. Но когда по-серьезному, то на слово его положиться можно. Это я знаю. Какие будут предложения, ребята?
Постановили: учитывая правильное понимание Воронцовым своих ошибок и его обещание не допускать их впредь, ограничиться вызовом его на комсомольское собрание. И еще, уже по второму пункту повестки дня: назначить Геннадия Воронцова руководителем поселковой бригады дружинников по охране общественного порядка.
– Спасибо за доверие, – сказал Геннадий и впервые за все собрание улыбнулся. – Только, чур, не обижаться теперь.
А возвращался в общежитие уже с песней, как всегда окруженный стайкой ребят: «…И снег, и ветер, и звезд ночной полет; меня мое сердце в тревожную даль зовет…».
К новым общественным обязанностям своим Генка отнесся с исключительной добросовестностью, и, поскольку прямых нарушений общественного порядка на участке почти не было, сам выискивал для себя заботы, казалось бы, никакого отношения к деятельности дружины не имеющие. Поводы для вмешательства он находил самые неожиданные. Обратил внимание, например, что тара из магазина сваливается в опасной близости от кузницы, и заставил завмага убрать ее оттуда.
– Наполеон, – не совсем понятно объяснил он попытавшемуся возражать завмагу, – по неосторожности однажды даже Москву сжег, говорят. Давай не будем повторять ошибок истории.
Особого внимания удостаивал Геннадий Николая Серкова. Правда, с точки зрения закона и правопорядка, вел себя бульдозерист с той поры, как погиб Лешка Важнов, безупречно, но Воронцов не оставлял его в покое.
– Ты бы, Коля, – выговаривал он ему как-то за столом, – время от времени мыл бы все-таки руки. С одной стороны, оригинальный их цвет сигнализирует об опасности твоему здоровью, а, с другой – оскорбляет наши лучшие эстетические чувства.
– Чего? – не понял Серков, разглядывая свой черный кулак с зажатой в нем ложкой.
– «Мойте руки перед едой!» – этот популярный лозунг, Коля, украшает столовую любой начальной школы. Но поскольку ты со школой был явно не в ладах, то, по-видимому, игнорировал и эту истину.
– А тебе какое дело? Ты что, милиционер?
– Почти. На общественных началах, – спокойно ответил Генка. – А твоя личная гигиена – это не только твое личное дело, Коля. Тебе никогда не приходилось слышать на эту тему популярных радиобесед? Замечено, что человека с чистыми руками меньше влечет к грязному делу.
– А я не в гастрономе работаю. И не в аптеке, – не понял Серков иносказания.
– С землей ты работаешь, как полагается, – вмешался сидевший с ними за одним столом Карташев. – А это, я тебе скажу, самое чистое дело.
Но и это замечание Серков понял буквально.
– Не, – возразил он. – Что я, обушком работаю, что ли?
– Пойди помой руки, Коля, – терпеливо попросил Генка. – С мылом.
Серков не ответил и сосредоточенно занялся щами. На следующий день Генка во время ужина многозначительно посмотрел на руки Николая, брезгливо поморщился и, молча забрав свою тарелку, пересел за другой стол. Пришедшего следом Серегу-сапера позвал к себе:
– Садись сюда, Сергей. Там грязно.
Несколько дней Серков ел один. А потом как-то Генка увидел непривычно бледные руки Николая, как ни в чем не бывало подсел к его столику и попросил:
– Будь друг, Коля, передай-ка мне горбушечку… Да не торкай ты в нее вилкой! Хлеб, по самому высшему этикету, рукой передавать положено…
И все. Больше к разговору на эту тему они не возвращались.
А обо всей, этой истории – к слову пришлось – рассказал Ивану старик Карташев.
– Ну что твоя воспитательница в детском саду, – смеялся он. – Допек-таки парня, как полагается.
– А что? Молодец, – ответил тогда Иван, – Дело, конечно, невеликое, но и не пустяк. Чистота в людях тоже уважение к себе и другим воспитывает.
Только однажды пришлось Геннадию выполнить непосредственные обязанности блюстителя общественного порядка. И то действия его носили, как принято говорить, профилактический характер. Как-то вечером, вернувшись из кино и уже готовясь ко сну, он услышал за стеной подозрительные голоса. Кто-то оглушительно и безуспешно пытался преодолеть вторую строчку популярной в застолье песни. Дальше того, Что «во мраке молнии блистали», дело не шло. Воронцов снова влез в брюки, надел тапочки и направился к соседям, в комнату взрывников. За столом в одинаковых позах, подперев кулаком голову, сидели Чуриков и вездесущий, когда дело касалось еды и выпивки, Серков. Геннадия, встретили с распростертыми объятиями.
– Генка пришел! – с пьяным восторгом констатировал, Чуриков. – Садись, Генка. У-ва-жа-ю! Наливай сам – у меня в Туле племянница народилась.
Как бы оправдываясь, Серков развел руками и подтвердил:.
– Племянница у него народилась. В Туле.
Генка подошел к столу, на котором возвышались две бутылки из-под водки, опорожненная и едва початая. Закусывали приятели хлебом, зеленым луком и принесенной из столовой порцией рагу на двоих.
– Племянница, говоришь? – переспросил Воронцов. – За племянницу можно выпить.
Он взял бутылку с водкой, пододвинул к себе, на край стола большую алюминиевую кружку и медленно, наблюдая, как замерли тревожно Серков и Чуриков, вылил всю водку.
– Ты что? Все? – удивился Чуриков.
– А тебе жалко? За племянницу-то? – удивился в свою очередь Воронцов. – А ты не жалей, тем более, что с тебя хватит уже. Любой племяннице, даже тульской, нужен физически здоровый и с чистым общественным лицом дядя. – Он поднял кружку, критически оглядел стол и добавил: – С закуской у вас что-то слабовато для такого торжественного случая. Лучше я у себя выпью.
И, провожаемый растерянными взглядами приятелей, вышел. Проходя по коридору мимо питьевого бачка, выплеснул содержимое кружки в сливное ведро и отправился спать.
Дня два назад Геннадий пришел вместе с Клавой к Гладких. Комсорг решила посоветоваться с Иваном Михайловичем насчет организации на участке художественной самодеятельности.
– А что? Дело хорошее, – сказал Гладких. – Только тут ребята, я вам плохой помощник. Не Станиславский я и даже, не Николай Крючков. Так что уж вы сами давайте. Я только морально поддержать могу. Да ты, я вижу, и обросла уже активом, – улыбнувшись, кивнул он на Геннадия. – Вон сразу тебе и гитарист, и вокалист, и конферансье. Еще хотя, бы один такой универсал – и целый ансамбль песни и пляски!
– А я не как гитарист пришел, а как лицо должностное, – поправил его Воронцов.
– Но? И по какому же ведомству? – пошутил Иван.
– По своему, – невозмутимо ответил Генка. – Охрана общественного порядка называется. Доктора и юристы профилактику за основу основ считают. Я тоже.
– Понятно, – согласился Гладких. – Но пока это все теория в чистом виде.
– Нет, разговор вполне предметный, Иван Михайлович, – серьезно сказал Генка. – Одной моей гитары при всей моей многосторонности мало. Нужны инструменты, оркестр.
– Симфонический? – осведомился Гладких.
– На первый случай, хотя бы народный, народных инструментов.
Пригласили председателя участкома и договорились приобрести пока баян или аккордеон и еще несколько струнных инструментов. Гладких пообещал:
– Закончим раньше всех в управлении годовой, дадим до конца сезона двадцать процентов сверх плана, как обязались, и я вам рояль достану. Выплакать не удастся – отниму у кого-нибудь. А пока придется к малым формам обратиться. Золото мыть тоже лотками начинали; промывочные приборы и драги уже потом пошли.
Так на участке у молодежи появился новый интерес. Теперь уже из клуба по вечерам слышались не только давно знакомые всем мелодии из кинофильмов и танцевальная музыка в магнитофонной записи. Песня – живая, молодая, задорная – стала хозяйкой участковых вечеров. Неутомимым энтузиастом и организатором подготовки к первому самодеятельному концерту, конечно же, стал Геннадий.
Купили аккордеон. Баянов не было. Правда, аккордеонистов готовых на участке тоже не оказалось. Но Серега-сапер играл когда-то на баяне, а Клава училась на фортепиано. Теперь, к обоюдному удовольствию, они обучали друг друга игре на аккордеоне – Сергей в качестве специалиста по басам, Клава – по клавишам. Был как-то Иван у них на репетиции и видел, как, лихо аккомпанировали они вдвоем полюбившейся песне: «А путь и далек, и долог…». Повесил Серега аккордеон на грудь, Клава встала рядом, да так и играли – он на басах, она на клавишах.
– Эти сыгрались, – острил Геннадий, изводя сестру. – Интересно, что бы вы стали делать, если бы ты, скажем, играла на арфе, а Серега – на ложках?..
Да, вот уже и врастают ребята в этот край. Для многих родимым домом становится – со своими делами, своей крышей, своими близкими, дорогими людьми… И вновь предательская мысль повела Ивана по закоулкам памяти, пробуждая горечь, обиды и грустную зависть к этим ребятам, у которых все-все впереди.
Иван не утруждал себя догадками, зачем его вызвали в райком. Случалось это довольно часто – то совещание какое-нибудь, то семинар, то лекция для актива. Но каждый раз он старался в полную меру использовать такой вызов, чтобы решить в районных организациях какие-то насущные вопросы, связанные с нуждами рабочего коллектива участка, а то и прииска в целом. Правда, приисковое руководство относилось к такой его инициативе не всегда с благодарностью, усматривая в ней некое нарушение субординации, Но всегда находились проблемы, большие или небольшие, которые по тем или иным причинам не решались или но могли быть решены внутри прииска, и – Гладких считал нелишним напоминать о них в районе. При последнем же разговоре с приисковым начальством Ивану вообще казалось, что и Горохов и секретарь бюро Федоров отнеслись к его вопросам и предложениям с совершенно уж непонятным равнодушием, не дав себе труда даже как следует выслушать его. Хоть бы возражали, что ли! А то казалось, что вот-вот кто-нибудь из них бросит; погоди ты, мол, не до тебя сейчас!..
Нередкие и разные бывали у Ивана претензии к руководителям прииска, но вот в равнодушии он не мог упрекнуть ни директора, ни секретаря партбюро. А тут – на тебе, словно и не касается их его забота. Думал же он о том, что кончается лето, не за горами учебный год и надо обязательно позаботиться, чтобы молодежь могла продолжать свое образование. Своей вечерней школы на прииске не было. Немало было среди новоселов и ребят, уже закончивших среднюю школу, которым тоже следовало помочь в организации заочной учебы.
Предвидел Иван и еще одно надвигающееся затруднение – с жильем. Сейчас жилищные условия на участке, да и на всем прииске, были вполне удовлетворительные. В свое время к встрече новоселов готовились, да и сами они уже немало понастроили. И клуб, и столовую, и хорошее благоустроенное общежитие, и даже спортплощадку. Но Гладких знал, что к нему и Проценко вот-вот могут прийти и Сергей с Клавой, и Шемякин с Катей Просветовой. Прийти и попросить, да что там попросить – потребовать, отдельные комнаты. И надо будет изыскивать такую возможность. Жизнь не остановишь и производственной необходимостью естественного ее течения не преградишь. Ну, а не так, тогда и не пеняй ни на кого, если разбегутся твои ребята с участка кто куда в поисках такого места, где их поймут. Ты – руководитель, и если хочешь людей у дела удержать, то изволь и о росте их думать и помогай им, чем можешь, личную жизнь строить.
Подумал: а расскажи он тогда в Магадане, в отделе кадров о Вере, о предполагаемой женитьбе своей, поняли бы его, пошли бы навстречу? Удивился бы небось старший кадровик, и только. Какая, мол, может быть свадьба, дорогой товарищ, если тебя дело требует? И сентенцию еще какую-нибудь выдал бы, вроде: «Если любит, подождет» или «С милым рай и в шалаше, не то что на горном участке…»
Дорога петляла меж сопок и, словно изнемогая от жары и жажды, то и дело окуналась в пересекавшую ее то слева, то справа речушку. Иван уверенно шагал вброд – он был в сапогах, и вода, срываясь с чистого звонкого голоса, недовольно урчала в его ногах, перекатывая потревоженную им гальку. Она была даже на вид, очень холодна, эта вода. Казалось, что если на нее долго смотреть, то вот-вот заломит от холода зубы…
Иван вспомнил, что на Клаве были туфельки, и подумал, досадуя на себя, что напрасно не заставил ее надеть сапоги. Но тут же решил: с таким провожатым, как Сергей, девушке вряд ли угрожает опасность замочить ноги. Он живо представил себе, как, затаив дыхание, бережно несет через поток девушку Серега-сапер и как неестественно громко смеется она, безуспешно стараясь скрыть за этим смехом смущение и робость. Представил потому, что память выхватила из недавнего омытый пронесшейся грозой луг, искры внезапно брызнувшего солнца в траве, ручей, превратившийся сразу же в бурливый поток, и Веру у него на руках с мокрыми, слипшимися прядками волос, в прилипшем к телу платье, смеющуюся, веселую и вдруг внезапно притихшую, встревоженную, словно прислушивающуюся к чему-то…
Тут он действительно услышал девичий смех, заливистый, звонкий, и за поворотом дороги увидел Сергея и Клаву. Девушка, подразнивая парня, убегала от него, замедляла бег, увертывалась из-под Сергеевых протянутых рук и снова оставляла его позади. Иван замедлил шаг – для этих двоих вряд ли он был сейчас желанным попутчиком и собеседником.
Но Клава оглянулась и увидела его. Она остановилась, и Сергей, налетев по инерции на девушку, чуть не сбил ее с ног, но подхватил в охапку да так и замер, держа ее в объятиях. Клава, вырываясь, шепнула ему что-то, и юноша испуганно отпрянул. Смущенные, они стояли в двух шагах друг от друга и ждали, когда подойдет Гладких.
– Что, чуть авария не произошла? – шуткой сглаживая неловкость, спросил Иван, – Так-то, Клавушка. Когда тормозишь, стоп-сигнал зажигать надо. Верно, Сергей?
– Точно, – охотно согласился тот. – Чуть с ног не сбил. Еле-еле сам удержался.
– Ничего. Все хорошо, что хорошо кончается. Удержался все-таки, – сказал Иван и невольно посмотрел на Клавины ноги.
Конечно же, они были совершенно сухи. Клава перехватила его взгляд, но Гладких уже переменил тему.
– Вот иду и думаю. Как дальше жить будем? План, можно сказать, в кармане, слово свое мы сдержим. Конечно, производственные заботы на этом не кончатся – металл и в будущем году будет нужен. Так что готовиться к новому сезону надо. Но, если подумать хорошенько, и на строительство силенки останутся. Так?
– Обязательно! – живо подхватила Клава. – Пристройку к клубу сделать надо, для библиотеки.
– Верно, – согласился Иван. – Да такую, чтоб и читальная комната была, где заниматься можно было бы.
– Это точно, – поддержал Сергей. – А то в общежитии и тебе мешают, да и ты сам ребят стесняешь – ни потолковать, ни на гитаре побренчать.
– Ну, а как вы смотрите, чтобы еще один жилой дом построить? Небольшой. Скажем, квартиры на четыре, на первый случай. Участку еще не один год металл мыть, семейные могут объявиться. Где будем расселять? Вот ты, комсорг, как думаешь, может, к примеру, Катя Просветова в скором времени квартиру попросить?