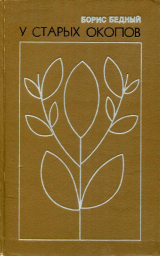
Текст книги "У старых окопов (Рассказы)"
Автор книги: Борис Бедный
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 22 страниц)
– Так-то оно так, да пусть он хотя бы под нашим окном не мельтешит, пусть под своим окном заряжается… – Ерохин добросовестно прикинул такую возможность и сам же первый ее забраковал: – Да нет, там ему нескладно: косогор у них под окном больно крутой, а у нас, как назло, поляна ровная, прямо по ватерпасу разбитая.
И я посочувствовал такелажнику:
– Не повезло вам. И с соседом физкультурным и с поляной. А всего больше, сдается мне, с женой вашей. Я так понимаю: не шибко вы ей доверяете?
Каюсь, мне самому тогда понравилось, что я такой дальновидный и зоркий и так быстро, чуть ли не с ходу, разобрался во всех ерохинских семейных косогорах. Я чуть ли не благодарности, а то и восхищения ждал от Ерохина за сногсшибательную свою прозорливость. И уж во всяком случае, крепко надеялся, что, пораженный моей догадливостью, Ерохин сразу же перестанет противиться мне и, не сходя с места, покается во всех своих грехах.
Но неблагодарный такелажник не спешил что-то выказывать радость по поводу завидной моей дальновидности. Скорей даже наоборот. Он отвернулся, но я успел перехватить его взгляд. Там притаилась немая просьба, даже мольба – приберечь хваленую мою зоркость до другого, более удобного случая и оставить его с женой в покое. И меня это задело: я к нему с открытой душой, а он этакого горемыку из себя разыгрывает и видит во мне чуть ли не живодера.
– Что ж вы совсем духом упали? – пристыдил я его. – Держаться надо!
– А зачем? – огорошил он меня. – Зачем держаться-то? Чтоб вам вольготней было? Вы меня походя под корень рубите, а я держись, стой себе по стойке «смирно» и вид делай, что мне так-то очень даже нравится? Уж ежели вам такая охота топором махать – рубите, а притворяться меня не заставляйте! Не с руки мне…
Чего-чего, а уж этого я от него никак не ожидал.
– Вот как вы повернули! – возмутился я. – С вами по-хорошему, а вы невесть что нагородили. У меня ничего такого и в мыслях не было. На кой мне ляд, чтобы вы притворялись? Так уж принято меж людьми: держись до последнего, пока не упадешь. А вам рановато вроде бы шлепаться!
Ерохин усмехнулся – с неожиданным для меня чувством своего превосходства надо мной.
– Эх, товарищ инженер, товарищ инженер! Со стороны всего не видать, а себя разве обманешь? Не мастак я с самим собой в прятки играть… Вот вы говорите: жонке я не доверяю. А я бы и рад, да как припомню одну ее штуку… – Он тяжело засопел и безнадежно махнул рукой. – И почему так, товарищ инженер, почему наука до сих пор не дошла, чтоб позабыть, чего помнить не надо? Какие ни на есть порошки или микстуру там проглотил или укол побольней – в башку или еще куда, где память по медицинской науке прячется? И чтоб совсем эту память отшибло к чертям собачьим, будто и сроду того не было, а? Не знаете, достигнет такого наука?.. А хорошо бы!
– Это не по моей специальности, – сказал я сухо. – Я сплавному делу учился, а тут сплошная психология, физиология и всякая там высшая нервная деятельность.
– Да уж высшая! Надо бы ниже, да уж некуда…
Признаюсь, он меня малость подзавел нелепыми своими претензиями к науке. Как самый ученый здесь человек, я считал себя по должности обязанным защитить науку от его наскоков. Да и самолюбие мое страдало оттого, что припер он меня к стенке. И я не удержался, чтобы не доказать ему, что я тоже не лыком шит и давно уже понял всю его подноготную.
– Это вот все, что вы позабыть хотите, да никак не можете, самое главное и есть. А сосед ваш физкультурный всего лишь повод, одна лишь зацепка. Этой зацепки не будет, вы другую приспособите: зацепки всегда есть, была бы охота цепляться. Недаром в песне поется: кто ищет, тот всегда найдет! Ведь так же?
– Должно, так… – неохотно согласился Ерохин.
– Вот то-то и оно! – торжествовал я победу.
Как-то разом я вдруг угадал всю его семейную жизнь, словно в самую середку этой чужой, еще четверть часа назад неведомой мне жизни заглянул, и она распахнулась передо мной до самых сокровенных своих глубин. Со мной такое приключалось иногда и прежде, и всегда почему-то вот так же разом, вдруг, точно от меня самого догадка моя и не зависела вовсе, а просто ни с того ни с сего падала сверху этакой манной небесной.
Я и понятия не имел, что именно хотел бы позабыть Ерохин и что мешает ему верить жене. Да мне всего этого не надо было и знать. Я главное увидел: скрытый до времени тайный цвет всей его семейной жизни, основную ее окраску, что ли. Увидел все то, что определяло эту жизнь и заставляло Ерохина вести себя так, а не иначе: ревновать жену к физкультурному соседу и колотить ее, а не дарить ей, скажем, цветы или конфеты, или что там еще дарят своим женам местные сплавщики?
Вот и знал я теперь все или почти все о супругах Ерохиных, а помочь им ничем не мог. Даже потрудней прежнего стало мне теперь. Догадка моя не только не прибавила мне силы, а, наоборот, поразвеяла и ту малую силенку, что была у меня, и прежде всего лишила меня уверенности, что все здесь подвластно мне. И выходит, не такое это простое дело – быть во всем самим собой. Наверно, хорошо быть самим собой тому, у кого душа от природы богатая. А если душонка так себе, серединка на половинку, то и нечего ее напоказ выставлять. Мало от этого зрелища радости людям…
Ерохин отвел глаза. Похоже, ему больно стало встречаться со мной взглядом теперь, когда я так хорошо понял всю его семейную нескладицу. Тень скользнула по угрюмому лицу Ерохина. И вид у него сейчас был такой, будто его пытают – любовью, ревностью, непрошеной моей прозорливостью, и он изо всех сил сдерживается, чтобы не закричать.
Я перехватил его затравленный взгляд, и мне стало так, словно выведал я исподтишка его тайну и для потехи разболтал по всему поселку. Запоздалое раскаяние настигло меня: я тут ставлю на нем сомнительные психологические опыты и молодое свое начальническое самолюбие щекочу, а Ерохину больно. Просто больно – и все. Ведь не кролик же он подопытный, а живой человек, такой же, как и я сам. И пусть жена его, судя по всему, бабенка вздорная, но он-то крепко ее любит, и, значит, чем хуже она, тем ему больней.
Эта незнакомая, ни разу в жизни мною самим не испытанная боль незаметно перекинулась на меня. Я вдруг почувствовал, как мне самому сейчас на месте Ерохина паршиво стало бы. И эта новая догадка связала нас с ним как-то по-особому, чуть ли не породнила на время. На миг исчезли начальник и подчиненный и остались два человека, повстречавшихся на житейской тропе.
Я подумал растерянно: а почему, собственно, он отчитывается передо мной, а не я перед ним? Ведь производственного, житейского и всякого иного опыта у Ерохина гораздо больше, чем у меня. Или все дело в дипломе: у меня он есть, а у Ерохина нету? А такая ли уж это большая и моя ли только заслуга? Ему бы поучиться в свое время, и сейчас он вполне мог быть моим начальником. А не учился Ерохин, может, и по своей неохоте, а скорей так жизнь сложилась: и рад бы, да вот не пришлось. Я учился, а он работал. И выходит, потому в конечном счете Ерохин и разминулся с образованием, чтобы дать возможность учиться мне…
Вся скороспелая и дешевая моя прозорливость рядом с немой болью Ерохина показалась вдруг мне жестоким мальчишеством. А я, пижон, еще пытался песню в свое оправдание приспособить! Бить меня мало… Мне нестерпимо стыдно стало за наставления свои худосочные, что набормотал я тут в начальственном запале. Нам бы по душам потолковать, а я гарцевал перед такелажником на хромоногой своей полководческой коняге и изо всех силенок пыжился доказать, какой дошлый специалист прикатил к ним вести их всех напрямик и без промедления от победы к победе.
Мне и жаль было Ерохина, большого, нескладного, заблудившегося в семейной своей жизни, вконец измотанного подозрениями и ревностью. И как-то разом устал я от всего нашего разговора с ним, от затяжного своего неумения хоть чем-то помочь Ерохину. Я хотел ему всяческого добра, но, видно, одного желания мало. Надо как-то вызволить его из беды, а это было не в моей власти. Я не знал даже, как подступиться к этой задаче. Но и видеть его перед собой и пытать своими наставлениями, мне тоже было уже невмочь.
И тогда я махнул рукой в сторону двери и сказал сердито, злясь на свою беспомощность:
– Идите!
– Как так? – не понял Ерохин.
– Идите домой, и все.
– Так прямо и домой? – переспросил он оторопело.
– Ну, если прямо не хотите, шагайте криво! – неудачно пошутил я и сам первый поморщился от дешевой своей остроты, которая была много мельче того, что творилось сейчас во мне. Я рассердился на себя за вздорную эту остроту, а злость сорвал, как водится, на безответном своем собеседнике: – Шагайте, шагайте, нечего тут рассиживаться!
Ерохин двинулся к выходу, на пороге замер, ожидая от меня какого-то подвоха, и нерешительно толкнул дверь. И жена не очень-то ему обрадовалась. Я думал: она заждалась своего муженька, а она разочарованно протянула:
– Уже?.. Вот как молодые начальнички над нами измываются: раз-два, и готово. А что ему? Чужая болячка не болит!
Она сказала это погромче, чем надо было, чтобы и моим ушам кое-что перепало.
Осуждающе хлопнула дверь, и минуту спустя супруги Ерохины прошли по улице мимо моего окна. Они шагали в ногу, чуть ли не на каждом шагу сталкиваясь плечами, но не отодвигались друг от друге, точно боялись снова разругаться, как только между ними появится просвет.
Поравнявшись с окном, Ерохина вскинула голову, Я поспешно отпрянул, но было уже поздно: она успела разглядеть меня за низенькой занавеской, презрительно усмехнулась и еще тесней прижалась к мужу – назло мне. Кажется, после того, как она поймала меня на подглядывании за ними, я окончательно упал в ее мнении.
Угол соседнего дома наехал на них и скрыл от меня. Как ни крути, а взаимное недовольство супругов Ерохиных мною сблизило их друг с другом и заставило досрочно мириться. Что ж, разные бывают платформы для примирения, и эта обоюдная неприязнь ко мне не хуже иных прочих.
Так или иначе, а я все-таки добился своего и помирил их – пусть и совсем не так, как они и я сам этого хотели. Но, утешил я себя, в конечном счете важен результат, а не тот путь, каким к нему добираются…
А всевозможных ошибок в первом своем деле я натворил гораздо больше, чем тогда подозревал. Позже я разузнал, что дотошный Филипп Иванович проворачивал такие дела совсем не по-моему. Он терпеливо выслушивал супругов – сначала каждого в отдельности, а потом обоих вместе, досконально выпытывая у них, с чего все началось, как протекало и чем кончилось, кто что сказал и чем ударил, и сколько раз, и по какому месту. А если перед драчкой муж пил, Филипп Иванович обязательно выведывал, что именно было выпито, и сколько, и какая закуска стояла на столе. Потом он устраивал супругам очную ставку, ловил их на неточностях и разноречиях и добивался общей версии. После этого он стыдил их – каждого в отдельности и обоих вместе. И только затем, выпотрошив души, отпускал их с миром – не так, может быть, и раскаявшихся, как в конец измотанных его допросами и нравоучениями, еле стоящих на ногах от усталости.
Одним словом, у Филиппа Ивановича такие беседы перерастали в солидное мероприятие, о котором потом целый месяц судачили в поселке, этакий назидательный спектакль – провинившимся в укор, а всем остальным в предостережение. Иной бедолага, прошедший через нравоучительную эту мясорубку, крепко потом призадумывался, прежде чем поднять руку на свою супругу. Уже одна угроза повторной этой мясорубки пугала многих и вязала им руки.
А я по молодости и неопытности провернул все в каких-нибудь двадцать минут, да к тому же еще пригрозил уволить Ерохина и посоветовал ему развестись с женой, чего Филипп Иванович никогда не делал. И не мудрено, что супруги Ерохины остались мной недовольны: все у меня вышло вкривь и вкось, и не этого они ожидали, когда шли ко мне на душеспасительную беседу…
Выпроводив Ерохиных, я лег спать и забрался под марлевый полог кровати, призванный защищать начальственную мою особу от местной мошкары. Но мне решительно не спалось. На душе было смутно, как бывает после экзамена, к которому долго готовишься, а потом не то чтоб совсем завалишь, а так, сдашь на тощую троечку. Бредешь себе, униженный, в общежитие и никак не можешь понять, как же ты так опростоволоситься: ведь вроде бы все знал прилично и вопросы не такие уж заковыристые достались, а вот поди ж ты…
У меня народилось такое ощущение, будто невзначай прикоснулся я к чему-то, хоть и простому с виду, а все ж таки недоступному мне. Ведь не об интеграл ехидный я споткнулся и не чехарда коэффициентов в трехэтажной формуле меня подвела, а что-то совсем иное, пока не очень ясное мне самому. Я никак не мог понять, где она притаилась, эта главная моя незадача: в Ерохиных, во мне самом или в тех патриархальных порядках, которые насадил тут Филипп Иванович и которым, хочешь не хочешь, а придется мне пока подчиняться.
Ко мне пришла первая и во многом смутная еще догадка, что здесь поджидает меня совсем не такая уж простая и легкая жизнь, как я надеялся, когда ехал сюда. И, судя по нескладному моему началу, заниматься мне придется многим таким, к чему я никогда не готовился и чему ни в каких институтах не учат…
Пока я беседовал с супругами Ерохиными, поселок угомонился, и ничто не мешало мне теперь слушать работу запани. В устоявшейся ночной тишине далеко разносился четкий, ритмичный шум сплоточных станков. Даже на слух было ясно, что сплавщики ночной смены дело свое знают и работа у них спорится. Еще полчаса назад открытие это порадовало бы меня, а теперь неудача с Ерохиным отравила простую эту радость, как бы принизила ее в моих глазах, затолкала куда-то на задворки.
Под пологом было душно. Я приподнял спасительную марлю, и мошкара, налетевшая в фортку, сейчас же ринулась в атаку и принялась нещадно жалить меня, ничуть не считаясь с довольно высоким моим положением. Больше всего меня злило, что виновники всей этой кутерьмы наверняка давно уже помирились и после любовных утех спят сном праведников, а я вот по их вине бодрствую, мучаюсь и безуспешно воюю с осатанелой мошкарой.
Я был кругом недоволен собой и так отчетливо видел теперь, что мне вообще не следовало ввязываться во всю эту семейную историю. Надо было сразу же сказать этой проныре Ерохиной, а тем самым и ее мужу-пентюху и всем жителям поселка, что не затем учился я в институте, чтобы заниматься здесь такой ерундой. И даже если преподобный их Филипп Иванович завел тут домостроевские порядки, так мне это не указ: Филипп Иванович сам по себе, а я сам по себе…
И почему самые умные мысли приходят всегда слишком поздно? Ко мне, во всяком случае. А я поддался бабьему напору и совсем не так, как надо бы, начал инженерскую свою жизнь.
Тогда я еще не знал, что это была лишь самая первая и совсем мелкая моя промашка на новом месте и первая моя бессонная ночь здесь. А впереди меня подстерегало много еще и таких же и более крупных и горьких промахов, и бессонных ночей, и всяких иных неполадок и срывов, о которых я тогда еще не догадывался.
ВЕРНАЯ СОНЯ
В первые дни моей работы инженером стоило только мне появиться на запани, я частенько ловил на себе, любопытные, оценивающие взгляды девчат-сортировщиц. А за спиной то и дело раздавался сдавленный беспричинный смешок, каким всегда почему-то прыскают девчата, когда один-единственный парень затешется вдруг в их компанию.
Помню, еще студентом-первокурсником забрел я как-то невзначай на концерт в клуб медицинского института. В зале все было чинно и благородно, и гордые медички, казалось, совсем меня не замечали. А когда концерт кончился и я затерянно стоял среди них в очереди в раздевалку, вот тут и началось. И чего только не выпало тогда на мою сиротливую мужскую долю: и такие вот сдавленные прысканья, и доскональный разбор моего костюма, внешности и внутренних моих качеств, и громогласные сомнения в том, найдется ли такая дуреха, которая согласится выйти за меня замуж, и еще кое-что похлестче. Я тогда еле дождался своей очереди, сунул гардеробщице номерок, схватил плащ – и давай бог ноги!
Страшноватая это штука, когда где-нибудь в одном месте соберется много девчат, а парней раз-два, и обчелся. Каждая из девиц сама по себе вроде бы скромная и тихая, а все вместе такого наговорят, хоть святых выноси. То ли они друг перед дружкой смелостью своей выхваляются и от скуки напяливают на себя чужие бесстыжие личины или просто пользуются безнаказанной возможностью хоть разок отвести душу, чтобы потом, до следующего удобного случая, снова быть благонравными и примерными, – не знаю уж, право, чего тут больше…
А теперь женская половина местного населения, судя по всему, успела уже выведать, что человек я неженатый, и это обстоятельство, похоже, изрядно набивало мне цену в глазах поселковых девчат. Впрочем, каюсь, я ничего не имел против и собирался сполна извлечь все выгоды из холостяцкого своего положения.
Уже в самый первый обход запани, на другой день после приезда в поселок, я заметил звеньевую сортировщиц Соню Щеглову. На вид ей было слегка за двадцать. Под немодным и просторным ее платьем угадывалось сильное ловкое тело. Красавицей, пожалуй, назвать ее было нельзя, но вся она была славная и надежная. Так выглядят люди, которые давно уже и прочно стоят на своем месте, хорошо справляются с привычным делом и при случае умеют постоять за себя.
Соня не только командовала своими девчатами-сортировщицами, но и сама умело орудовала багром и работала как-то особенно вкусно. Глянешь на нее – и самого подмывает взять багор и стать рядом с ней. Не то чтоб я нарочно выбирал себе этакого передовика производства. Но на Соню приятно было смотреть, когда она быстро, ловко, не глядя себе под ноги, перебегала по шатким мосткам, длинным гибким багром выхватывала из плывущей щети бревен нужное ей бревно и загоняла его в сортировочный дворик. Оттуда бревна поступали к сплоточным станкам, где их вязали в пучки для плотов. Но там работали уже другие сплавщики, а Соня только сортировала бревна. Она сортировала, а я тайком любовался ею, такое у нас наметилось разделение труда.
В мою обязанность технорука входило контролировать все виды работ на запани, но в первые дни я больше всего торчал на сортировочной сетке неподалеку от Сони. Девчата-сортировщицы побаивались нового начальника и старались вовсю. Качество сортировки в этой смене заметно подпрыгнуло, и директор нашей сплавной конторы Аникеев даже похвалил меня за то, что я такое большое внимание уделяю качеству работы.
– Жми и дальше на качество, – дал он руководящее указание. – Теперь это главное.
– Постараюсь… – скромно сказал я.
Наверное, городские модницы нашли бы Соню малость провинциальной и неотесанной, но мне всегда нравились такие вот простые девчата. Я как-то лучше понимал их, и они меня тоже. Может, все дело в том, что до института я работал слесарем, а потом служил в армии и дослужился всего лишь до старшего сержанта. Дипломную работу я защитил всего полмесяца назад и еще не привык к своему инженерству. И Соня, кажется, ценила, что я не шибко задаюсь перед ней высшим своим образованием. Просто я учился в институте, а ей не пришлось, вот и вся меж нами разница…
Говорили мы с Соней лишь о работе. О том, например, что дров нынче идет много, а вот пиловочника маловато. Или о том, что сплотчики ловят ворон и скоро некуда будет отсортировывать рудстойку. Я тут же указывал сплотчикам на их промашку, и Соня благодарно кивала мне, радуясь, что у нас с ней все выходит так оперативно, без всякой бюрократии.
Как и все кадровые сплавщики, Соня была загорелой. Только загар этот совсем не такой, как у тех, кто поджаривается на Черноморском побережье и мажется ореховым маслом, чтобы загореть до африканской черноты. В Сонином загаре был прочный кирпичный оттенок, и тут уж скорей пахло не Африкой, а Америкой с ее краснокожими индейцами. Это был профессиональный загар сплавщика, и в нем больше от мороза и ветра, чем от нежаркого северного солнца.
Соня была бы еще привлекательней, будь в лице ее чуть побольше живости. Рабочая сноровка как-то уживалась в ней с северной медлительностью. Вид у нее был такой, будто она только что проснулась и не успела еще стряхнуть с себя сонную ленцу. Но мне даже и ленца эта в ней нравилась. Было в этой ленце обещание чего-то совсем нового, никогда еще не испытанного мною. Помнится, в третью или четвертую нашу встречу глядел я на Соню, глядел и вдруг подумал неожиданно для себя: «Интересно, какая ты будешь, если расшевелить тебя поцелуями!..»
Вот напишешь такое, и вроде грубовато и даже бесстыже получается, а ведь в жизни редкий из нас так не думает. Или думать про себя – это одно, а вслух сказать – совсем другое? Ну да ладно, это я так, между прочим…
Словом, чего тут мудрить, Соня мне сразу понравилась. Сами знаете, как это бывает: увидишь такую, и разные заманчивые мысли заклубятся в голове. До любви тут было еще далеко, но мне приятно было встречаться с ней, любоваться ею в работе, слушать певучий ее говорок. Влекло меня к Соне и то, что не видно было в ней той канительной дикости, что бывает у совсем молоденьких нецелованных девчушек, которые всего на свете еще боятся и всерьез собираются дотянуть до пенсии без любви. А Соня, чувствовалось, кое-что уже испытала на своем веку, распрекрасно знает, зачем на свете существует мужская половина рода человеческого, и прочно усвоила, что без этой полезной и неизбежной половины ей никак в жизни не обойтись…
При встрече с Соней мне приятно было пожимать ее руку, крепкую и малость шершавую. Спасибо людям за то, что они придумали вот так здороваться. А где-то на островах Тихого океана, говорят, аборигены, встречаясь, трутся друг о дружку носами. Раньше такой обычай казался мне нелепым, а теперь я не прочь был бы здороваться с Соней и по-тихоокеански. Но местность наша была самая что ни на есть континентальная, и до теплых океанов от нашего поселка было далеко.
Не знаю, как посмотрела бы Соня на тихоокеанский обычай, но здороваться со мной за руку ей тоже, кажется, нравилось. Она всегда открыто и смело протягивала мне свою крепкую руку, и лишь легкая лукавая усмешка трогала ее полноватые румяные губы. Похоже, женским своим чутьем она догадывалась, что рукопожатия эти для меня всего лишь махонький аванс, этакое наглядное обещание иных, более сильных радостей. Я только никак не мог понять, как сама Соня относится к этим предполагаемым радостям. Во всяком случае, с ходу она их не отвергала, и отвращения ко мне на ее лице не было заметно. А там кто ж ее разберет.
На всякий случай, чтобы замаскировать свой повышенный интерес к Соне, я и с другими девчатами-сортировщицами тоже здоровался за руку. И руки у них тоже были крепкие и шершавые. Но это было уже не то, совсем не то…
Лукавые Сонины губы были сухими, обветренными и на глаз казались жесткими. Но я не доверял глазам. Мне хотелось своими губами проверить, как там оно обстоит на самом-то деле и такие ли уж Сонины губы жесткие, как кажется. И порой мне чудилось, что и сама Соня тоже ничего не имеет против такой контрольной проверки.
Я приметил, что в клубе Соня всегда одна и парней рядом с ней что-то не видно. Танцевала она то с одним, то с другим – верный признак, что своего постоянного кавалера у нее не было. Я не понимал, почему местные парни такие слепые кроты: обходят Соню стороной и увиваются вокруг ее менее привлекательных подруг. Но если уж они такие слепаки, то я-то, слава богу, был зрячим.
Мне даже жаль стало Соню: никто ее не любит, и, кроме работы, ничего-то у нее в жизни нету. А годы идут, и так, за здорово живешь, промелькнет ее молодость. Я даже укор себе видел в том, что под боком у меня творится такое безобразие. А от этого укора остался всего лишь один шажок до того, чтобы попытаться восполнить этот зияющий, непростительный для всего мужского племени пробел в жизни славной Сони. Вот какой я тогда был добрый!
Здесь уже приспело сказать, что в то время я довольно-таки легко смотрел на любовь, а верней сказать, никак не смотрел, а просто жил как бог на душу положит и монахом никогда не был. Неотразимым я себя не считал, и мне тоже случалось оставаться с носом. Но вообще-то девчата ко мне благоволили. Не знаю уж, право, что там они находили во мне, но успехов у меня было больше, чем поражений. Робкие зубрилы-отличники у нас в институте завидовали мне и дразнили донжуаном и х о д о к о м. Может, вся разгадка в том, что я рубил деревья себе по плечу и не связывался с привередливыми девчатами, которые слишком уж высокого мнения о своей красе. Заядлым бабником, пожалуй, я все-таки не был и не бегал за каждой юбкой, но, если эта самая юбка попадалась на моем пути, я старался своего не упустить. И тут, с Соней Щегловой, думалось мне, как раз такой случай.
И я решил действовать так, как давно уже привык поступать. Да и само поведение Сони меня подхлестывало, вселяло уверенность, что удача не за горами. Знаете, всегда как-то чувствуешь, нравишься ты женщине или нет и может у тебя с ней что-нибудь выйти или дело твое безнадежное.
А Соне, по всем признакам, встречаться и разговаривать со мной было гораздо приятней, чем с Аникеевым и другими пожилыми и женатыми начальниками И в разгар самой деловой-пределовой нашей беседы о пиловочнике и шпальнике я частенько ловил на себе ее пристальный, как бы изучающий, а то и прямо благосклонный взгляд. А порой в сонноватых ее глазах мне чудилось ожидание и даже молчаливое приглашение к тому, чтобы не был я пентюхом и вел себя смелее.
В студенческие безответственные времена я сразу же, не мудрствуя, ринулся бы в атаку, а теперь вот медлил. И притормаживало мою прыть не одно лишь сомнение в легкой победе. Поражения я не так уж боялся: раз на раз, как говорится, не приходится, и риск вытянуть пустой номер в таких делах всегда есть. Меня больше смущало то, что в отличие от всех прежних моих симпатий Соня была моей подчиненной. Я не шутя опасался, не будет ли мое ухаживание за Соней смахивать со стороны на самую настоящую попытку использовать начальственную должность в корыстных целях. Иногда у меня даже закрадывалось подозрение: не потому ли Соня так благосклонно взирает на мою особу, что я ее начальник? Да и в грядущую решительную минуту начальственное мое положение тоже могло принудить Соню подчиниться против ее воли.
А я хотел, чтобы она полюбила не инженера и технорука, временно исполняющего обязанности начальника запани, а меня самого, Костю Мельникова, – такого, какой я есть сам по себе, без всяких должностных подпорок. Вот эти сомнения и вязали мне руки на первых порах.
Но время шло, а Соня все так же выжидающе и поощрительно поглядывала на меня, и что-то не видно было, чтобы она так уж робела перед инженером, техноруком и временным своим начальником. А вот насмешливые искорки в ее глазах стали вспыхивать все чаще и порой даже прыгали этакими проказливыми бесенятами, будто Соню стала уже забавлять затяжная моя несмелость, позорная для всей мужской половины рода человеческого. И я решил не тянуть резину, а действовать при первом же удобном случае. И случай такой, как водится, вскоре привалил.
Недели через три после моего приезда на запань мы как-то вечером задержались с Соней на работе, подбивая итоги смены. Когда вышли из конторки, все девчата-сортировщицы уже разбрелись по домам, и мы с Соней вдвоем зашагали к поселку. Я расспрашивал ее о житье-бытье, давно ли она работает на сплаве и не трудно ли ей день-деньской ворочать бревна багром. Она отвечала как-то скованно, невпопад, озиралась по сторонам и все время вроде бы чего-то ждала от меня.
Прошли такелажный сарай, который закрыл от нас реку и спрятал от случайных прохожих.

– Постой, Соня, – сказал я осевшим враз голосом, взял ее за руку и со значением заглянул ей в глаза. Помнится, я подумал тогда: если она вырвет сейчас руку, я все обращу в шутку и скажу, что всего лишь собирался погадать ей по ладони.
Она не вырвала руки, не отодвинулась, а только исподлобья глянула на меня и усмехнулась, будто хотела сказать: «Давно бы так!» Я прочел в ее глазах, кроме привычного уже для меня ожидания, еще и тайное согласие и уверился вдруг, что все мои нескромные желания сбудутся, и даже очень скоро.
Я осмелел и притиснул ее к стенке сарая. В рассеянном свете северной ночи глаза Сони покрупнели, стали темными, бездонными. И вся она вдруг показалась мне сказочно красивой, какими всегда становились для меня те девчата, которых я вот так обхаживал. Не то чтоб я сознательно шел на этот маскарад и настраивал себя на эту волну, но так уж почему-то всякий раз само собой у меня получалось. В поворотную ту минуту зазнобы мои как бы приподнимались в моих глазах, делались вдруг красивей и желанней. Сдается, мне позарез надо было тогда всячески их принарядить, чтобы первичная моя симпатия к ним, подогретая народившейся исподволь и неподвластной мне нежностью, вскарабкалась бы повыше и дотянулась до чего-то иного, более высокого и чистого, что люди обычно величают любовью.
А позже, когда я добивался своего или терпел поражение, этот самообман сразу же и бесследно улетучивался, и я снова видел своих симпатий такими, какими они были на самом деле. Частенько потом я просто не понимал себя и не на шутку дивился: и чего я тогда в этой серенькой крале выискал? Девчонка как девчонка, встретишь такую на улице – и не обернешься.
Не знаю, у всех так или только у меня одного…
Я притиснул Соню к стенке сарая и вплотную придвинулся к ней. Она и теперь не вырывалась, а лишь построжала вся, и сонливость ее вроде бы поразвеялась. «Погоди, северяночка, дальше еще и не то будет!» – горделиво подумал я и положил руку ей на плечо. И все же что-то в ее поведении настораживало меня, и я медлил.
Соня в упор смотрела на меня бездонными своими глазищами. Я заметил, как проказливый бесенок шмыгнул из одного ее глаза в другой, будто Соня спрашивала: «А дальше что? Долго еще будем подпирать такелажный сарай?»
И этот ее непроизнесенный, но угаданный мною вопрос подстегнул меня. Руки мои сами собой побежали по налитым Сониным плечам, я потянулся губами к ее рту, спеша поскорей перешагнуть через все, что пока еще разделяет нас, и оставить позади все глупые свои сомнения. Краем глаза я увидел, как Соня медленно и нехотя, как бы в истоме вскинула правую руку. Похоже, под внешней ее холодноватостью прячется одна из тех горячих девчат, которые не довольствуются тем, что их обнимают и целуют, но и сами любят ответно обнимать нашего брата. Что ж, такие мне еще больше нравятся. Ай да северяночка!








