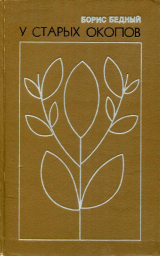
Текст книги "У старых окопов (Рассказы)"
Автор книги: Борис Бедный
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 22 страниц)
За пять лет учебы в институте меня пичкали многими науками, начиная с высшей математики и кончая техникой безопасности. Я перерешал кучу задач, выполнил с десяток курсовых проектов, рассчитывал мосты и подпорные стены, чертил эпюры изгибающих моментов и хитроумные линии влияния, проектировал плотины и сплавные рейды и делал уйму других проектов и расчетов. Но мирить подравшихся супругов нас никто не учил, мне и в голову никогда не приходило, что это входит в круг моих обязанностей, и теперь я ни сном ни духом не знал, как мне подступиться к этой житейской и в общем-то пустяковой задаче.
Мне припомнилось, как решались такие дела в автоколонне, где я работал до призыва в армию. Молодых драчунов у нас песочили на комитете комсомола, а с рабочими постарше разбирался Семеныч, бессменный наш профорг. Администрация же автоколонны, насколько помню, никогда такой ерундой не занималась. Она гнала план, налаживала бесперебойную работу, выколачивала запасные части и вершила всяческие материальные дела.
А тут непутевый этот Филипп Иванович зачем-то подменил собой все общественные организации и погряз в семейных распрях, будто ему и делать больше нечего. Не повезло мне с начальником! Хотя бы поскорей он выздоравливал и брал на себя всю эту бытовщину, раз уж так нравится ему в ней копаться. Но, пока Филипп Иванович болел, решать надо было мне. Открутиться от неприятной этой обязанности, я чувствовал, мне никак не удастся. Ну и заехал же я в патриархальные края!..
– А кем ваш муж работает? – с напускной строгостью спросил я, начиная помаленьку привыкать к мысли, что мне подвластно здесь все: от сплотки древесины до самых сокровенных семейных тайн моих подчиненных. Да и время я хотел выгадать, чтобы найти хоть какой-то приличный выход из щекотливого своего положения.
– Такелажники мы, – охотно отозвалась Ерохина. – Работник он хороший, вы не сомневайтесь! Мы всегда премии получаем.
– Чего же он дерется, ваш хороший работник?
– А я знаю!
– Ну а все же? Не мог же он ни с того ни с сего?
– Делать ему нечего, черту ревнивому!
– Зачем же вы за такого ревнивца замуж выходили?
Ерохина усмехнулась, припомнив, видимо, некоторые подробности своего замужества.
– Так он же тогда совсем другой был. Это уж он потом моду взял – кулачищами махать…
Она всхлипнула и вытерла глаза рукавом. Кофточка совсем распалась, обнажив круглое сдобное плечо и еще кое-какие интимности, которые принято прятать. Но Ерохина ничего не заметила, а если и заметила, так не придала этому значения. Да и вообще, кажется, я для нее не имел ни возраста, ни пола, а был всего только безликим начальником, который и на свет народился для одного лишь того, чтобы выслушивать ее жалобы и мирить ее с мужем.
Перехватив мой взгляд, Ерохина не спеша, без тени смущения, соединила распавшиеся части разодранной своей одежонки. Было во всех ее повадках что-то слишком уж деловитое, привычно бесстыжее, и я заподозрил, что во всей этой истории она не так уж безгрешна, и, наверно, у такелажника был-таки повод приревновать ее и даже поколотить. Мне сильно захотелось поскорей выпроводить ее из комнаты – со всеми сухими ее всхлипываниями, жалобами на мужа и сдобными плечами.
Если б моя воля, я так бы и сделал. Но полной веры в то, что я имею право так поступить, у меня все же не было. Я заехал в такие дремучие края, что больше всего боялся по неведению наломать тут дров. Откажись я мирить драчливых супругов, и вдруг, чем черт не шутит, сплавщики осудят меня. А то еще пьяный муженек прибьет жену до смерти, и я же первый буду кругом виноват. Кто их, местных жителей, разберет? И что здесь у них перепадает от ревнивого мужа жене, которая малость набедокурила? В конце концов, я тут человек новый, и не мне переучивать аборигенов, тем более вот так, с ходу…
– Ну что ж, – храбро сказал я, напяливая пиджак, – пойдемте глянем на вашего ревнивого такелажника!
И первый шагнул к двери, приглашая Ерохину следовать за мной.
– А зачем вам-то к нему на поклон идти? – подивилась та. – Я его кликну, он и сам прибежит.
– А вдруг не прибежит? – заупрямился я. – Все-таки не обязан он передо мной отчитываться в семейной жизни.
– Как это не обязан, ежели вы ему прикажете?
Ерохина недоверчиво глянула на меня. Кажется, она засомневалась даже, всамделишный ли я начальник или всего лишь бесправный студент-практикантишка и уж не ошиблась ли она дверью, постучавшись ко мне.
Я взглядом постарался убедить ее, что начальник я самый что ни на есть настоящий, более взаправдашних даже и не бывает.
– Заявится как миленький! – обнадежила меня Ерохина, уверившись, что никакого обману тут нет и дверью она не ошиблась. – Это он со мной такой отчаянный, а Филипп Иваныч в строгости его держал. А теперь вы заместо Филиппа Иваныча…
Далось ей это заместо!
Ерохина повеселела, выцарапав у меня согласие поговорить с ее муженьком. Недавний горемычный ее вид показался вдруг мне сплошным притворством. И слезы свои жидкие, сдается, она лила не так от обиды и боли, а затем лишь, чтобы разжалобить меня.
– Вы с ним построже, – попросила она напоследок, уже взявшись за ручку двери. – Спуску ему не давайте. И не больно верьте, ежели станет на меня наговаривать.
Она поспешно вышла, точно забоялась, как бы я не передумал. Несмотря на все ее уверения, что муженек явится как миленький, по первому моему зову, я все-таки надеялся, что он не придет. По крайней мере, я бы на его месте ни за что не пошел. И охота ему добровольно ставить себя под удар?
В ожидании неприятной беседы я слонялся по просторной и совсем еще не обжитой мною квартире и прикидывал загодя, как мне вести себя с буйным такелажником: с чего начать и на что напирать в разговоре? Больше всего я жалел тогда, что не выведал у Ерохиной, сколько у них детей. Мне почему-то казалось: знай я в точности, сколько у них детей и какого они возраста, так быстро припер бы такелажника к стенке.
Прежде мне приходилось иногда мирить своих рассорившихся дружков. Но тогда мы все были на равных правах, я мог ничего не добиться своими уговорами, и это ничуть не умаляло меня ни в собственных глазах, ни в глазах приятелей. А теперь к помощи моей прибегали не дружки мои, а подчиненные, и это в корне меняло всю картину. На ошибку, даже самую малую, я просто не имел сейчас права. Ведь от этого нулевого дела пойдет отсчет всем моим последующим делам здесь. От меня ждали правильного, бесспорного и желательно мудрого решения. А где его взять, это желательно мудрое? Где они продаются, такие завидные решения, почем десяток?
Словом, я чувствовал себя примерно так же, как много лет назад, когда мы ставили в автоколонне пьесу и перед самым спектаклем механик, который должен был играть старика партизана, скоропостижно простудился, и роль его поручили мне. Я не успел вызубрить крохотную эту роль и дико волновался в ожидании своего выхода. Лицо мне вымазали какой-то гадостью, нацепили бороду из пакли, и я все время боялся, как бы борода не отвалилась. Одной рукой я сжимал тогда берданку, настоящую, без театрального обмана, взятую напрокат у ночного нашего сторожа за пачку «Беломора», а другой все придерживал ненадежную свою бороденку и уповал на суфлера – старшего бухгалтера, славящегося умением подбивать годовые балансы копейка в копейку и по этой причине внушающего мне доверие…
А теперь хоть и не было на мне непрочной бороды из пакли, но не предвиделось и спасительного суфлера.
Я решил не спешить и сначала хорошенько присмотреться к виновнику всей этой кутерьмы, а уж потом действовать, сообразуясь с обстоятельствами. Оставалось утешаться лишь тем, что другим выпускникам нашего курса, окажись они на моем месте, пришлось бы еще потрудней, многие из них были моложе меня, в армии не служили, завидовали моему невеликому трудовому стажу и даже на самодеятельной сцене не играли.
Впрочем, я тоже вел себя не очень-то солидно. Когда в сенцах послышались грузные мужские шаги, в голове моей шмыгнула мыслишка: если Ерохин застанет меня праздным, то решит, чего доброго, что, кроме его драчки, мне и делать здесь больше нечего. Я проворно распахнул чемодан, выхватил оттуда самый толстый справочник, вооружился карандашом и с ужасно озабоченным видом склонился над разделом «Мелиорация малых рек» – ни дать ни взять этакое светило мировой инженерии, вдохновенно корпящее над проектом, которого ждет не дождется поголовно все страждущее человечество.
Ерохин тяжело потоптался в сенцах, бухнул в дверь и, не дожидаясь моего отклика, ввалился в комнату. Я мельком глянул на ревнивого такелажника, и вся моя скороспелая мобилизация к встрече с ним сразу же полетела вверх тормашками. Я думал: ему, как и жене, лет тридцать пять, от силы сорок. А Ерохину стукнуло уже все пятьдесят, а то и за полсотни перевалило. Он был чуть ли не одних лет с моим отцом, и мне стыдно стало за этот дурацкий мой балаган со справочником. Вот тебе и мелиорация малых рек, хотя бы реки покрупней выбрал!
Меж тем Ерохин стащил с головы кепчонку, зычно кашлянул в нее и застыл у порога, прочно так затих, непробиваемо. Признаться, я побаивался, что такелажник изрядно поднабрался и изъясняться с ним будет не так-то просто. Но пожилой Ерохин благополучно пребывал в той стадии опьянения, которую принято обозначать словом в ы п и в ш и, и с ним вполне можно было разговаривать.
– Садитесь, товарищ Ерохин, – приторно-учтиво сказал я, прямо как образцово-показательный дядя с плаката «Будем взаимно вежливы».
– Можем и постоять, – угрюмо изрек Ерохин, пошире раздвинул ноги и уставился в сучок на полу.
Мне почудилось: он не один уже раз стоял вот так же перед Филиппом Ивановичем, и занятие это для него такое же привычное, как и такелажная его работа.
Я пролепетал что-то о том, что это очень нехорошо – бить жену и что люди вообще-то, насколько мне известно, женятся не для того, чтобы потом драться, – и стал всесторонне развивать бесспорную эту истину, счастливо осенившую холостую мою голову. В лицо Ерохину я не смотрел, старательно обегая глазами то место, где он обосновался.
Разглагольствовать сидя за столом, когда слушатель мой торчит истуканом, мне было не с руки. Я вскочил и зашагал по обширным своим апартаментам, натыкаясь на стулья и табуретки, которые уборщица густо расставила по всей комнате для придания уюта казенной квартире. Меня поджидало еще одно неприятное открытие: Ерохин оказался выше меня на целую голову, и молодое мое начальственное самолюбие страдало оттого, что приходится смотреть на своего подчиненного снизу вверх.
– Это надо же – мордобой в поселке развели! – возмущался я, изо всех сил стараясь распалить себя и настроить против здоровенного такелажника, но пока это плохо мне удавалось. Я и сам чувствовал, что настоящей злости в моих словах нет и мне чего-то сильно не хватает. А вот чего именно, я никак не мог догадаться.
Но Ерохин слабины моей не заметил и пригорюнился. На миг я глянул на себя глазами такелажника и понял, что дела мои обстоят не так уж паршиво. Судя по всему, Ерохин видит сейчас во мне не меня самого, вчерашнего студентишку, неблестяще защитившего недавно типовой дипломный проект, а этакого безликого т о в а р и щ а н а ч а л ь н и к а. Сами того не подозревая, на меня трудились сейчас безвозмездно все большие и малые, добрые и придирчивые начальники, с какими Ерохин сталкивался когда-либо в жизни: на работе, в армии и где там еще успел он побывать. Стародавним своим авторитетом они подпирали немощную мою речь о преимуществах мирной семейной жизни над жизнью драчливой. Они придавали хилым моим словам смысл и силу, каких там и в помине не было.
Исподволь во мне проклюнулось горделивое чувство, будто поголовно все начальники, какие только работают в лесной промышленности, а то и во всех других отраслях нашего народного хозяйства, сию вот минуту признали меня своим, малость потеснились и приняли меня в свои дружные и почетные ряды.
Это, может, немного громковато звучит, но именно так мне тогда померещилось. Вступление мое в среду командиров производства было внове мне и, нечего скрывать, приятно. И оно сразу же дало себя знать: я заговорил теперь громче, настырней, точно во мне проснулся какой-то властный дядя, дремавший до поры до времени. В общем, я стал не шутя входить в новую для себя роль строгого, но справедливого начальника, этакого мудрого наставника своих подчиненных, отца их и благодетеля.
Я так быстро освоился в новой своей роли, что уже через минуту меня подмывало сказать Ерохину: стыдно, дорогой товарищ, на пятьдесят таком-то году Советской власти бить женщину. Я уже и рот даже приоткрыл, чтобы поднять разговор на принципиальную высоту и сразить такелажника славной годовщиной Октября, но что-то притормозило мой язык в последнюю секунду и не дало ему ходу. Стыд не стыд, а так, стеснение какое-то.
Просто я вовремя припомнил, как неловко мне самому бывало слушать такого вот ретивого оратора, когда тот без особой нужды начинал вдруг козырять Октябрем и его годовщинами, строительством коммунизма, Родиной и другими великими нашими понятиями. Одно дело, когда прибегают к этим словам для того, чтобы выразить что-то по-настоящему большое, и совсем иное, когда тревожат их по пустякам, вроде нынешней драчки супругов Ерохиных. Уж больно затрепали мы многие святые наши слова оттого, что слишком часто и далеко не всегда к месту их произносим.
Я еще раз глянул на приунывшего такелажника и решил, что обойдется этот бедолага и без годовщины Октября, нечего годовщиной, как палкой, на него замахиваться. От этого ни Ерохину, ни мне пользы не будет, да и самой годовщине почета не прибавится. Скорей даже наоборот…
И после этой осечки вся моя свежеобретенная уверенность сразу куда-то запропала. И оперативные собратья-начальники тут же взашей вытолкали меня, неумелого, из почетных своих рядов, куда я самозванно затесался. Видно, не дозрел я еще для того, чтобы стоять вместе с ними в одной шеренге. И снова я остался один на один с неприступным для меня такелажником.
Но замолчать и оставить Ерохина в покое я никак уже не мог. Как заведенный, мыкался я взад-вперед по комнате, бормотал что-то нравоучительное, а сам думал: а что, если б все это мне говорили? Что, если б я был на месте Ерохина, а он или кто другой на моем? Как тогда воспринимал бы я всю эту ахинею, которой сейчас потчую такелажника? И как только задал я себе этот вопрос, мне сразу же стало невмоготу говорить все те общеизвестные вещи, какими я щедро угощал Ерохина, и легкие те слова враз потяжелели и гирями повисли на моем языке.
По инерции я еще бормотал свои нравоучения, но сам уже не верил ни единому своему слову. И уж во всяком случае, думал я, на месте Ерохина я не стал бы так смирно слушать всю эту дешевку. А Ерохин слушал – покорно, безропотно. Или на поверку я все же убедительней говорил, чем мне самому казалось, и Ерохин находил все же что-то полезное в моих словах. Или предыдущая его жизнь и в особенности знаменитый Филипп Иванович давно уже приучили его не спорить с начальством и терпеливо выслушивать любые поучения, какими бы вздорными те ни были. Скорей всего второе.
И еще занимало меня тогда: все в поселке такие смирные да послушные, как Ерохин, или он один здесь такой, а другим пальца в рот не клади, сразу оттяпают руку по самый локоть?..
Выговорившись дотла и поймав себя на том, что стал уже повторяться, я стыдливо замолк, совершенно не зная, что мне делать дальше. Дорого бы я заплатил сейчас, чтобы выведать, что говаривал в таких случаях всезнающий Филипп Иванович.
Не слыша больше моих поучений, Ерохин вскинул голову и с проснувшимся любопытством глянул на меня, будто сказать хотел: «Только и всего? Ненадолго же тебя, дорогуша, хватило!» Он помедлил с минуту, выжидая, не подкину ли я еще чего-нибудь такого же не нужного ни мне, ни ему, покосился на дверь, за которой, судя по шороху, бдительно дежурила битая его супруга, и заговорил сам:
– Хорошего мало – кулаком. Хоть женку, хоть еще кого…
Позже, когда я вспоминал этот наш разговор, мне всегда казалось, что Ерохин пожалел меня, слабака, и пришел на помощь зарапортовавшемуся своему начальству. А тогда я лишь обрадовался, что он наконец-то заговорил и беседа наша сдвинулась с мертвой точки.
– Так зачем же вы били, раз сами так распрекрасно все понимаете? – осторожно спросил я, боясь спугнуть собеседника.
Ерохин замялся.
– Так уж получилось, я и сам не рад…
– В первый раз, что ли, да? – совсем уже вкрадчиво, прямо-таки на цыпочках подсказал я ответ, надеясь, что Ерохин поддакнет мне сейчас, даст слово никогда больше не обижать жену и весь этот случай можно будет представить как досадный срыв хорошего производственника и примерного семьянина.
Но такелажник молча отвел глаза, и я понял: далеко не впервые приключилось с ним такое. Меня даже зло взяло, что он, чертяка, такой честный, даже соврать не умеет. Ну что ему стоило сказать, что никогда раньше жену он не бил и впредь тоже пальцем ее не тронет? И тогда бы я сразу прикончил неприятный наш разговор, и мы разошлись бы подобру-поздорову. А там, если взбредет такая охота, Ерохин мог бы и стукнуть свою супругу разок-другой. К тому времени, глядишь, выздоровеет Филипп Иванович – вот пусть тогда сам и расхлебывает! А этот правдолюбец даже для пользы дела соврать не смог и прошел мимо такой заманчивой возможности покончить дело миром…
Мне почудилось вдруг, что мы с ним играем в какую-то игру: ему досконально известную и успевшую порядком уже надоесть, а для меня совсем новую. Я даже толком не знал, как в этой игре ходят, что можно, а что запрещено правилами игры, и все время по неведению нарушал эти чужие правила. А Ерохин ни о чем не догадывается и ждет от меня каких-то особенно мудрых и проникновенных слов, которые говаривал ему в подобных случаях многоопытный Филипп Иванович. Ждет-ждет и никак не может дождаться.
Похоже, первоначальное глубокое почтение Ерохина ко мне, а верней, к моей довольно высокой по здешним масштабам должности, теперь заметно поубавилось. Наверняка он сравнивал меня на каждом шагу с Филиппом Ивановичем, и сравнение это было не в мою пользу.
По всей вероятности, Филипп Иванович вел себя с Ерохиным совсем не так, как я, и говорил такие слова, каких я, может быть, даже и не знаю вовсе. А мне все время было как-то не по себе оттого, что пожилой человек, годящийся мне в отцы, много повидавший на своем веку, прошедший через войну и не раз смотревший в глаза смерти, покорно слушает неказистую мою импровизацию о том, что бить жену нехорошо, что такое битье прежде всего позорит того, кто поднимает руку, и прочее в таком же унылом вегетарианском духе. А что еще я мог ему сказать?
Мне опротивело разыгрывать из себя мудрого и всезнающего начальника, каким я никогда еще в жизни не был и неизвестно даже, стану ли когда-нибудь, да и нужно ли мне им становиться. Натянул на себя чужую личину – вот ничего у меня и не вытанцовывается. А был бы самим собой, не пыжился бы, глядишь, и вышло бы все поскладней. И уже во всяком случае, тогда не надо было бы играть чужую роль, так и шпарил бы как бог на душу положит.
Короче, мне надоело притворяться и захотелось быть самим собой – таким, какой я есть, понравится это Ерохину или нет.
И для начала я решил усадить Ерохина. Ведь именно с этой моей неудачи и пошла вся дальнейшая несуразица. Меня тянуло переиграть все по-иному, словно ничего еще не было сделано и не наломал я тут дров.
– Садитесь, в ногах правды нет, – как можно тверже сказал я, подвигая к Ерохину стул. – Раз пришли в гости, так садитесь, нечего казанской сиротой прикидываться!
Ерохин с некоторым даже испугом покосился на меня и послушно сел. Я плюхнулся на стул напротив него. Сидя мы оказались с ним примерно одного роста, мне не надо было больше задирать голову, и это тоже порадовало меня как залог того, что все у нас помаленьку налаживается.
– Ну, вот что! – напористо заявил я, спеша закрепить выигрышную свою позицию и не дать Ерохину опомниться и выискать лазейку. – Вот что, хватит ваньку валять! Последнее это дело – ходить по начальству с жалобами на семейную жизнь!
– Я не хожу, это она все… – угрюмо буркнул Ерохин и повел головой в сторону двери, за которой притаилась его супруга. – Как что, так сразу бежит, натоптала к начальству дорожку.
– С собственной бабой воевать – тоже мне семейная жизнь! – осудил я. – Тогда незачем было и жениться.
– Кабы знатье…
– А вы разойдитесь, раз теперь прояснилось. А?
Ерохин ошарашенно глянул на меня. Позже я узнал, что Филипп Иванович был ярым врагом всяких разводов и пытался склеивать даже и такие семьи, где все было разбито вдребезги.
– Раз характерами не сошлись, лучше разойтись тихо-мирно, – убеждал я Ерохина со всем пылом неженатого человека. – Или дети держат?
– Нету у нас детишек, не получаются как-то… – с застарелой болью сказал Ерохин. – Кабы детишки…

Нечаянная надежда вспыхнула в его голосе и тут же погасла.
– Ну, тогда совсем легко вам развестись, – не унимался я. – Чем так жить с мордобоем, разбежались бы в разные стороны, и порядок. А?
Ерохин изумился:
– Быстро у вас как! Раз-два, и готово… Уж больно шустрый вы, товарищ инженер!
Я прикинул: не подтачивает ли Ерохин ненароком начальнический мой авторитет? Кое-что обидное для меня в его ш у с т р о м, пожалуй, проскальзывало, но ради пользы дела я решил эту малость стерпеть и ринулся в бой, не давая такелажнику заметить, что он зацепил-таки меня.
– А чего тянуть? Скорые решения – самые верные. Отрезал, чтоб не ныло, и концы! Чего там мудрить?
– Люблю я ее, вот чего… – неохотно, даже почти виновато отозвался Ерохин, как бы признаваясь в непростительной своей слабости, достойной всяческого осуждения.
За дверью шумно и удовлетворенно вздохнули.
– Любите и боксом угощаете? Что-то не понимаю я такой любви!
И тогда Ерохин сказал тихо, но твердо:
– А вы, видать, многого еще не понимаете, товарищ инженер.
Я стал было доказывать, что не такой уж я юнец и кое-что в семейной жизни кумекаю, но тут же прикусил язык. А не пора ли уж мне всерьез обижаться, а то так и не заметишь, как разведешь панибратство со своими подчиненными. Признаться, сам по себе я никакой особенной обиды не чувствовал: в институте, а еще раньше в армии и на «гражданке» мне, случалось, и не такое говорили, я и то не обижался.
Но нынешний случай ни в какое сравнение с прежними не шел. Раньше меня задевали закадычные дружки и соседи, в крайнем случае мои начальники и преподаватели. А Ерохин был первым в моей жизни подчиненным, и каждое мало-мальски непочтительное его слово, хотел он этого или нет, сразу же становилось оскорбительным для меня и подрывало мой авторитет.
Умом я понимал, что приспело время обижаться, но все-таки почему-то не обижался. Просто не обижалось как-то мне, и все тут! Вся закавыка, видимо, была в том, что я не привык считать себя инженером и начальником, а в глубине души все еще чувствовал себя покладистым студентом.
Да и не знал я тогда, как мне обиду свою выразить. Ну хорошо, допустим, я обижен, а дальше что? Ведь не кричать же мне на Ерохина, пожилого, запутавшегося в жизни человека, который мне в отцы годится? Кричать тогда я еще не умел, а по-другому, натихую, просто не знал, не догадывался даже, как мне начальственную свою обиду обнародовать и довести до сведения Ерохина, его жены и всех местных сплавщиков.
И пока я так размышлял и примерялся, время незаметно прошмыгнуло мимо нас с Ерохиным, и обижаться стало уже поздно. Удобная минута, самой судьбой предназначенная для обиды, была бесповоротно упущена, и теперь уж дуться на Ерохина было глупо.
– Ну ладно, – сказал я, недовольный собой. – Любовь и прочее – это все переживания, и тут никто за вас переживать не станет. А вот поведение ваше – это уже всех касается. Я насчет драки.
Ерохин поспешно закивал головой, это придало мне уверенности, и я усилил нажим:
– Терпеть на запани боксерские ваши замашки дальше никак нельзя. Еще повторите свой бокс – пеняйте на себя. Цацкаться не станем…
Меня поразило что-то в собственных словах, какая-то добавочная и прочная сила, на которую я никак не рассчитывал, но которая вдруг проклюнулась неожиданно для меня. Я повторил машинально, вслушиваясь в каждое слово:
– Не станем больше с вами цацкаться…
И наконец-то понял, в чем тут дело: незаметно для себя я стал говорить с Ерохиным не только от своего имени, а как бы выражая мнение всех сплавщиков, всего, еще неведомого мне коллектива запани. Будто меня кто уполномочил говорить с ним так, стоял за моей спиной и надежно подпирал меня. В общем, я действовал, как говорится, «от имени и по поручению».
Я не ловчил и сознательно не выбирал этой удобной формы разговора. Скорей уж я просто случайно оступился в солидную и авторитетную эту форму. Но прозвучало это у меня, я сам хорошо расслышал, довольно-таки убедительно. И вдобавок я не заикнулся, что говорю от имени всей запани, и даже слово «мы» ни разу не произнес. Здесь недолго было опозориться, выставить себя в смешном виде. И риск этот я бессознательно обошел.
Самозваное м ы притаилось где-то в недрах начальственной моей фразы, сидело там тихо-смирно и исподволь наступало на Ерохина, теснило его по всему фронту, заставляло подчиниться: против коллектива не попрешь! А звучало все это солидно, ничего не скажешь, и сразу же придало нашему разговору тот самый тон, которого я так тщетно прежде добивался.
И выходит, бродил я вокруг да около и снова ненароком вскарабкался на ту горку, где разбили свой лагерь командиры производства. Давеча они вытурили меня из почетных своих рядов, а теперь я проник в их табор с тыла и действовал похитрей: не козырял впрямую начальственной своей должностью, а лишь выражал коллективное мнение местных сплавщиков. Этак мне было даже сподручней: ответственности поменьше…
Я сразу сообразил, что открытие это и впредь может мне пригодиться, и, чтобы поскорей набить руку в новом для себя занятии, тут же повторил тверже прежнего:
– Да, цацкаться с вами не станем, зарубите себе на носу! Или расходитесь с женой, или живите нормально, как все семейные люди живут. А с боксом своим и до суда докатиться недолго, а то и с работы попросим!
– За этакую малость и с работы гнать? – несказанно удивился Ерохин. – Ну, знаешь, товарищ инженер, это уж ты хватанул! – И пояснил с давнишним и прочным убежденьем: – Не позволят вам так-то посреди навигации опытными сплавщиками разбрасываться!
Я подумал: а не эта ли многолетняя и постоянная недостача квалифицированных рабочих на сплаве и вообще в лесной промышленности внушает Ерохину твердую веру в свою безнаказанность и незаменимость?
– А вот посмотрим! – загорелся я желании переиначить здесь все сверху донизу. – Еще одна такая драчка, и вылетите с запани за милую душу. Ступайте тогда в боксеры – раз кулаки чешутся!
Ерохин насупился: ему и не верилось и что-то в моих словах сбивало его с толку. И супруга его за дверью тоже притихла: то все топталась там и шуршала чем-то, а теперь совсем затаилась, будто и дышать перестала.
– А не слишком ли, товарищ технорук? Уж больно круто, а?
– Ничуть не круто, в самый раз! – обнадежил я Ерохина, радуясь, что хоть и случайно и под самый конец нашего разговора, а нащупал я его слабое место, допек-таки неухватистого такелажника.
Ерохин подался ко мне и спросил тревожным шепотом:
– Иль указ такой вышел, чтоб жонок не трогать? Зачем тогда скрывают? И не больно юридически так-то: я ее по старинке стукнул, без всякого указу, а отвечать – так по указу?
– Никакого особого указа нет, – поспешил я разуверить Ерохина, чтобы не породить в поселке сплетен и пустопорожних слухов. – А только церемониться с вами не станем, зарубите себе на носу!
– Весь нос вы мне изрубили… – невесело пошутил Ерохин.
А я спохватился, что, увлекшись поисками удобного для меня тона разговора и всяческими экспериментами, до сих пор толком не знаю, за какие такие грехи и провинности избил Ерохин свою жену. Вдруг там есть такие обстоятельства, которые в корне меняют суть дела и чуть ли не целиком выгораживают такелажника? Втайне мне даже хотелось, чтобы такие обстоятельства обнаружились. Все-таки как там ни крути, а симпатии мои были на стороне Ерохина, а не его жены. Не знаю уж, право, почему так. Может, здесь помимо моей воли сработала извечная мужская солидарность? Правда, я не давал симпатии своей хода, но разузнать, отчего у них весь сыр-бор загорелся, было совсем не лишним.
И я повел головой в сторону двери и спросил дружелюбно:
– А за что вы ее боксом-то?
Ерохин отвернулся и пробурчал:
– Была причина…
– А все же? – не отставал я.
Ерохин насупился, прикидывая, посвятить меня в семейные свои тайны или лучше утаить. И как раз в ту секунду, когда я решил, что он так-таки ничего мне не скажет, а то и подальше пошлет, чтобы не лез я ему в душу, Ерохин сказал доверчиво:
– Сосед тут у нас объявился… Такой физкультурный! По утрам все заряжается, ни одного дня не пропустит. Прямо чемпион, да и только!
– А при чем здесь ваша жена?
– При том… Может, промеж ними ничего сроду и не было, да уж больно бесстыже они переглядываются, стерпеть невозможно. Он моду взял: как подъем, так растелешится до пупка, выставится под нашим окном и давай руками махать и ногами дрыгать, вроде заманивает… И вверх, и вниз, и боком, и черт те как еще. Прямо смотреть противно!
Меня поразило несоответствие между болью Ерохина, в истинности которой никак нельзя было усомниться, стоило лишь взглянуть на него, и породившей эту боль вздорной причиной. Смешно сказать, но доблестный наш такелажник стал жертвой безобидной утренней зарядки. Правду говорят: никогда не знаешь, где найдешь, а где потеряешь. Вот и развивай после этого физкультуру, внедряй ее в массы! Я посоветовал Ерохину:
– А вы бы тоже разделись до пояса, стали под соседским окном и махали бы руками. Кто кого перемашет.
Кажется, я все-таки удивил его, и о таком выходе для себя он прежде не догадывался. Ерохин на миг призадумался, взвешивая мою подсказку, но тут же сказал убежденно:
– Нет, не получится у меня так-то. Не с руки мне по утрам оголяться да нагишом дрыгать в мои-то годы. Да и жонка у соседа строгая, пялиться не станет, а возьмет и помоями окатит, а то и кипятком ошпарит. А моя дуреха глазеет да еще и подначивает: слабо, кричит, правой рукой левую пятку достать. Он и старается пуще прежнего… Такой моторный! А то скакать начнет: вверх-вниз, вверх-вниз, только пупок в окне мелькает. Глаза бы мои не смотрели!
– Ну, запретить вашему соседу делать по утрам зарядку я тоже не могу, – сказал я. – Занятие это добровольное: кто хочет – делает, а кто – нет.








