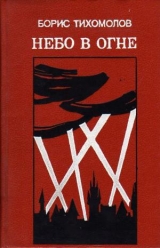
Текст книги "Небо в огне"
Автор книги: Борис Тихомолов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 23 страниц)
Открылась дверь. Дежурный по штабу, высокий носатый лейтенант, заглянул в помещение:
– Прошу всех в штаб на получение задания.
И тут все пришло в движение. На глазах таяла, пустела вешалка. Летчики натягивали комбинезоны, опоясывались ремнями, проверяли обоймы пистолетов и уходили.
Зал опустел. Слово «всех» меня не касалось, и я остался один. Ряды коек, сохранивших конфигурацию тел своих хозяев, терпеливо ждали героев. Только наши тринадцать выделялись щегольской заправкой-выправкой. Противно смотреть!
Я подошел к своей койке и лег. Потом встал, посмотрел. Нет, не то! Надо хорошо полежать, уставшим тяжелым телом. Долго полежать. И тогда на соломенном матраце образуется вмятина. Но для этого надо много полетать. Между прочим, кто-то до меня ведь спал на этой койке. Почему он не оставил никаких следов! Ах да, вспомнил! Мне удалось случайно подслушать разговор двух летчиков, когда я застилал белье.
– Уже девятый, – сказал один.– Несчастливая койка. Не возвращаются с первого же вылета…
– Да, да, – сказал другой.– Уже девятый.
Что ж, буду спать на этой несчастливой койке. Между прочим, кажется, у мусульман число девять считается счастливым. Ладно, поживем – увидим. Да, еще нас, новеньких, – тринадцать, и по списку я числюсь последним. Такая моя фамилия. Но ведь я подкидыш, до четырех лет воспитывался в детском доме. А на подкидышей, как я слышал, приметы не распространяются.
Счастливая койка
Все наши тринадцать коек оказались на редкость счастливыми. Вот уж третью неделю как мы в полку, а никто из нас не погиб: каждую ночь возвращаемся на свою базу целыми и невредимыми. Мы уже стали завсегдатаями кино и танцплощадки. Мне это не нравится, и я все время ворчу, подбивая ребят пойти к командиру и потребовать, чтобы нас включили в боевую жизнь.
– И что ты торопишься? – удивлялись ребята.-
Нас поят, кормят, обувают, одевают, а на тот свет мы всегда успеем.
– На тот свет? Почему на тот свет? Я не собираюсь на тот свет. Наоборот, я хочу подольше прожить.
– А тогда чего напрашиваешься?
– А то! Летное дело – искусство? Искусство. А раз искусство, значит, надо в нем постоянно упражняться. Вон, отберете у скрипача скрипку, и через месяц-другой его пальцы потеряют нужную гибкость.
– Слушай, не гуди, надоел! – прервал меня один из летчиков.– Не проявляй уж так рьяно свой патриотизм. Ты что думаешь, мы хуже тебя? Нам в штабе что сказали: «Когда будет нужно, мы вас позовем». Сейчас мы не нужны. А почему? Я скажу: полку не хватает самолетов. Завод, который выпускал «ИЛ-4», перебазировался на восток. Понял? Он еще только начинает работать. Ясно? При чем здесь мы?
Я почесал в затылке. Вот именно – «при чем здесь мы?»
И все– таки страх одолевал меня все больше. Да, ребята подозревали меня в показной храбрости, а то был страх. Я хорошо знал, что значит перерыв в летном деле. У нас в аэрофлоте, если летчик не летал хоть с полмесяца, ему обязательно дадут провозные. И это на простые, дневные полеты! А тут ночь, прожектора, зенитки. «ИЛ-4» самолет одноштурвальный. Тебя никто не повезет на цель и не покажет, как и что. Просто натренируют по кругу, дадут посадок десять днем и ночью и пустят в бой. Разбирайся, как знаешь.
Я разыскал заместителя командира полка по летной части, невысокого застенчивого майора Зинченко, и уговорил его дать мне провозные на «ИЛ-4».
И вот мы на старте. Под ногами исчерченная резиновыми штрихами бетонка – длинная взлетно-посадочная полоса. Аэродром дышит весной. Травы еще нет, только намек на нее, а поле зеленое. В ясном-ясном голубом небе кое-где застыли облачка. Дальний лес тонет в мареве и колеблется, словно живой. Нежная, ароматная теплота разливается вокруг. Хорошо!
Бомбардировщик, стреляя в патрубки на малом газу, молотит винтами пряный воздух. Взбираюсь на крыло, перекидываю ноги в пилотскую кабину и сажусь в кресло, на парашют. Надеваю лямки, застегиваю карабины. Их металлические щелчки ласкают слух, а ноздри раздуваются сами собой, улавливая знакомые волнующие запахи живых моторов.
Майор Зинченко сидит в носу, в Ф-1, на сиденье штурмана. Сидит, как в клетке. Вставил в гнездо ручку управления, откинул педали. И все! Не густо. В моей кабине штурвал, пилотажные и всякие другие приборы, сектора управления моторами, тормоза на педалях. А у него ничего! Соверши пилот грубую ошибку, и он не в силах ее исправить. Ни за что бы не сел в такую кабину!
А Зинченко сидит. Не обернувшись, небрежно взмахивает рукой: дескать, давай, взлетай, чего копаешься.
Я с восхищением смотрю на его затылок. Черт возьми, ведь надо же! Он даже не держится за управление!
Закрываю фонарь, кладу левую руку на рукоятки управления моторами, прошу у майора разрешение на взлет. Поехали! Взревели моторы, и самолет нехотя побежал по бетонке. Нехотя. Это слово больше всего подходило к моей машине: нехотя побежал, нехотя оторвался от земли, нехотя стал набирать высоту.
Не понравился мне самолет: тяжелый, неповоротливый. И, несмотря на то, что мы взлетали на пустой машине, без бомб и с неполными баками горючего, вертикальная скорость его была никудышной: два – два с половиной метра в секунду. А я летал на самолетах со скоростью набора высоты до десяти метров в секунду! Разница большая. Ощущение такое, будто моторы не дают мощности.
Делаю круг, захожу на посадку. Рассчитываю, не отрывая взгляда от посадочного «Т», которое смотрит на меня сейчас левым боком, рассчитав, убираю полностью обороты моторам. Самолет круто опускает нос и валится вниз. Как утюг! Последний, четвертый, разворот делаю на убранных моторах, только ветер свистит в фонаре. Земля вращается перед самым носом, кажется, вот-вот– и врежешься. Но мне не кажется: я привык в ГВФ рассчитывать точно, без подтягивания на моторах. Так спокойней.
«Т» занимает нужное положение. Энергично вывожу машину из разворота, продолжаю планировать. Садимся легко и неслышно возле самого «Т».
Зинченко оборачивается ко мне. На его лице любопытство и удивление.
– Ты всегда так рассчитываешь?
– Всегда, товарищ командир. А что, неправильно?
– Нет, почему ж – хорошо. В этом расчете свои преимущества. Ты хорошо видишь старт, потому что близко к нему подходишь. И машина у тебя идет на посадку устойчиво. Но…– он чмокнул губами.– У нас так не принято. И боюсь, что ночью, при загруженном аэродроме, тебе будет трудно.
«Трудно!– подумал я.-Уж кому будет трудно, только не мне! Я знаю. Видел, как они летают. Уйдут от аэродрома черт те куда и тянут, тянут на моторах на малой высоте. Старт виден где-то на горизонте, и как он лежит – не разобрать. Моторы ревут, машина качается, летчик нервничает, а подлетая ближе, вдруг обнаруживает, что не так зашел! Исправлять ошибку уже поздно, и он уходит на второй круг…»
– Так, – сказал Зинченко, – взлетим еще. Отработаем уход на второй круг со щитками.
Я поморщился. «Уходить на второй круг с выпущенными посадочными щитками на таком утюге?»
Взлетаю. Делаю круг. Подхожу к четвертому развороту еще ближе, чем в первый раз. Убираю моторы, планирую, разворачиваюсь. Посадочное «Т» почти под нами. Нащупываю рукой рычаг выпуска щитков и резко отдаю его от себя. Машина словно наталкивается на что-то, и земля летит на нас.
Расчет был точный, но скрепя сердце, энергично даю полные обороты моторам. Они ревут, ревут, бедняги, отдавая свои тысячу восемьсот лошадиных сил, а машина падает, падает… В ожидании удара инстинктивно втягиваю голову в плечи. Лишь у самой земли падение прекращается, и самолет, качаясь, некоторое время удерживается в таком неопределенном положении и затем медленно, очень медленно начинает набирать высоту. Черт возьми, до чего же неприятно! Моторы ревут из последних сил. Только на них и надежда! А если в это время какой-нибудь из них вздумает чихнуть, что тогда?!
Мы ушли далеко-далеко, прежде чем я набрал безопасную высоту. Ладно, пора убирать щитки. Дергаю за рычаг. Машина, словно из-под нее разом убрали воздух, камнем валится вниз. Пренеприятнейшее ощущение– сыпаться с ревущими моторами!
Наконец, хвала аллаху, все кончилось. Мы летим как надо. Вытираю ладонями пот со лба и даю себе клятву никогда не выпускать щитков на посадке. Никогда!
Сажусь, заруливаю. Майор Зинченко встает с сиденья, открывает астролюк над головой и, высунувшись из него, машет технику рукой, чтобы тот подал лесенку.
Значит, он собирается выпустить меня самостоятельно? А ведь мог бы, кажется, еще немного полетать со мной…
Во время обеда Бобровский спросил у меня, уныло глядя в тарелку:
– Ну как?
– Что?-сказал я, косясь на Кришталя, теребившего тонкими пальцами бахрому салфетки.– Что «ну как»?
– Ну, эта… машина?
– А-а-а… Н-ничего машина, – неуверенно сказал я и поежился от взгляда Виктора.– Т-тяжеловатая немного.
Виктор оторвал нитку от салфетки и слабо вздохнул:
– Вот-вот – тяжеловатая немного. Пойдем, брат Николай.
Я посмотрел им вслед. Нехорошо себя чувствуют ребята.
В тот же вечер ко мне подошел замкомандира эскадрильи майор Назаров. Щуря карие, чуть выпуклые глаза с воспаленными от недосыпания веками, осмотрел меня с каким-то любопытством и, устало проведя обеими руками по лицу, сказал хрипловатым голосом:
– Пойдем подлетнем чуток. Я тебе ночью провозные дам.
На аэродроме тихо. Полк ушел на боевое задание, и в воздухе только мы одни. Ночь – чудо! Тихая, теплая. В небе, в сиреневой дымке, только что народившийся месяц пас отары звезд. На земле, темной и притаившейся, не было видно ни одного огонька. Чернели лесные массивы, разрезанные на куски светлой лентой реки. Тянулись вдаль линии железных и шоссейных дорог. Там, на западе, совсем недалеко отсюда, они, пересекая фронт, уходят к врагу. Странно. И обидно: советские дороги служат врагу…
Поглядывая на электрическое «Т», иду по кругу. Делаю третий разворот.
– Рано, – говорит Назаров.– Промажем.
– Нет, товарищ майор. Сядем хорошо.
– Ну, ладно, давай! -с усмешкой в голосе соглашается Назаров.
Я знаю: он уверен, что промажем. Тем лучше. Мы сядем как надо, и пусть он знает, что летчики ГВФ не лыком шиты.
Я стараюсь вовсю. Надо рассчитать абсолютно точно. Пальцы левой руки сжали сектора управления моторами. Глаза сами ведут отсчет высоты и расстояния. Так, хорошо!
Моторы умолкают враз. В наступившей тишине отчетливо слышно, как шипит разрезаемый крыльями воздух да похлопывают глушители. Круто планирую к земле.
– Ты что, хочешь садиться? – В голосе Назарова смешливое недоумение.
– Да, товарищ майор.
– Да что ты, промажем. Уходи на второй круг.
– Не промажем, товарищ майор. Сядем точно.
– Промажем, я тебе говорю!
Наш разговор слушают радист и стрелок, и поэтом) уходить мне сейчас на второй круг никак нельзя.
Назаров молчит.
Делаю четвертый разворот, выхожу на посадочную полосу с длинной линией электрических огней.
И вдруг – что это? На земле вспыхивает яркий свет прожектора, и сильный луч освещает бетонку. Отчетливо виден каждый шов меж плит и следы пригоревшей резины.
Я разочарован и вместе с тем обрадован. У нас в ГВФ ночные посадки совершаются по зажженным фонарям «летучая мышь». Земли не -видно, и лишь световая точка служит ориентиром. А тут светло, как днем.
Садимся точно у «Т». Заруливаем на взлетную полосу. Назаров молчит. Уснул он там, что ли?
– Еще полетим, товарищ командир?
– А хочешь?
– Еще бы, конечно!
– Знаешь, – после некоторого раздумья признается он.– Возить тебя нечего, а вылезать не хочется. Что я там буду торчать «а старте. Я вздремну тут пока, а ты полетай. Идет?
И он действительно вынул ручку, защелкнул педали и, растянувшись во весь рост на полу кабины, закрыл лицо воротником комбинезона.
И я подумал: «Вот и выходит, что койка моя – счастливая».
Боевое крещение
Утром в столовой я встретился с майором Назаровым.
– Садись со мной, – сказал он. И я снова почувствовал на себе его оценивающий взгляд. Он прихлебнул из стакана горячего кофе и, обжегшись, поставил его на стол.– Хорошо летаешь… Я так еще никогда не рассчитывал. И даже не знал, что так можно. Здорово получается!
Я покраснел, почувствовав его моральное превосходство. Не каждый смог бы так вот запросто сказать такие слова другому, да еще молодому летчику, а ведь он замещал заболевшего командира эскадрильи.
– Товарищ командир, – начал я.– Мне хотелось бы закрепить начатое…
Назаров посмотрел на меня искоса:
– Хочешь слетать на боевое задание?
– Хочу, – признался я.– Но только не слетать, а летать.
Он рассмеялся, словно я сказал какую-то несуразицу. Допив кофе, поднялся.
– Ладно, поговорю с командиром полка, а ты постарайся никуда не отлучаться. Он тебя вызовет.
Это был для меня день мучений. Уже перевалило за полдень, а меня не зовут. И майора Назарова не видать. Что такое? Как расценить это молчание?
И – наконец распахивается дверь. Я – в который раз! – поднимаю голову и слышу, как дежурный произносит мою фамилию. Вскакиваю, как на пружинах.
– Куда?
– К командиру полка.
Все, кто были в общежитии, проводили меня взглядами до самых дверей. Кто-то крикнул вслед:
– Ни пуха тебе, ни пера!
Я вздрогнул от радости: ведь это уже почти признание… Вышел. Потом опомнился, открыл дверь, просунул голову:
– К черту!
Зал наполнился хохотом.
Постучавшись и получив разрешение войти, я сразу же заметил, с каким трудом присутствующие в кабинете стирают улыбки с лиц.
Кроме командира полка, здесь было четверо: начальник штаба, комиссар, заместитель по летной части и майор Назаров.
«Ясно, говорили об мне», – подумал я и, смущаясь, доложил, что летчик такой-то прибыл.
– Садись.– Командир полка пододвинул мне стул.
Я сел, не смея поднять глаз. Чувствовал, что все здесь присутствующие относятся ко мне доброжелательно, но почему они смеются? Что смешного в моих поступках? Ну, правда, я подбивал ребят пойти всем вместе и потребовать, чтобы дали самолеты. И пока я тренировался, они ходили в штаб. Так что же тут такого?
– Та-ак, – сказал командир, прикрывая ладонью улыбку.– Значит, выражаем недовольство? Делегацию подсылаем? Хорошо-о.
Я смутился совсем. Пропало дело. Сейчас мне дадут такой самолет…
– Да, конечно, а что же…– пробормотал я.– Столько времени болтаемся. Ребята воюют, а мы…
– Ну разумеется, – уже серьезно сказал командир.– Летать хотят все, но, к сожалению, это невозможно. Ты, наверное, знаешь, что у нас не хватает самолетов.
– Знаю, мне говорили.
– Вот-вот. И еще у нас нет штурманов. Я удивленно поднял глаза:
– Штурманов? Товарищ командир,» а я могу и без штурмана.
Начальник штаба, и комиссар, и майор Зинченко, и Назаров разом прыснули от смеха. У командира полка перехватило дыхание.
– Что? Что ты сказал? – Он заразительно расхохотался.
Глядя на него, засмеялся и я. Но, откровенно говоря, мне было непонятно, чем я их рассмешил. И что тут такого смешного– летать без штурмана? Всю жизнь летал – и ничего! В любую погоду…
– Нет, брат, – все еще смеясь, сказал командир.– У нас без штурманов ни на шаг. Он приведет тебя к цели, сбросит бомбы…
– А сбросить и я могу. Аварийно. В моей кабине рычаг есть.
Командир переглянулся с комиссаром. «Ну что? – говорил его взгляд.– Видал ты такого фрукта?»
Комиссар кашлянул в кулак.
– Да не мучай ты его, Алексей Иванович! Ну дай ты ему слетать. Кстати, и случай есть. Командир вдруг стал серьезным.
– Ты думаешь?
– А что же – оправится. И погода как раз подходящая. Дай ему только штурмана получше.
Командир на несколько секунд задумался. И сейчас же в кабинете все неуловимо изменилось. Если только что ощущалась неофициальная, дружественная, почти семейная обстановка, то сейчас от нее не осталось и следа. Чуть скрипнули стулья, шаркнули по полу ноги, и позы всех сидящих из расслабленных и вольных приняли положение готовности.
– Хорошо, – сказал командир и посмотрел на Назарова. Тот встал.
– Я вас слушаю!
– Дайте ему штурмана Киндюшова. Стрелка и радиста – по вашему усмотрению. Самолет – «девятка». Вылет…– командир посмотрел на часы, – в семнадцать тридцать. Все. Выполняйте!
– Есть!
Назаров откозырял, четко повернулся и вышел. Вслед за ними поднялись и вышли все остальные. И только тут до меня дошел смысл происходящего – мне предстоит боевой вылет! Это было все, что удержалось в моем сознании, остальное прошло мимо.
Я вскочил со стула, досадуя, что не догадался этого сделать раньше.
– Товарищ командир, разрешите идти.
– Нет, погоди. – Командир полка встал и, подойдя к висевшей на стене карте, ткнул в нее пальцем.
– Вот здесь, в тридцати минутах полета от линии фронта, стоят сейчас эшелоны противника. Два – с солдатами, один – с боеприпасами. Их надо разбомбить. Понял?
«Интересно, – подумал я, – как же мы их ночью-то искать будем? И что, они будут нас ждать?» А вслух сказал:
– Понял.
Командир будто прочел мои мысли,
– Они не уйдут, потому что, во-первых, партизаны взорвали перед ними путь, ну и, во-вторых, потому что… ты ведь с вылетом не задержишься? Тебе вылетать… – он посмотрел на часы, – через сорок пять минут. Сейчас твой штурман -получит задание и – в путь!
Я с недоумением посмотрел за окно. Стоял день. Светило солнце. Голубело весеннее небо.
– Да-да, к-конечно, -пробормотал я, чувствуя неприятный холодок на спине. – Я вылечу вовремя. Разрешите идти?
– Идите. -
Я козырнул и вышел. Ноги у меня слегка заплетались. Я ничего не понимал. Полк был ночным, и вдруг… такая неожиданность! Посылают днем… Без сопровождения. Но ведь это же… Чуть только сунемся к линии фронта, и – пожалуйста!-истребители тут как тут. У них пушки, а у нас… пулеметы.
Все остальное я проделал как /во сне. Оделся, спустился, сел в машину, где меня ожидал экипаж.
Техник доложил о готовности материальной части. Заправка такая-то, бомбовая загрузка такая-то. Я выслушал его, дал экипажу команду: «Занять места!» -и полез по приставной лесенке на крыло.
Надел парашют, сел в пилотское кресло. Окинул взглядом приборную доску, которую летчики называют «иконостасом», пощупал рукоятки уборки шасси и управления моторами.
Самолет дышал теплом двигателей. Пахло маслом, чуть-чуть бензином, чуть-чуть аэролаком. И эти запахи, и рукоятки, и приборы – все было таким знакомым, близким и родным, что страхи мои рассеялись.
Штурман Киндюшов занял свое место. Обернулся ко мне, подмигнул. Пора, запускать моторы. Я уже приготовился подать команду, как вдруг чуть слышный шепот в наушниках привлек мое внимание.
– Ну, Серега, считай, что это последний наш вылет, – говорит радист стрелку.
Пауза. Наверное, шлемофон второго еще не был подключен, и мне не слышно, что он ответил.
– А как же, – продолжал тот же голос. – Летчик молодой, зеленый. Первый раз летит, да еще днем. Собьют «мессера», как пить дать!…
«Ага!– подумал я. -Молодой? Зеленый? Ладно, посмотрим». И заорал во всю глотку:
– От винто-ов!
Взлетели. Я взял курс и поставил машину в набор высоты. Смотрю вниз, на землю. Весна в разгаре. Леса словно пеной зеленой обрызганы. Поля – как ковер. Солнце светит, и небо – голубое-голубое! Горизонт дымкой затянут. А мне очень интересно увидеть, где же это линия фронта проходит и как она выглядит?
Набрал высоту четыре километра. Прохладно стало. Вижу, Киндюшов почему-то с пулеметом возится, заряжает. «Ну, – думаю, – это он так, для порядка».
Зарядил, потом к иллюминатору прижался. Оглянулся и я. Посмотрел направо, налево. Вроде ничего. Лечу, выдерживаю курс. Вдруг слышу крик:
– Слева внизу два «мессершмитта»! Штурман спокойно:
– Ну и что?
– Преследуют.
Поворачиваю голову, смотрю. Ничего не видно. «Два истребителя, – думаю, – это плохо!»
Во рту становится горько. Соображаю: что же делать? Хоть бы облака были! Вглядываюсь вперед – облака! Но еще далековато и выше нас. В голове проносится: «Подо мной бомбы. Тысяча триста килограммов. Попадет пуля по взрывателю – только пух полетит…»
Прибавляю моторам обороты, до максимальных. Держу прежний курс, набираю высоту. Нервы напряглись, и самолет напрягся. Летит, не качается, словно застыл. Стакан с водой поставь – не дрогнет. А сердце стучит: «Догонят или не догонят?»
Радист кричит:
– Догоняют!
А штурман в ответ:
– Молчать! Что за паника?! Командир знает, что делает!
Это я– то знаю? Ничего я не знаю!…
Оборачиваюсь. Слева – никого. Справа… Ох, вот они! Два черных силуэта, две торпеды. Носы кверху, сзади – дымки от моторов. Форсируют, нажимают фашисты.
Бросаю взгляд вперед. Облака ближе. Взгляд назад, и – «мессершмитты» ближе. Снова ощущаю горечь во рту. Киндюшов сидит в кресле, делает вид, будто сверяет карту с местностью. Но я знаю – это для меня, чтобы придать мне спокойствия.
В наушниках слышу, как сопит носом радист. Догадываюсь, возится с пулеметом, заряжает, вращает башню.
Скашиваю глаза. «Мессершмитты» рядом. Темно-зеленые, с короткими обрубленными крыльями. На хвостах– свастики, в носах – пушки. Хочу отвернуться – и не могу. Пушки! А у нас пулеметы…
Неожиданно для себя произношу хриплым голосом:
– Патроны беречь! Раньше времени огонь не открывать!
А в это время в носу у «мессершмиттов» оранжевые вспышки, и прямо на меня один за другим летят золотые шарики. Отворачиваю самолет, инстинктивно втягиваю голову в плечи, прижимаюсь к бронеспинке сиденья. В ту же минуту влетаю в облака. У-ф-фф!
По груди, по рукам и ногам течет волна радости. Ушел! Остались фашисты с носом!
Только тут я пришел в себя. Вот она – та самая деталь, которую я прохлопал ушами: облака! Что сказал комиссар? Я вспомнил его слова. Он сказал: «И погодка как раз подходящая». Эх, шляпа я, шляпа! Впрочем, почему я недоволен? Все идет отлично. Если и струхнул немножко, так об этом же никто не знает.
Самолет летит по заданному курсу. Градус в градус. Это трудно – так точно держать курс в облаках. Но я держу.
Прошло минут двадцать. Чувствую – машина кренится влево. Или это мне так кажется? На секунду отпускаю штурвал и педали. Нет, кренится, да еще как! Что за новость? Когда мы взлетели, этого не было.
– Скоро цель, – говорит штурман.-Снижаться будем как – сразу или постепенно?
Я могу сразу, могу и постепенно. Но мне хочется проверить штурмана и одновременно показать свое умение в слепом полете снижаться с заданной скоростью.
– Лучше постепенно, – говорю я. – Сколько метров в секунду надо терять?
Киндюшов хватается за линейку. Хлоп – готово!
– Полтора метра в секунду,
«Ишь ты – полтора. Хитрец. Испытываешь? Давай-давай».
Сбавляю обороты моторам. Устанавливаю скорость снижения полтора метра в секунду. Ни больше ни меньше.
Самолет кренит все сильней и сильней. Просто терпения нет никакого. И что за причина? Я уже устал держать правую педаль и выкручивать штурвал.
Снижаемся. Мелькает мысль: «Вот выйдем из облаков, а «мессершмитты» тут как тут!»
Но облачность толстая, почти до самой земли. Выныриваем. Высота сто пятьдесят метров. Под нами лес, река, за рекой железная дорога. Штурман вскакивает, становится на колени.
– Курс триста двадцать! – командует он.
Разворачиваюсь, смотрю вперед. Разъезд в три колеи. Три товарных поезда. На крышах вагонов группки солдат и зенитные пулеметы. По путям ползают зеленые фигурки. От паровозов – дымки и облачками пар. Все тихо, мирно. От линии фронта далеко. Погода плохая. Кто их найдет? Солдаты лежат на крышах возле пулеметов.
Налетаем как вихрь. Зеленые фигурки, словно в кино, когда рвется лента, сначала замирают в неподвижных позах, потом бегут врассыпную, падают, топчут друг друга.
Целюсь самолетом на средний состав. На меня летит задний вагон с красным флажком на буфере. Штурман нажимает кнопку бомбосбрасывателя и тут же кричит:
– Огонь!
А у меня чувство досады: «Ах, черт! Эту команду воздушным стрелкам должен дать я, командир экипажа».
Самолет вздрагивает – отрываются бомбы. Мелькают вагоны, искаженные ужасом лица солдат, сидящих на крышах. Громкий треск, словно разрывают полотно, пороховая гарь – это наши пулеметы, и сзади – глухие удары: бум-бум-бум!… Упругие воздушные толчки швыряют машину из стороны в сторону. Проносятся паровозы. Все! Задание выполнено. Разворачиваюсь с набором высоты. Горят вагоны, клубится дым и что-то рвется, разбрасывая искры.
Штурман дает курс. Ухожу в облака. Выше, выше! Пытаюсь прийти в себя, разобраться в чувствах и в этой искрометной кутерьме. Был страх? Нет, пожалуй, не был. Я просто… не успел испугаться. И это все? Все.
Я разочарован. В глубине души. А на поверхность начинает выплывать разный красивый мусор: «Если посмотреть со стороны, то я вел себя молодцом. Ведь в нас стреляли. Может, наша жизнь была на волоске».
Ладно, не будем копаться в чувствах. Ведь это мой первый боевой полет, мое боевое крещение, мое посвящение в «рыцари».
Однако же, черт возьми, что с самолетом? Я уже вывернул до отказа штурвал, а правую педаль хоть держи обеими ногами. Почему так кренит самолет? И тут же громко, во всеуслышание награждаю себя вполне заслуженным эпитетом:
– Идиот!
– Что, что? – переспрашивает штурман.
– Нет, ничего. Это я так, про себя. Идет, говорю.
Проверяю догадку. Точно! При взлете, как положено, я включил бензиновые краны обоих баков: левого и правого крыла. Включил и не проверил, равномерно ли расходуется в полете горючее. Ну, конечно, в правом 300, а в левом-1200. Молодец, что и говорить! Шляпа. Сундук с гвоздями. Как же я теперь буду заходить на посадку. Ведь левый разворот делать опасно – можно запросто перевернуться в воздухе.
Садимся с прямой в сумерках. Аэродром пустой. Самолетов почти нет. Только два или три задержались рядом с моей стоянкой. Полк ушел на боевое задание.
Подрулил, выключил моторы. Отстегнул парашют, вылез на крыло. Ну и устал же я из-за этого крена!
Киндюшов по приставленной лесенке спустился на землю. Я смотрел на него с уважением. Вот это штурман! Мне бы такого. Молодец, что и говорить. Так точно вывел на цель!
– Спрыгиваю, подхожу к нему и, не смущаясь тем, что рядом стоят радист со стрелком, благодарю:
– Спасибо, друг, за такой полет. Киндюшов смущен.
– Ну что ты! Тебе спасибо. Держался как надо. – И тут же шепотом: – Командир полка, Щербаков!
Оборачиваюсь. Точно, командир полка. Высокий, стройный.
Командую «Смирно!», докладываю. Мне видна в темноте его белозубая улыбка. Принял доклад и к штурману:
– Ну как?
Я не расслышал, что сказал Киндюшов, – в это время рядом заработал мотор, – только увидел краем глаза, как стоявшие тут же радист со стрелком подняли руки и выставили вверх большие пальцы.
Мы – экипаж
Утром в столовой ко мне подошли трое: капитан и два сержанта. Капитан пожилой, плотный, с совершенно лысой головой. Чем-то похож на медведя. Протянул руку с толстыми, короткими пальцами, представился:
– Евсеев. Назначен к вам в экипаж штурманом.
Мне неловко. Штурман старше меня по возрасту и по званию. Мне хотелось бы молодого, с новой, современной выучкой. Ну да ладно, что поделаешь. Судить о качествах еще, пожалуй, рано.
Подходит второй – высокий, подобранный, с густыми вьющимися волосами, лицо доброе-доброе. В светлых глазах лукавинки.
– Старший сержант Заяц. Стрелок-радист. Назначен к вам о экипаж.
Подходит третий. Невысокого росточка. Круглый, как колобок. На розовых, не тронутых бритвой щеках пушок. Как на персике. Глаза – сама готовность. Скажи ему: «Прыгни в огонь», – прыгнет! Встал по стойке «смирно», доложил:
– Младший сержант Китнюк. Воздушный стрелок. Назначен к вам в экипаж.
Смотрю на всех троих. «Значит, теперь мы – экипаж. Мы связаны одной веревочкой, и жизнь каждого зависит от внимания и умения другого. Мы должны быть дружны и спаяны. Один за всех – все за одного. Но…» Я прерываю свои мысленные философские рассуждения. Чего уж там: у нас ведь нет еще и самолета…
Спрашиваю у сержанта, устроились ли в общежитии.
– Нет, товарищ командир, – отвечает Заяц, оправляя безукоризненно сидящую гимнастерку. -Там еще ребята спят после боевого вылета, не хотим их будить.
«Пять очков в твою пользу, – подумал я. -Значит, ты не эгоист и у тебя развито чувство уважения к другим. Молодец, Заяц!»
– Ну тогда идите погуляйте. Осмотритесь. Когда нужно будет, позову.
Со штурманом у меня разговор особый. Штурман, как я убедился, фигура в экипаже важная, и мне хочется знать о Евсееве побольше.
Идем с ним в тень аллеи и садимся на скамью.
Штурман достает портсигар с папиросами, вежливо предлагает мне. Я отказываюсь – не курю. Толстыми пальцами достает из коробка спичку. Чиркает, обламывает. Пальцы его чуть заметно дрожат. Волнуется. Закурил, потушил спичку, посмотрел, куда бросить. Не нашел, сунул в коробок.
«Пять очков в твою пользу. Ты аккуратный человек».
Через полчаса я уже знал о нем все, что надо.
Евсеев попал в полк из госпиталя. Летал на «ИЛ-4». В первом же дневном бомбардировочном вылете их самолет был подожжен фашистским истребителем. Экипаж выпрыгнул на парашютах и был тотчас же расстрелян в воздухе из пулеметов тем же асом.
Евсеев прыгнул тоже, но допустил ошибку: сначала выдернул кольцо, а потом покинул кабину. Парашют, распустившийся раньше времени, зацепился стропой за хвостовое колесо и поволок за собой штурмана. Но ему повезло: возле самой земли оборвалась стропа, и Евсеев благополучно приземлился на изодранном в клочья парашюте, только вывихнул ногу.
Я слушал его, затаив дыхание. Ничего себе, «окрестился»!
Из дверей штаба полка вышел комиссар нашей эскадрильи капитан Соловьев. Высокий, худой, сутулый. Сейчас, заменяя выбывшего в командировку майора Назарова, он исполнял обязанности командира эскадрильи.
Извинившись перед Евсеевым, я сорвался с места, догнал Соловьева.
– А, это вы? – сказал капитан, глядя куда-то поверх меня. – Очень хорошо. Сегодня в ночь вы с вашим экипажем полетите на боевое задание. Ваш самолет «десятка». Готовьтесь.
И ушел. Ведь сам же летчик, должен понимать, а он… Сухой, казенный голос, отсутствующий взгляд. Такой торжественный момент, и столько равнодушия!
Ну, ладно. Значит, так надо. Возвращаясь, сообщаю Евсееву о предстоящем полете и предлагаю сходить к самолету, облетать его. Такой порядок был у нас в аэрофлоте.
Разыскали Зайца с Китнюком, снарядились шлемофонами, взяли в штабе разрешение на облет самолета и, не найдя попутной машины, пошли пешком.
Далеко шли. Устали, вспотели. Наконец вот она – «десятка». Нас встречает техник. Невысокого роста, рыжий, лицо в конопушках.
– Гм! Облетать? Это можно. -Полез пятерней в затылок. – Только вот, знаете, у нее астролюка нет.
– Как это нет?
– Нет. Сорвало в полете.
Смотрю – действительно: в потолке штурманской кабины зияет квадратная дыра, а люка нет. Плохо дело.
Мысленно представил себе, каково будет нам в полете с этой дырой. Рев мотора усилится, как в корпусе гитары, и всю дорогу ветер будет продувать нас со штурманом, как в трубе. И будет нести пыль и песок в глаза. Штурману нельзя открыть карту – воздушной, струей моментально вырвет. Какой уж тут полет!







