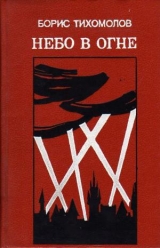
Текст книги "Небо в огне"
Автор книги: Борис Тихомолов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 23 страниц)
Лежит, ждет. Ноги болят. Сыро. Холодно. На душе кошки скребут. Страшно. Плен – хуже смерти!…
И уже совсем почти рассвело. Вдруг слышит – телега стучит, лошадь фыркает, и двое громко разговаривают по-армянски, а ругаются по-русски. Выходить или не выходить? А вдруг это вовсе и не армяне, а румыны? Прислушался. Нет, точно, армяне! Пошарил рукой по обочине канавы, подобрал на всякий случай плоский обломок песчаника, сунул в карман: все же!
Подождал, когда подъедут, и поднялся во весь рост. Лошадь, испуганно фыркнув, мотнула головой и стала, кося настороженным глазом. Двое в арбе, оборвав разговор, уставились на Анатолия. А тот-(правая рука в кармане (пусть думают, что там пистолет!), вихрастый, босой, на небритых щеках мальчишеский пушок, строго сощурив глаза, сказал:
– Здравствуйте!
Старший, круглолицый армянин, брони вразлет, широко улыбнувшись, ответил с заметным акцентом:
– Здравствуй.
Младший, тоже армянин, лет семнадцати парнишка, повторив скороговоркой «здрасте», уставился большущими глазищами на новоявленное чудо.
– Вы советские люди?-спросил Алексеев.
– Ну конечно, советские!-ответили оба.– А что, тебя обили, что ли?
– Сбили.
– А-а-а, – оказал старший.– Вас тут немцы ищут. Дали вы им здорово!
Восхищенный парнишка проворно скинул с себя телогрейку:
– Нате, оденьтесь.
– Спасибо.– Алексеев надел телогрейку.– Штаны бы еще…
– Будут штаны, – сказал старший.– Все будет. Садись.
Алексеев оказал, забираясь в арбу:
– Там комбинезон лежит в канаве, возьмите. Старший помедлил.
– Комбинезон? Да, надо взять. Улика. Немцы найдут, будут знать, оде искать.– И парнишке: – Вазген, сбегай!
Комбинезон уложили под сено. Вазген, не опуская с Анатолия восхищенного взгляда, сел рядом.
Старший тронул лошадь.
– Мы спрячем тебя, дорогой, ни один черт не разыщет. Сейчас ты у нас переоденешься, а потом документы тебе справим. Моя племянница Изабелла у немцев в комендатуре переводчицей работает.
Алексеев схватился за вожжи:
– Стой! Не поеду я с вами!
Вазген тронул Анатолия за плечо. Прикосновение было ласковое и убеждающее:
– Не надо бояться, мы советские люди! Корюн– это мой старший брат, и он хороший человек. Не бойся!
– Не бойся, – подтвердил Корюн.– Не выдадим.– И тронул вожжами лошадь.– Скажу тебе больше: я – бригадир, а наш дядя-староста сельской управы, и половину моего дома занимают немцы из комендатуры. Так что знай, куда мы тебя привезем. Но верь. И не бойся.
Ох, муторно было у Анатолия на душе, пока проезжали деревню. И варилось, и не варилось. Самое скверное, конечно, было то, что он безоружен. Был бы пистолет!… Наступило утро. Розовое, тихое. Проехав село, они снова очутились в степи. Анатолий удивился. О Крыме он имел совсем другое представление: думал, что горы да снежные вершины, а тут вон, голая степь…
Навстречу промчались три мотоцикла. За рулем и в коляске немцы в угловатых касках, с автоматами на груди. Проезжая, они дружески кивнули К органу.
– Из комендатуры, – оказал Корюн, понукая лошадь.– Наверное, поехали тебя искать.
Алексеев передернул плечами: страшно. Плен -хуже смерти!
Впереди показался полуразваленный сарай с оголенными ребрами крыши, груды мусора, битого кирпича, заросшего полынью. Что-то знакомое, будто он был уже здесь… Ах да – это во сне! Мусор, битый кирпич… А дальше окраина села. Нет, не поедет он дальше! Спрячется здесь…
– Все!-сказал Анатолий, натягивая вожжи.– Тпр-р-ру-у!– Лошадь остановилась.– Дальше я не поеду. Здесь пережду. В сарае.
У братьев обиженно округлились глаза:
– Да что ты, не веришь? Чего боишься? Уже дома почти!
– Нет, – твердо оказал Анатолий, слезая с арбы.– Не поеду! Тут подожду. А вы, если можно, принесите мне переодеться и поесть.
Братья затараторилии армянском.
«Продают!» – подумал Анатолий, остро ощущая свою беспомощность.
– Извини, – сказал Корюн.– Мы обсуждали, как нам быть.– Ладно, оставайся, может, так и лучше. Мы принесем тебе, что надо. Жди.– И уехали.
Алексеев, пригнувшись, перебежал к развалинам, от которых остро пахло отхожим местом. Под йогами шуршали бумажки с немецким шрифтом. Гм! Не очень-то удачное место он выбрал. Судя по всему, сюда заглядывают проезжие немцы. Но отсюда был хороший обзор, а спрятаться можно на уцелевшей части чердака. Он так и сделал. И едва забрался, зашумела машина. Подъехала, остановилась. Человек двадцать немцев попрыгали из кузова и побежали к сараю, на ходу расстегивая пояса. Тараторили, смеялись.
Алексеева душила ярость. «Гранатку бы вам или очередь из пулемета!» – подумал он.
Уехали немцы, и снова тихо. Жужжат мухи и кузнечики в траве: тр-р-р! тр-р-р!… Сильно клонило ко сну.
Разбудил чей-то шепот:
– Летчик! Эй, летчик! Где ты?…
Осторожно выглянул из-за укрытия. Корюн. Стоит с кошелкой в руках, удивленно оглядывается.
– Здесь я!-шепотом ответил Алексеев и спустился.
В кошелке было полное обмундирование немецкого солдата: кепка с высокой тульей, ботинки, штаны и старый обтрепанный френч. Тут же, в бумажном пакете – вареная курица и лаваш.
Алексеев переоделся и, туго скрутив свой штаны и гимнастерку, посмотрел на Корюна.
– Спрячем тут, – сказал Корюн.– Опасная улика. Выкопали яму в груде кирпича, уложили, засыпали, забросали соломой.
– Вот теперь хорошо!-сказал Корюн.– Ешь, время-то к вечеру. И знаешь, как хорошо, что ты не поехал с нами! К нам немцев приехало – полный двор. На мотоциклах. Злые за вчерашнюю бомбежку. Ищут сбитый экипаж.
Алексеев расправлялся с курицей. На душе у него полегчало, и уже загорелась надежда, что все обойдется и он сумеет пробраться к своим, через линию фронта.
Посидели до темноты, грызя семечки, которыми запасся Корюн, а когда стемнело, пошли. Деревню обогнул ли стороной и очутились опять у каких-то развалин. Сели за грудой кирпича. Скоро под чьими-то шагами захрустел строительный мусор. Алексеев вскочил, готовый бежать, но Корюн его успокоил:
– Не бойся, это наш, – и тихо свистнул.
Из темноты вышел высокий человек в каракулевой шапке, сказал с армянским акцентом:
– Гдэ тут лодчик, которого сбилы?
Корюн толкнул локтем Алексеева:
– Знакомься, это мой дядя – староста управы.
– Ну вот что, – сказал Староста.– Чего тут сидэт, ай да ко мне.
Алексеев уперся:
– Нет, я не пойду, я тут пересижу…
– Э-э-э, – рассердился староста.– Так нэ подот! Чи-во боишься? Если б ми хотел тебя предать – давно бы; это сдэлал, а? Аида!; Слова его звучали убедительно, и Алексеев пошел.
Анатолия ждали. В просторной горнице уже стоял чаи с горячей водой и корыто. Такое внимание тронуло? Алексеева, и он окончательно успокоился. Искупался с наслаждением, промыл израненные ноги, а когда оделся и вышел в зал, там на столе дымилась лапша с курицей. Хозяева не досаждали, оставив его одного. Лишь только когда он поел, в комнату, вежливо здороваясь с порога, А вошли человек двенадцать мужчин, все пожилого возраста. Уселись тихо вокруг стола, все армяне, все с морщинистыми лицами и грубыми руками хлеборобов.
Староста, положив свои большие узловатые руки на стол, сказал Алексееву:
– Пажалста, сынок, расскажи, как дэла на фронте. Немцы тут всякый белиберда говорят. Говорят, что они под Москва стоят.
Алексеев усмехнулся:
– Под Москвой? Как бы не так! А про Курскую битву слыхали? Не-ет? Ого! Тогда слушайте.
И рассказал он про черную силу, что собиралась для операции «Цитадель». Почти миллион солдат на узком участке фронта под Понырями. На километр фронта – более сорока танков и самоходок, до восьмидесяти орудий и минометов; а в воздухе около тысячи самолетов. Сила неодолимая! И Анатолий видел, какое впечатление производят его слова, как тускнеют в печали глаза и сами собой никнут плечи. Тяжко слышать о таких вещах!
Но вот Анатолий начал описывать разгром фашистских войск под Курском. Слушатели ошеломлены, они не верят, не верят. Сломить такую силу?! Нет, это невозможно! •
В свою очередь, был удивлен Алексеев.
– А вы что – не слышали про это?
Нет, они не слышали. Война была где-то далеко, и сюда доходили только рассказы о ней, да и то от фашистов.
– Тогда вот что я скажу вам, – с ноткой обиды в голосе оказал Анатолий.– Нашила днях завладели Таманским -полуостровом, и сейчас войска Толбухина подходят к Перекопу. Вот! А вы говорите: «Под Москвой»!…
Славные ребята
Отбомбившись и перейдя линию фронта, мы снизились и пошли у самой земли. И тут к нам привязался истребитель. Его заметил Алпетян.
– Товарищ командир! Справа, сзади, чуть выше, нашим курсом идет какой-то самолет!
Оборачиваюсь, смотрю: вроде что-то маячит.
– Может, наш, – говорю.– Я отверну чуть-чуть, а ты посмотри на его поведение. Отвернул.
– Идет, товарищ командир. За нами!
– Гм! Отверну еще.
– Опять идет!… Двухкилевой.
– Ага! Так. «Мессершмитт», наверное, «Ме-110». У него ведь сзади пулемет! -Приготовиться! Подойдет поближе – бей! – А сам прижал машину к земле. И вовремя! Он опередил! Огненные точечки прочертили ночь и веером прошли над нами.
– А-а-а!-закричал Алпетян и затукал из своего крупнокалиберного: тук-тук! тук-тук!…
И сразу стало суматошно. Задрожал самолет, в кабину потянуло гарью, и огненные блики засверкали в ночи.
Р– р-р-рах! Р-р-р-рах! Р-р-р-рах!-это Алпетян дал три короткие очереди из скорострельного ШКАСа.
И все стихло. И снова темь, будто никто и не стрелял. Только гарь пороховая висела в кабине.
– Ну как, Алпетян?
– Смылся, товарищ командир! Ему неудобно стрелять из носовых: мы низко шли.
– Ладно, смотри за воздухом.
– Смотрю, товарищ командир!
Ночью бреющим идти опасно: кто знает, какая тут местность! А вдруг вышка какая или деревья! Врежешься еще. Набрал высоту метров сто. И опять Алпетян:
– Товарищ командир! Вижу самолет. Идет за нами, низом!
Вот гад, привязался! Прижимаюсь к земле, вглядываюсь в темноту: что-то мелькает рядом…
– Ну, где он, Алпетян?
– Идет нашим курсом. Догоняет! Выше и левей…
– Гм! Догоняет. Конечно, скорость у него больше, чем у нас, но… потерял он наш самолет или хитрит? Может, хочет открыть огонь из турельного пулемета? Вряд ли. Какой смысл? Уж если бить, так носовыми: у него там целый арсенал – две пушки и четыре пулемета. Что-то тут не так. Скорее всего, он нас не видит!…
Соображаю: подпустить поближе и снизу, в упор, кинжальным огнем!… Алпетян словно мысли мои читал:
– Товарищ командир! Давайте подпустим его, и я сделаю ему харакири!
– Харакири? Давай!
Чуть– чуть ухожу от земли, смотрю назад. Мне виден силуэт, но не ясно. Подвожу машину ближе. Ага, теперь вижу -двухкилевой! Значит, все тот же!…
– Как у тебя, Алпетян?
– Я готов, товарищ командир! Пусть подойдет поближе …
Я весь в напряжении. Сейчас разразится огонь, и все будет кончено… Неотрывно смотрю назад. Силуэт ближе. Мне видно пламя выхлопа из-под брюха самолета. Из-под брюха?!. Почему;из-под брюха? У «мессера» пламя с боков!…
У меня екнуло сердце: «Это не «мессер», а «БИ-25»! Это наш самолет!…»
В тот же миг Алпетян:
– Товарищ командир!…
– Отставить!– кричу я.– Не стрелять! Это «БИ-25»!
– Вот и я хотел сказать…– Алпетян сконфужен не меньше меня.– И откуда его черти поднесли?! Уф-ф!… Было бы «харакири»!…
Краснюков добродушно смеется:
– Бывает!– и дает новый курс.
Лечу совершенно разбитый. На душе гадко. Подумать только – чуть своих не сбили!
Прилетел уставший, с тяжелым настроением. Техник, как бы между прочим, что-то сказал о «девятке». Будто бы Красавцев взлетел только после третьей попытки, и то кое-как.
Я отмахнулся с досадой: «Значит, летчик такой! Надо проверить».
И вот, проснувшись, вспомнил. Опять неприятность! Если летчик слабый, то никогда тебе не будет спокойно. Оделся, пригласил Краснюкова, и мы вместе пошли в общежитие к офицерам.
Общежитие в помещении бывшего клуба. Большой зал, стоят рядами койки. Чисто, хорошо. Дежурный, увидев меня, крикнул «смирно!» и доложил по форме.
У меня был разговор к летчикам, у Краснюкова к штурманам. Разделились на две группы, уселись на койках в разных углах зала.
– Ну как, товарищи, самочувствие хорошее?
– Хорошее, товарищ командир!
– У всех?
Мнутся, переглядываются. Вопрос поставлен «с подтекстом». Отвечают вразнобой и не очень-то уверенно:
– У все-е-ех…
– Ну ладно, тогда поговорим. Командиры звеньев, ваши замечания о прошедшей ночи?
Замечания были, но мелкие. Такой-то припоздал с выруливанием по вине стрелка, такой-то, садясь, забыл включить аэронавигационные огни, за что получил замечание от руководителя полетами. Материальная часть у всех работала исправно, а это в боевом деле – самое главное. И у меня уже отложилось в душе чувство благодарности к техникам, к инженеру эскадрильи. Славные ребята! Молодцы.
Докладывает командир третьего звена лейтенант Ядыкин, плотный ширококостный сибиряк с круглым добродушным лицом. У него в звене неприятность: летчик Красавцев дважды прекращал взлет – упускал направление, и взлетел лишь на третий рае. О причине молчит. Известна она ему или не известна?
Смотрю испытующе:
– Причина?
И сразу вижу – Ядыкин врать не умеет. Опустил глаза, покраснел, сказал тихо:
– Н-не зна-а-ю… Мне досадно.
– Ладно, садитесь.
Ищу глазами виновника. Сидит смущенный, недоуменно пожимает плечами.
– Красавцев, что у вас, объясните. Поднимается, разводит руками.
– Не пойму, товарищ командир, что с ней случилось!…
По рядам смешок. Кто-то тихо бросил реплику:
– Почему с ней? С тобой! Красавцев живо обернулся.
– Нет, Гроховский, с ней!
Ого! Это уже интересно: если человек так уверен, где же тогда искать причину? Самолет не лошадь и настроений менять не может.
– Так, хорошо, Красавцев, значит, вы считаете, что дело в машине? Но ведь вы же на ней три дня тому назад тренировались?!
Красавцев смотрит мне прямо в глаза:
– Вот в том-то и дело, товарищ командир, тренировался! И привык к ней: машина как машина. А вчера – словно подменили!…
Ребята улыбаются. На щеках у Красавцева вспыхнул румянец. Он снова пожал плечами:
– Конечно, товарищ командир, звучит смешно, но это так: самолет почему-то стал другим. И не только на взлете – и в воздухе. Неустойчивый какой-то, тяжелый. И у меня появилась догадка. И вот уже знакомое мне чувство гнева подкатилось к пруди.
– Ладно, Красавцев, садитесь, я облетаю машину.
Я весь на взводе. Логически я уже знаю причину. Нужно подтверждение. Но эта волокита принесет много неприятностей. А иначе поступить не могу! Это неизбежно, потому что… потому что…
Я внутренне взрываюсь. Ч-черт побери вес эти «потому что»! Почему человек, отстаивая правое дело, должен извиняться перед обстоятельствами, перед самим собой? К черту! На аэродром!…
Ко мне подходит Ермашкевич.
– Товарищ командир, разрешите?
– Да, что у вас?
– Боевое расписание.
Беру листок. Ермашкевич подсовывает мне планшетку. Листок уже расписан. Тринадцать самолетов. Летчикам опытным – по десять соток, двум молодым – по восемь. Мне тоже десять.
– Та-а-ак, значит я уже опытный?
Беру у адъютанта карандаш, и в этот миг краем глаза замечаю движение. Я его ждал! Я ждал его, этого жеста! Поднимаю голову: так и есть – это Алексеев. Встает, смущенно одергивает сбившуюся гимнастерку.
– Товарищ командир, разрешите обратиться?
– Да, пожалуйста.
– Вот вы вчера взяли тысячу пятьсот, разрешите и мне взять столько же!
Смотрю на него с восхищением. Эти слова я ожидал услышать именно от Алексеева, от первого! И я не обманулся. Будут, конечно, и другие: вот сейчас поднимется Ядыкин, Шашлов, Гроховский, но Алексеев все-таки первый!
Делаю вид, что раздумываю. Пусть доверие командира – взять повышенную нагрузку – будет звучать как поощрение, как оценка, качеств летчика.
– Тысячу пятьсот, говорите? Гм! Хорошо, Алексеев, вам можно. Но учтите – горючего будет соответственно меньше.
Глаза у Алексеева сияют:
– Мы знаем, товарищ командир!
«Мы»?! Это слово звучит для меня как награда, как высокое доверие. Доверие коллектива. Вот они, мои новые друзья, мои славные ребята!
Поднимается Ядыкин, встают Шашлов и Гроховский, другие летчики.
– Товарищ командир, и нам тоже… Подавляю в себе желание согласиться. Но нет – рано.
– Товарищи, спасибо за доверие, за порыв, но сегодня эту загрузку повезут только" командиры звеньев. Всем остальным могу пока проставить тысячу триста, а двум молодым по тысяче. Согласны?
Все согласны, все довольны.
Вношу поправку в боевой листок: летчикам по 1300, командирам звеньев по 1500, а себе две тонны. А вот Красавцеву что? Что Красавцеву? А Красавцеву – ничего! В любом случае он сегодня!не полетит. Если неисправна машина, какой же тогда разговор? А если исправна, значит, слабо натренирован летчик, и с ним надо еще повозиться. Но нет, тут дело не в летчике, уж в этом-то я уверен. Делаю прочерк против экипажа Красавцева. Ермашкевич смотрит мне через плечо.
Говорю ему:
– Красавцев сегодня не полетит. Причину сообщу по телефону с аэродрома.
Адъютант прикусил губу, посмотрел на меня многозначительно и тихо, почти шепотом, сказал:
– Товарищ командир, вы, наверное, не знаете, полк борется за стопроцентный выход материальной части. Командир полка…
Тихо, тоже шепотом перебиваю его:
– Товарищ Ермашкевич, я назначен сюда командиром эскадрильи, значит, я вправе решать самостоятельно свои вопросы. И еще, потрудитесь сделать так, чтобы листок боевого расписания заполнял я сам. А сейчас раздобудьте машину, мой экипаж едет на аэродром. Все, можете идти.
Как ни тихо происходил этот диалог, но его кое-кто услышал. Это было видно, например, по Алексееву. Конечно, на своих ребят теперь я могу положиться, но в стычке с командиром мне от этого не легче. Субординация!
«Девятка» была уже готова, и без лишних разговоров мы заняли свои места.
Запускаю моторы. Прогреваю, выруливаю. Дежурный по полетам майор Вуткевич дает мне старт. Я весь наготове: обороты моторам, но не полностью – машина нехотя трогается с места. Бежит, бежит, набирая скорость, и вдруг, словно споткнулась – рывок влево! Энергично додаю обороты левому мотору и держу наготове правый. Ага – выправилась! Добавляю обороты правому, но машина, словно норовистый конь, уже мотает носом. Куда поведет? Вправо? Чуть-чуть убираю обороты левому мотору и, скрепя сердце, даю форсаж правому.
Взлетел, но все-таки не туда, куда надо. Мне стыдно (что подумает Буткевич) и в то же время чувствую какое-то облегчение. Все-таки Красавцев летчик что надо! Взлететь на таком утюге ночью, когда впереди не видно ни зги!
Убираю шасси. Машина вибрирует. Трясется приборная доска. Чертовски неприятная штука! Ощущение такое, будто сидишь в кресле дантиста, и он неумело сверлит тебе зубы.
Набираем высоту. Еле-еле. Машина кренит влево. Штурвал вывернут вправо почти до отказа. Представляю, как Красавцев на таком утюге заходил на посадку. Ведь он мог бы запросто перевернуться на крыло!
Краснюков сидит в своем кресле и нет-нет да обернется ко мне.
– Что случилось, командир?
– А вот, посмотри на штурвал!-Краснюков оборачивается.– Видишь, как вывернулся? Это так его нужно держать в горизонтальном полете!-И смеюсь, глядя в растерянное лицо штурмана: – Отпустить?
– Не надо!-поспешно отвечает Краснюков.– У нас же мала высота!
Бланк строгой отчетности
Когда Анатолия разбудили, было еще совсем темно.
– Анатолий, вставай, ехать надо, – оказал Корюн, зажигая лампу.
– Куда?– спросил Алексеев, с трудом просыпаясь.
– Ехать надо, – повторил Корюн.-Тебе нельзя здесь оставаться: комендатура рядом. Я отвезу тебя за Джанкой, к своей маме. А это вот – на, почитай, свеженькое.– И протянул листок коричневой бумаги.
Алексеев поднялся. Поморщившись от боли, опустил избитые ноги на половик и, придвинувшись к лампе, прочитал свежеотпечатанный текст.
– Ого!
Фашистское командование обещало за поимку каждого члена экипажа со сбитого самолета тридцать тысяч немецких рейхсмарок, лошадь и три десятины земли. Соответственно: за укрывательство – расстрел…
– Здорово! – Анатолий криво улыбнулся.– Совпадение какое – тридцать!
– Да, – согласился Корюн.– Как у Иуды: тридцать сребренников!-И поторопил: – Ладно, ты не Христос, я не Иуда, одевайся поскорей, выедем, пока темно.
Анатолий оделся. Корюн критически его осмотрел:
– Нормально. Будешь моим ездовым. Я бригадир, ты мой рабочий. Понял? В случае проверки молчи. Сделай безразличный вид и молчи. Я буду разговаривать. Пошли!
На дворе, в темноте, пофыркивая, стояли две лошади, запряженные в телегу. Анатолий забрался на козлы и, подождав, пока усядется Корюн, неумело тронул вожжами:
– Но-о-о! Поехали!
Ехать надо было километров за семьдесят через Джанкой, и у Алексеева болезненно сжималось сердце: мало ли что может случиться в дороге? Днем же ведь. Нарвешься на кого…
Беспокоила листовка (могут польститься) и в то же время – радовала. Значит, его боевые друзья живы и где-то скрываются. И люди, находясь в глубоком тылу, лишенные сведений о фронтовых делах, верят в победу. Верят!
Село еще спало. В предутренней тишине громко стучали колеса. Разбуженные петухи, словно спохватившись, закукарекали разом во всех дворах, и им в ответ принялись помыкивать коровы. Алексеев настороженно поглядывал по сторонам, за что получил замечание от Корюна.
– Не так сидишь, – сказал он. – Не в самолете! Ты ездовой, начальство везешь. Согни спину, ссутулься и смотри под ноги лошадям. До всего остального тебе дела нет. Ты ко всему привык. Немцев видел и перевидел. Понял?
– Понял! – рассмеялся Алексеев. – Ишь ты – заважничал. Начальство.– Однако сделал, как тот велел. Но это было трудно.
Село проехали. Показались развалины сарая, в котором он вчера прятался. Почему-то вспомнил сон перед полетом. Что-то ждет его впереди!…
Кони без понукания охотно бежали рысью по степной дороге, и легкий ветерок, завивая пыль, поднимал ее тонкой пеленой в светлеющее небо, чуть порозовевшее впереди. Там, за полтораста километров отсюда – линия фронта, и туда он должен дойти. Должен, и все тут! Это была самая жгучая цель его жизни.
Солнце уже показалось над горизонтом, когда они почти миновали второе село, то самое, где Алексеев был подобран братьями Овагимянами. Повернувшись на облучке, он разыскал глазами дом, куда хотел тогда постучаться. Дом выглядел весело: в настежь распахнутые окна пузырями выдувались гардины. За высоким забором каменной кладки осенней листвой пламенели деревья. Интересно, что его напугало тогда? Почему не постучал? И словно бы в ответ, чья-то рука отодвинула тюль. Алексеев чуть с козел не упал: у окна, подтянутый и стройный, с накинутым на плечи френчем стоял немецкий офицер!
– Не смотри! – сердито зашипел Корюн.– Отвернись!-И, сдернув с головы кепку, раскланялся с господином офицером. Лишь когда проехали, Корюн, вытирая платком круглое вспотевшее лицо, сказал с облегчением:
– Фу, пронесло! Как увидел его-душа в пятки ушла. Гестаповец!
Скоро начало припекать. Появились мухи, назойливые, злые. Кони, фыркая, мотали головами, били себя хвостом по лоснящимся бокам. Остро пахло конским потом.
На дороге стало оживленно. Ехали арбы, проносились машины с немецкими солдатами и техникой, шныряли патрули на мотоциклах. Их раз пять останавливали. Грозный окрик, небрежный требовательный жест. Овагимян лез в карман за документами, а у Алексеева уходила душа в пятки. Он сжимался, отвешивал нижнюю губу и, сделав дурные глаза, старательно смотрел коням под копыта. Немцы брезгливо морщились, а Корюн, оживленно тараторя по-немецки, кивал головой на Анатолия и крутил пальцем у виска: «Не все дома!» Немцы смеялись и спрашивали, не слышал ли он что про летчиков со сбитого бомбардировщика? Нет, про летчиков он не слышал, но листовку читал. Ох как он хотел бы услужить великой Германии и получить за это щедрое вознаграждение!
Возле самого города, у полосатого шлагбаума, худой горбоносый немец с автоматом на шее, кивнув Корюну как старому знакомому, подошел к телеге, сунул руку под сено, пощупал, нет ли чего, что-то сказал по-немецки. Корюн с достоинством ему ответил и полез в карман за портсигаром. Щелкнул крышкой. У немца дернулся кадык на длинной тощей шее, тонкие губы сложились в колечко: «Яволь! Яволь!»– загребастые пальцы вычистили содержимое.
Корюн сладко улыбнулся и, к ужасу Анатолия, сказал по-русски:
– Давай, давай, может, подавишься! Солдат осклабился в довольной улыбке, обнажив гнилые зубы.
– Яволь, яволь! – И махнул рукой, чтобы пропустили.
Алексеев, сжавшись, с замиранием сердца смотрел, как поднимается шлагбаум. Сверлила мысль: «Знал бы этот солдат, кто сидит перед ним на облучке!»
Вокзал был оцеплен, и им пришлось объезжать его стороной. Навстречу одна за другой шло с десяток машин, крытых брезентом. Алексеев сидел, понурившись, с безразличным видом дергая вожжами. Ему не было видно, какой груз везут в машинах, но было попятно и так – вчерашнюю ночь фашисты запомнят надолго. Надеясь на отдаленность от фронта, они допустили одновременное скопление эшелонов с техникой, с боеприпасами, с живой силой, и вот – поплатились за это.
К месту добрались под вечер. Мать встретила сына и гостя радушно. Сердцем поняла, что плохого человека сын в дом не приведет. Она ласково смотрела на гостя, и от ее теплого взгляда растаяли в душе Алексеева последние льдинки сомнения: Корюн хороший человек, честный и бесстрашный. Ведь попадись он при проверке – участь его была бы решена: за укрывательство расстрел.
Овагимян вылез из-за стола:
– Пойду проведаю племянницу. – И ушел.
Анатолий знал планы Корюна. Через племянницу он надеялся добыть необходимые документы, с которыми Алексеев мог бы свободно передвигаться по немецкому тылу. Есть такие документы! Корюн их видел: стандартный бланк, напечатанный по-немецки, пропуск для фамилии, имени и отчества, пода рождения. Такой-то, такого-то года рождения, преданный делу великой Германии, эвакуируется через такие-то и такте-то пункты, к месту своей родимы, туда-то, что подписью и печатью удостоверяется. Хороший документ, настоящий! С ним не страшны никакие проварки. Но добыть такой документ трудно: бланк строгой отчетности. Однако чем черт не шутит, надо попытаться.
Сидит Алексеев, ждет. Шутка ли сказать, от какой-то бумажки зависит сейчас вся его жизнь! Полк звал. Душа рвалась к нему с неслыханной силой. Алексеев и сам удивился – откуда такая сила? Корюн говорил ему: «Останься! Я свяжу тебя с партизанами, будешь и тут воевать со славу Родины». Куда там! И слышать не хотел. Это было превыше всего-тяга в полк, в родную стихию. Слух, галлюцинируя, улавливал рокот моторов, всплески разрывав зенитных снарядов. В глазах метались лучи прожекторов, и сердце учащенно билось от сознания исполненного долга.
Чуть потрескивая, горела керосиновая лампа. Оранжевый плоский язычок, вытягиваясь по бокам, лизал отекло тонкими нитями кстати. Алексеев убавил огонь, облокотился на стол и, подперев подбородок ладонями, окунулся в чуткую дремоту. Сытость и уют не создали в нем благодушного настроения, он чувствовал себя, как на вокзале, полностью готовым к тягости пути. В полудремоте вставали перед ним образы его товарищей: штурмана Артемова, радиста Ломовского, воздушного стрелка Вайнера. Что с ними? Где-то они сейчас? Прислушавшись к себе, Анатолий не ощутил беспокойства за штурмана и за радиста, что-то в подсознании говорило ему, что они живы и находятся в безопасности, а вот Вайнер… Если убит – куда ни шло, а если ранен…
Скрипнула дверь, дрогнул язычок лампы. Алексеев поднял голову. В комнату шагнул Корюн. От улыбался. Его прямо-таки распирало от радости. Подошел, обдал запахом только что выкуренной папиросы и энергичным жестом положил на стол перед Анатолием документ с фашистской эмблемой, с немецким типографским шрифтом и впечатанным на машинке немецким текстом. Черная круглая печать со свастикой убедительно красовалась на толстом белом листке бумаги. Лишь пустовало место для подписи: коменданта и старосты сельской управы.
Алексеев разочарованно поджал губы.
– Что, тебе не нравится?!-всполошился Корюн.– А-а-а, подписей нет! Это мы сейчас.
Пошел в угол комнаты, где стоял небольшой столик, заваленный ученическими тетрадями, взял красный карандаш, ручку, чернильницу «непроливашку» и, вернувшись, размашисто по-немецки красным карандашом подписался за коменданта, потом коряво, чернилами, за старосту.
– Вот и все! Но ты не бойся, – добавил он.– Документ отличный. Немецкий текст, машинка, печать настоящая. А подпись – ерунда!
Алексеев пожал плечами: «Ладно, какой-никакой, а все же – документ!» – и принялся разбирать текст, впечатанный на машинке. Та-ак, возраст уменьшен на два года. Теперь ему девятнадцать лет. Он предан великой Германии, добросовестно служит ей и, являясь уроженцем станицы Крымской на Кубани, эвакуируется через Анапу, Керчь, Джанкой в Новоалексеевку, под Мелитополем.
Прочитай, Алексеев аккуратно свернул документ и уже хотел положить его в карман френча, но Корюн со словами «Подожди-ка» взял листок, бросил его на пол и принялся топтать подошвами ботинок.
У Анатолия даже дух захватило, и сердце зашлось от недобрых подозрений: «Да что же это он вытворяет такое?!»
Корюн поднял листок:
– Ну вот, теперь у него нормальный вид. Понимаешь?
– Понимаю, – сказал Алексеев и покраснел за свои подозрения. Путь далекий, а липа новенькая, неистрепанная, соображать бы, надо самому.
– Ладно, -сказал Алексеев и поднялся из-за стола.– Что будем делать дальше?
– Спать, – сказал Корюн.– Под утро я тебя разбужу. Пойдешь пешком до Сиваша, а там поездом переедешь. Бумага есть.-Он тронул рукой плечо Алексеева.– А может, все-таки останешься, а?
– Нет, что ты. Корюн, не могу! Сил моих нет. Сердце в полк просится.
Не вернулся
Мы выбрались из самолета. Мои ребята смущены.
– Ну как? Что вы на это окажете? Алпетян стоит с поджатыми губами. Он возмущен до предела:
– Товарищ командир, да кто же его так отделал? Разве можно летать на таком утюге?! Это же верная смерть!
Краснюков, прилаживая к поясу шлемофон, сказал сердито:
– Не машина, а гроб с музыкой!
Морунов промолчал. Он старшина по званию, и ввязываться в разговор офицеров ему не положено. Свои мнения он выскажет друзьям стрелкам.
Подходит техник звена Тараканов, высокий, медлительный, подчеркнуто солидный, как и полагается парторгу. Сейчас у меня к Тараканову отношение настороженное. Он отвечает за состояние материальной части, и машина № 9 стоит в графе готовности. Самолет цел: крылья, хвост и шасси на месте, моторы работают нормально. Что еще надо? И тут я должен заявить, что самолет неисправен! Как воспримет ом это? Ясно же, все в нем воспротивится, и опять-таки – формально он будет прав.
Но Тараканов неожиданно сам выручает меня.
– Товарищ командир, мы с инженером все выяснили. Удивленно таращу глаза.
– Что именно?
– А как же, Кармин на бреющем в деревья вмазал!







