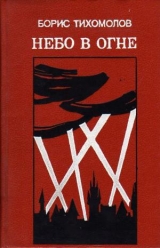
Текст книги "Небо в огне"
Автор книги: Борис Тихомолов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 23 страниц)
– К батьке?!
Капитан сердито фыркнул:
– Вот чертенок! Сладу с ним нет, – и, как бы извиняясь, пояснил: – Это воспитанник наш. Сын полка. Рвется на фронт, к партизанам, фашистов бить. Отряд организовал «мстителей». Видали сорванцов у самолета? Трижды на передовые бегал. Мне за него влетало не раз – командир в нем души не чает. Говорит: «Отвечаешь головой».
Начальник штаба, протянув мне журнал и пакет, подсветил фонариком:
– Вот, распишитесь. Пакет вручите командиру.
На горизонте за лесом один за другим неслышно вспыхнули взрывы. Выхваченные из темноты самолеты окрасились на миг в бордово-красный цвет, блеснули стеклами кабин и вновь потерялись в ночи.
Расстегнув шинель, капитан прикрылся от ветра полой, закурил. Огонек его трубки затлел, засветился, озарив кончик сухого, хрящеватого носа.
– Ну, майор, ни пуха вам, ни пера!… Пошли Жучок. Но Жучка не было.
– Удрал, – добродушно проворчал капитан.– Обиделся.
…В иссиня-черном бархатном небе горят, переливаются звезды. С высоты двух километров они кажутся ярче и холодней. Внизу, под самолетом темнеют леса с извилистыми лентами заснеженных рек, с прямыми, тонкими ниточками шоссейных и железных дорог. Села и хутора угрюмо спят, настороженные, непокорные. Здесь, в этих лесах, враг не был хозяином.
Положив на колени планшет, штурман склонился над картой. Тусклый свет лампочки освещает штурвал, кисть руки и, мягко отражаясь от приборов, вырисовывает широкоскулый профиль с упрямо сжатыми губами. Губы шевельнулись, что сказал штурман, я не расслышал. Что-то грохнуло, затрещало, и перед глазами запрыгали голубые молнии. Удары, тяжелые и частые, потрясли самолет. В наушниках крики радиста: «Истребитель!» И снова: «Тук-тук-тук!» – стрельба из бортового пулемета.
Потом все кончилось так же резко и неожиданно. В наушниках тяжелое дыхание радиста и хриплый голос:
– Товарищ командир! Атака отбита. Фашист подожжен…
Я силюсь унять дрожь в коленках. В горле пересохло, и, так же как радист, хриплым голосом отвечаю:
– Молодец, Бедросов!…
В кабине густо пахнет пороховыми газами. Светятся циферблаты приборов, мерцают звезды на небе. Они кажутся ярче, даже видно крыло, поблескивающее металлом. Штурман возится в своем кресле, вытягивает шею, смотрит за борт.
– Правый мотор горит, – угрюмо, без волнения докладывает он.
– Что?! Правый мотор?…– Я приподнимаюсь на сиденье:– А-а, ч-черт!…
Из– под капота по крылу, словно уголки пионерского галстука, трепещут красные язычки.
«Пожар!» – страшное слово для летчиков. Это означает: «Секунд через тридцать-сорок взорвутся баки. Надо прыгать с парашютами!»
Охваченный страхом, я бессознательным движением руки перекрываю бензокран увеличиваю до отказа обороты горящему мотору: так скорее выработается бензин из карбюратора.
Борттехник, согнувшись в проходе, срывает пломбу с огнетушителя. В кабине поблескивают оранжевые зайчики. Мне видно напряженное лицо бортмеханика – смертельно бледное, с расширенными глазами. Смотрит на меня, ждет команды.
Пламя хлещет по крылу. В кабине светло, как. днем. Удушливый дым забивается в легкие. Машина резко дергается – остановился мотор. Так, хорошо! Я киваю головой: «Давай!»
Бортмеханик дергает рычаг. Секунды бегут: вот-вот взорвутся баки. Болит охваченное страхом сердце. Скорее!… Прыгать!…
Громко кричу:
– Надеть парашюты! Покинуть самолет!
Борттехник исчезает. За ним, путаясь в привязанных ремнях, выбегает штурман. Я остался один. Левый мотор ревет с предельной нагрузкой. Сквозь дым успеваю заметить – высота теряется. Медленно, но теряется. Слишком сильно нагружен самолет. Пламя бушует. Пора!
Тяжело, как свинцовую, поднимаю руку, чтобы нажать кнопку – сигнал для прыжка. Там, в фюзеляже, зажжется красная лампочка, и я останусь один. Совсем один. Тогда я заглушу мотор, введу машину в планирование, вылезу из тесного сиденья, побегу в фюзеляж, сниму € крючка парашют, пристегну к карабинам и только потом прыгну.
Сзади возня, какой-то шум, крик. В проеме между кресел показывается борттехник. На лице его растерянность. Правой рукой он тащит кого-то за шиворот.
– Вот, видали?! В чехлах сидел!…
Передо мной стоит Жучок, растрепанный, без шапки. Лицо в черных масляных пятнах, в глазах восторг и восхищение.
Рука моя безвольно падает на штурвал. «Пять человек и… четыре парашюта!»
Противоречивые чувства – радости и гнева, страха и надежды охватывают меня. Некоторое время сижу в замешательстве, не знаю, что предпринять, и вдруг замечаю – в кабине темно. Голос штурмана, спокойный и какой-то безразличный, доходит до меня словно издали:
– Пожар прекратился. Мотор горел пятьдесят восемь секунд…
Я откидываюсь в кресле, облегченно вздыхаю. Волна радости сладкой истомой разливается в груди. В темноте нащупываю прижавшегося в проходе Жучка, ласково глажу коротко остриженную голову, потом мягко выталкиваю из кабины. Борьба еще не кончилась, опасность еще не миновала.
Штурман сидит в кресле, сверяет карту с местностью. В проходе настороженно замер техник. По-прежнему ярко горят звезды, чернеет лес внизу. Гулко, с надрывом рокочет мотор, и стрелка высотомера, с которого я не спускаю глаз, ползет по шкале все ниже и ниже.
Нет, опасность не миновала. Она впереди, в неизвестном. Партизаны ждут нас, чтобы решить задачу, важную для фронта, и я отгоняю соблазнительную мысль – сбросить груз и налегке вернуться домой. Нет, мы должны долететь! Даже ценой самолета! Даже…
Я поворачиваюсь к штурману:
– Сколько километров до Куреновской?
– Сто.
– Это много, не дотянем.– И к борттехнику:– Груз сохранить, остальное – все за борт!
Техник вздрагивает, умоляюще смотрит на меня.
8 глазах страдание. Я понимаю его: самолет новый, инструмент, домкраты– все новое.
– Все, все за борт! Живо! Даже пулеметы! В наушниках восклицание радиста:
– Товарищ командир!…
– Отставить! Выполняйте приказание!
Техник исчез. Штурман неловко выбирается из своего сиденья, останавливается, молча жмет мне руку, лежащую на штурвале.
Мотор тянул из последних сил, звенел, переливался на высоких нотах и все же самолет снижался. Уже вдали были видны костры на партизанском аэродроме – три пары огоньков. Но нет, не дотянуть до них.
Не отрывая взгляда от костров, спрашиваю техника:
– Все лишнее сбросили?
– Все, товарищ командир! – торопливо ответил он.– Даже сиденья отвинтили.
Костры замерцали и потухли, скрывшись за макушками сосен. Самолет снижался. Внизу, под нами, зловеще чернел лес, рядом, близко. И ни одной полянки, ни одного просвета!
Самолет подбрасывало слегка, словно он уже задевал крыльями за деревья. Он еще жил. Еще билось его сердце, и пульс штурвала, вздрагивая, отсчитывал последние минуты. Металлические пряжки кожаных перчаток отражали звезды. В темноте кабины отчетливо белели лица с плотно сжатыми губами. И одна и та же мысль в расширенных глазах: «Вот сейчас… самолет врежется в лес. А сзади смертоносный груз. Удар! Взрыв… Столб огня, и… все будет кончено».
– Где чехлы? – не обращаясь ни к кому в частности, хрипло спрашиваю я.
– Что? – наклоняясь ко мне, переспросил техник.
– Чехлы! – заорал я. – Где чехлы?! Теплые моторные чехлы?!
Техник виновато втянул голову в плечи.
– Здесь, не выбросил. А что?
– Обернуть коробки с детонаторами!… И снова чернота внизу, густая, непроглядная. Лес внезапно оборвался, и перед нами снежной белизной возникла длинная прогалина. Кто-то хрипло сказал:
– Охх!…
Может быть, это был общий вздох надежды и облегчения?
Я резко приглушил мотор, включил фары. Два ослепительно ярких луча уперлись в снег, бугристый, неровный. Навстречу нам, отбрасывая тени, неслись торчащие стволы обломанных деревьев и черные сплетенья корневищ.
Заученным движением я медленно тянул штурвал на себя – сажал машину. В полуоткрытую форточку с унылым свистом врывался ветер. Свист, постепенно меняя тон, переходил на басовые ноты. Самолет терял скорость. Это было его последнее дыхание. Сиял, искрился снег.
Кто– то вбежал в кабину:
– Товарищ командир, детонаторы обернуты!…
В тот же миг самолет зашуршал брюхом по снегу. Вцепившись обеими руками в штурвал, я инстинктивно откинулся назад. Жесткий толчок, треск. Самолет подпрыгнул, встал на дыбы, повалился вниз. Опять толчок, грохот ящиков в фюзеляже, скрежет, металлический звон. Вслед за тем – тишина.
В кабине, оседая, кружилась снежная пыль. Снаружи в ярких лучах фар, кивая ветвями, качался потревоженный ствол осинки, а по нетронутой белизне моталась зигзагами тень длинноухого зайца.
Звонкий детский смех прозвучал неожиданно:
– Вот. напугали зайчишку!… Улю-лю, косой!… Я вздрогнул, приходя в себя, отпустил штурвал и выключил фары.
Часа через два томительного ожидания мы услышали скрип лыж по снегу. Я приказал сидеть тихо; это могли быть и немцы. Рядом, прижавшись ко мне, стоял Жучок.
Шаги ближе. Треснула ветка, и кто-то громко сказал:
– И где их искать? Словно сквозь землю провалились!
Жучок встрепенулся:
– Батя!
Через два дня за нами прилетел самолет. На этом и закончились наши полеты к партизанам…
Поворот судьбы
Февраль. Март. Апрель. Май. Полеты, полеты, полеты. Потери. Сбили такого-то. Не вернулся такой-то. Новый самолет. Новый экипаж. Полеты. Потери. Все воспринималось как должное. Война. Никто не считал себя лучше других. Перед вылетом каждый из нас вкладывал в ствол своего пистолета девятый патрон, «для себя». При возвращении тут же, в кабине, патрон вынимался. Все очень просто: собьют – что ж. Не собьют – совсем хорошо!
Июнь. Ночь короче воробьиного клюва. Чуть задержался над целью, и уже рассвет застает тебя над территорией, занятой врагом, и вездесущий «мессершмитт», подкараулив на маршруте, начинает клевать тебя с дальней дистанции из пушек. И ты крутишься на сиденье, как флюгер: летишь вперед, а смотришь назад. И все видишь; и всплески пламени в носу у истребителя, и как летят тебе вдогонку снаряды: красные, желтые шарики. Смотришь, не отрываясь, и ногой-ногой потихоньку отворачиваешь. И снаряды пролетают мимо. А когда застучит, затарахтит ответным огнем твой радист из башни, «мессершмитт» торопится уйти. Но все равно война есть война, и наша боевая страда продолжалась.
А для меня она неожиданно прервалась.
Звонок. Беру трубку и слышу взволнованный голос майора Леонидова – начальника штаба нашего полка:
– Срочно! Одна нога там, другая тут – беги ко мне!
– Есть! А что такое?
– Потом скажу.
Пожимаю плечами: что за спешка? Однако сердце затрепетало от каких-то неясных, но добрых предчувствий.
Леонидов, худощавый, с большими добрыми глазами, раскуривая трубку «Мефистофель», сказал:
– Сдавай эскадрилью. Я недоверчиво хмыкнул:
– Что за шутки! Леонидов пыхнул трубкой.
– Нет, серьезно, – указание свыше: «Направить в распоряжение начальника штаба АДД».
– И все?
– Все.
– Не густо.
– Какое-то задание, – так я думаю. Я фыркнул:
– Ну, подумаешь – свет клином сошелся! Леонидов нахмурился и сказал, не вынимая трубки изо рта:
– Ладно, не паясничай и не напрашивайся на комплименты. Иди – прощайся с эскадрильей. Через час с четвертью отъезжает машина.
Открытие нового, познание неизвестного! Кому не знакомо это непередаваемо волнующее чувство?
Война есть война, со своими рисками, со своими опасностями и, если это действительно какое-то серьезное задание, значит, оно должно быть сопряжено с еще большим риском, с еще большими опасностями! И странное дело: все-таки любому нормальному человеку свойственно чувство самосохранения и, казалось бы, в такие минуты следовало задуматься над тем, чем все это может кончиться? Но мне в эти дни исполняется тридцать, и поэтому беспокоиться о чем-то… просто было некогда.
И уже у меня что-то отключилось. Я был весь там, в Неизвестном. И все то, с чем я сжился, к кому и к чему привык, все было сейчас в Прошлом, помыслы же мои – в заманчивом Будущем.
Сегодня эскадрилья полетит без меня. В мой самолет сядет другой командир. И штурман Евсеев, и радист Заяц, и стрелок Китнюк будут слетываться с новым комэском, а это в боевой обстановке – сложно и опасно: другие повадки, другие привычки, другая судьба…
…В Москве, в просторной приемной Командующего АДД оказалось довольно много людей; все аэрофлотские, и потому, почти все друг другу знакомые: борттехники, летчики, радисты. Восклицания, удивления, недоуменные вопросы: зачем вызвали, что затевается? Но никто ничего толком не знал. Было ясно, что всех нас собрали для какой-то одной цели, но для какой? В воздухе неслышимо, незримо витала одна фраза: «Специальное задание», и все!
Ну, специальное так специальное! Наше дело маленькое. Когда понадобится – скажут. А что мы будем делать сейчас?
Какой– то подполковник из штаба, расторопный и веселый, охотно пояснил:
– Что будете делать сейчас? Летать! Набивать руку и глаз. Мы создадим из вас Отдельную эскадрилью. И вообще можете не сомневаться – работа будет!
И работа нашлась, только совсем не такая, какую я ожидал. А где же риск? А где же опасности? Ташкент – это разве опасность?! Меня вместе с другими экипажами отправили в Ташкент!
Вообще, конечно, это было здорово! У меня даже дух захватило от такого сообщения. Ташкент – моя вторая родина. Детство, юношество – все связано с этим любимым городом. Бывшие мастерские «Добролета», в которых я учился и работал, были тоже мне родными. Там мы собирали самолеты – старую немецкую рухлядь: почтовые и пассажирские «юнкерсы». Там старейший летчик Михаил Хохлачев впервые поднял меня в воздух и тем решил мою дальнейшую судьбу. Оттуда я пошел учиться на летчика. Туда же вернулся, окончив школу. Там же началась моя летная романтика: древние пустыни, древние-древние горы. Жаркое солнце. Кишлаки. Хлопковые поля. Арыки. Реки с романтическими названиями: Сырдарья, Амударья. Полеты, полеты. Грузы. Почта. Пассажиры. Геологи, нефтяники, животноводы. Все! Все мне было там родное! Все…
Задание было прозаическое: там, в бывших Ташкентских мастерских, куда эвакуировался из Москвы авиазавод, выпускавший пассажирские самолеты типа «дуглас»– «ПС-84», клепали теперь транспортные «ЛИ-2» – тот же «ПС-84», только без пассажирского комфорта. Сейчас по особому заданию завод выпускал несколько машин пассажирского варианта. Самолеты надо было придирчиво осмотреть, испытать в полете и перегнать в Москву. Вот и все! Проще простого!
Мы подлетали к Ташкенту. Я волновался, я трепетал, глядя сверху на знакомые мне пригородные кишлаки и колхозные поля. Я не был здесь сто лет! Ну, может, не сто, а целых… восемнадцать месяцев! Мало? Нет, много! Нам на войне день шел за три дня, и это справедливо: жизнь там крутится бешено. И я думал, что увижу Ташкент таким же, каким покинул его, когда ушел на фронт. Но я ошибся. Ташкент был не тот. Совсем не тот. Здесь тоже, видимо, день шел за три дня, если не больше. Ритм теперешнего города не уживался с тем, что закрепилось в моей памяти. Нет больше тихих улиц, нет поливальщиков на них, которые из ведра по вечерам, ловко обрызгивают придорожную пыль. И уже за грохотом машин не слышно больше мелодичного журчания арыков. Город был в напряжении: Все для франта! Все для победы над врагом!
На заводе нас встретили сдержанно. Небывалая практика, чтобы продукцию принимали «чужие» летчики. Все-таки «свой» испытатель вернее. Он уже сжился и зря придираться не будет. А тут еще поставлены условия– если машина будет плохо брать высоту – браковать беспощадно! Чужим-то летчикам что – закапризничал и все тут, а как же план?!
Мы пришли на завод рано утром, чтобы облетать машины до жары. Наши самолеты стояли отдельно: зеленые, со звездами, в новых чехлах. Экипажи разошлись по машинам. Мой борттежник Иван Романов, худощавый, смуглый, с густой шевелюрой вьющихся черных волос, озорно сверкнув цыганскими глазами, подбежал к самолету, хлопнул ладонью по фюзеляжу, крикнул на цыганский манер:
– Ай, маладой, карасивый, неженатый-холостой! А ну, стоять! Не лягаться! – и дернул завязки чехлов.
Романов был русский по отцу и цыган по матери. Нас с ним связывает старая дружба. Мы еще мальчишками учились в одном классе в Ташкенте. Потом расстались и снова встретились, уже вот здесь. Веселый, жизнерадостный, он всегда и всем был по душе, и дело свое знал отменно.
Сняли чехлы, отперли дверь, и когда распахнули ее – ахнули. Ряды мягких пассажирских кресел, салон с просторными диванами, красная ковровая дорожка, шелковые занавески на окнах,
– Сила! – одобрительно сказал Романов.– Шелковая машина! Кто же, интересно, на ней полетит и куда?
Копались долго. Романов придирчиво осматривал машину: узлы, ролики, тросы управления. Чуть ли не обнюхивал каждую деталь. Но все было сделано на совесть. Лишь радист, высокий молчаливый парень, по фамилии Бурун, хмуро копался в рации. Где-то завалилась какая-то колодка, и он не мог ее достать.
Наконец, все готово: моторы опробованы, рация в порядке, барограф включен. Выруливаем к старту. Взлетаем.
В мою задачу, кроме всего прочего, входило: за единицу времени набрать побольше высоты. Стрелка самописца прочертит на барограмме наш путь по вертикали и по времени. Это и будет документ качеств самолета.
Идем по кругу. Высота берется легко. Тысяча метров. Две. Три. С волнением смотрю на горы, сверкающие снежными вершинами. Вон там за ними – Ферганская долина, а там вон, за грядой высоких отрогов – Фрунзе, Алма-Ата. Все летано и перелетано.
Романов, сидящий на правом сиденье, как-то обеспокоен™ взглянул на меня, потом «а вариометр, стрелка которого показывала скорость набора высоты – два метра в секунду.
– Может, хватит, командир?
– Чего хватит? – не понял я.
– Высоту набирать.
– Как это «хватит»? Ты что?!
Борттехник смущенно отвернулся и промолчал. Набрав еще метров триста, я посмотрел на Романова. Странно, он явно задыхался. Сказалась привычка к полетам на малой высоте.
– Иван, ты что? Борттехник повел глазами:
– Кислорода не хватает.
А мне смешно. Вот уж, поистине «сытый голодного не разумеет!» Три тысячи четыреста. Да разве это высота? Мы сидим тут в самолете, не двигаясь и не тратя энергии, а как же наши бойцы там, на Эльбрусе, на Кавказском фронте, ползают по снегу на высоте четырех километров?! Да еще с винтовками, да с минометами и пулеметами?!
– Ничего, – сказал я.– Потерпи. Вот доберем до четырех и будем снижаться.
Романов испуганно вытаращил глаза:
– Не выдержу! – простонал он.– Снижайтесь.
Я разозлился. Сколько лет летал здесь на почтовых самолетах, и всегда запросто, набрав пять тысяч, перемахивал через горы. Мне и в голову тогда не приходило, что на этой высоте кислорода меньше, чем на земле. Наоборот, я наслаждался свежестью воздуха и крепким морозцем. А там, на фронте… Да что и говорить! Нежности какие. Распустят слюни…
– Сиди!– жестко сказал я. – Ничего с тобой не случится. Будем набирать до четырех.
В проходе неожиданно появился радист. Рот открыт, глаза выпучены, грудь вздымается и опускается, как после марафона.
– Здрассте! – приветствую его.– Явление второе. I Что случилось?
Бурун судорожно вцепился руками в подлокотник моего кресла:
– Командир… не могу… Задыхаюсь… Я вскипел:
– Час от часу не легче! Да вы что обалдели?! Да как вам не стыдно! Еще нет и четырех, а вы уже нюни распустили! Идите оба в пассажирский салон да посмотрите, что показывает барограф.
Радист, одарив меня укоряющим взглядом, вышел в салон, вслед за ним, еле волоча ноги, поплелся борттехник. И почти тут же, чуть не сбив Романова с ног, поя вился Бурун. Глаза его горели победным огнем.
– Товарищ командир!… На барографе четыре тысячи шестьсот! Вот! – и сел на пол.
Я посмотрел на высотомер: три тысячи семьсот. Странно. А может быть кто-то врет? Либо мой высотомер, либо барограф, либо Бурун?… Однако ладно. Жалко ребят.
Что ж, будем снижаться.
На земле разобрались: был неправильно установлен высотомер в пилотской кабине, и мы набрали тогда высоту с разными там инструментальными и прочими поправками – пять тысяч пятьдесят метров, что и было торжественно запротоколировано дирекцией завода.
Совершенно секретно
Мы пригнали в Москву таинственные «шелковые» самолеты и поставили их на прикол. Зачехлили, запломбировали. До какой-то поры, до какого-то времени.
Меня посадили на «ПС-84», и стал я возить молодых штурманов на радионавигационные учебные полеты.
Экипаж у меня стал другой. Борттехник, он же радионавигатор, Тимофей Глушарев, невысокого росточка, круглый, как колобок, глаза – щелочками. В движениях нетороплив и даже важен. И, как-то у него получалось: подойдет к самолету, коснется рукой, и сразу кажется, будто это и не самолет вовсе, а добрый-добрый красавец конь. Вот-вот заржет он, потянется мордой и тронет мягкими теплыми губами ласковую руку хозяина. И Глушарев-хозяин смотрел на свой самолет, как на создание, вполне одушевленное.
Бортрадист лейтенант Николай Белоус был полной противоположностью капитана Глушарева. Высокий, стремительный. Дело свое тоже знал отлично и ключом работал виртуозно.
Летали мы днем и ночью и в любую погоду. По пять, по семь часов без посадки. В пассажирском салоне человек двадцать штурманов. У передних кресел – два столика с компасами и радиоаппаратурой. Практиканты, сменяя друг друга, по очереди «колдовали» над картой. Если были облака – шли по сложному маршруту в облаках, и ребята, ориентируясь по радио, прокладывали путь. Это было здорово! И это было совсем не похоже на то, как вел ориентировку мой Евсеев: «Недалече!»
Иногда мы прилетали домой в тумане. Тогда Глушарев сам становился к прибору и быстро-быстро, один за другим, давал мне пеленги. Потом мы выпускали шасси, на расчетной высоте выходили точно на приводную, выпускали посадочные щитки, убирали обороты моторам, и шли на посадку, не видя земли, но твердо зная, что сейчас вот, через несколько секунд, перед нами появится посадочная полоса. И она появлялась! Восхитительные это были полеты!
В ноябре все побелело. Леса, поля – в синеватом снеге. Светит морозное солнце в морозном чистом небе, и с высоты четырехсот метров уже видно хорошо, как мышкуют лисы. Встанет огненная чертовка, вытянув хвост, ушки торчком – вся внимание! Потом вдруг кинется, и пошла работа. Летит снег фонтаном из-под задних лап. Затем носом – тык! И уже видно – поймала! Сидит, жмурится – жует. Вкусно! Или в ивановских лесах, в буреломе, где черт ногу сломит, вдруг увидишь парочку громадных лосей. Шея на шею – как лошади – стоят неподвижно, нежатся. Хорошо, тихо, комара нет, и охотники все на войне.
Но в такую погоду летать скучно: нет напряжения и (нечем похвастать перед самим собой – вот мы какие! А сердце все чего-то ждет, ждет…
И вдруг в середине ноября команда: «Явиться в штаб, на прием к Командующему АДД маршалу авиации Голованову…»
Та же премия, где мы уже были пять месяцев назад. Те же знакомые лица, человек двадцать-тридцать. С удовольствием здороваюсь с Романовым и Буруном. В назначенный час все робко входят в просторный кабинет Голованова, которого мы обожаем и которым гордимся. Это наш человек, плоть от плоти. Блестящий летчик ГВФ, неисчерпаемая энергия которого создала воздушную армию – авиацию дальнего действия.
Голованов сидит прямо, сухопарый, высокий. Удлиненное лицо, высокий лоб и какие-то особенные, проницательные и в то же время добрые, умные глаза.
– Проходите, рассаживайтесь, – сказал он и, взяв со стола ярко вышитый кисет, принялся закручивать длинными пальцами махорочную самокрутку.
Мы сели на стулья, расставленные вдоль стен, и тихо, как дети, положив руки на колени, замерли.
Голованов прикурил, затянулся и, выпустив струйку сизого дыма, сказал:
– Что ж, друзья, возможно, полетим в Америку. Однако маршрут могут изменить. Во время войны все возможно.
Общий вздох изумления, общее движение. Все мы хорошо понимали, что значит – лететь зимой, через всю страну, через горы, через сопки, через тайгу «тундру в Аляску, а потом в Америку. Конечно, будут пассажиры (ведь повезем же мы кого-нибудь!). Дальность полета наших «ПС-84» с полной загрузкой, вообще-то никудышняя. Придется часто заправляться, а это значит часто лететь на предельном запасе горючего. А вдруг в это время испортится погода, что тогда?
Не дав нам опомниться, маршал добавил:
– Надеюсь, здесь сейчас сидят серьезные взрослые люди, которые понимают, что говорить об этом…
Общий вздох, общее движение. У всех были такие лица и такие убедительные жесты, что было ясно – ну, никто, абсолютно никто никому ничего не скажет. Даже своей жене. Могила!
Убедившись в том, что государственная тайна будет соблюдена, Голованов спросил, у кого будут какие вопросы и предложения. Обладая феноменальной памятью, он называл при этом каждого из нас не только по фамилии, но и по имени. Зная, что он не любит, когда его величают по званию, мы называли его Александром Евгеньевичем, и обстановка от этого сразу же стала какой-то домашней, будто мы собрались в мирное время в порту, чтобы обсудить обыкновенный рейс.
И предложения посыпались, как из рога изобилия. Кто предлагал обязательно включить в снаряжение экипажа, на случай вынужденной посадки, охотничьи ружья с запасом патронов, кто лыжи, кто утепленные палатки и даже деревянные лопаты для разгребания снега. Более практичные предложили спирт. А вдруг обледенение!
Александр Евгеньевич с серьезным видом все это записывал. Потом, когда набрался длинный перечень наименований, кому-то пришла в голову мысль, что самолет с таким грузом не взлетит, даже если не будет ни одного пассажира. Подсчитали – да, действительно – не взлетит. И все рассмеялись.
Тогда стали список сокращать. Исключали все подряд, лишь на спирте произошла заминка. Все-таки – обледенение!
– Спирт нужен, – твердо заявил Романов и красноречиво облизнулся.
Все рассмеялись, но спирт оставили. Мало ли зачем он будет нужен: в шасси залить или еще куда…
Через несколько дней нас собрали снова, уже к ночи, посадили в автобус и повезли в Москву. Ночная темь, звезды, скрипучий снег под колесами. И ветерок с морозцем. Куда нас везут?
Наконец, привезли. Вылезли, встали на одеревеневшие ноги. Какая-то набережная. Какие-то высокие дома с темными глазницами окон. Визжит под каблуками снег. Ну и морозище!
Скрипнула дверь, и нас обдало теплом и запахом складского помещения. Ослепленные светом, мы не сразу поняли куда попали. Мимо торопливо прошмыгнул человек в штатском, через плечо у него свисал портняжный сантиметр. Вслед за ним прошли еще несколько человек и тоже с сантиметрами. Кто-то сказал вполне отчетливо, но не совсем понятно:
– Заходите, товарищи, выбирайте, кому какая понравится…
Чего выбирать? Ко-го выбирать? Еще не пришедшие в себя от мороза, мы вошли в другое помещение, где на специальных вешалках висело множество палускроенных и полусметанных генеральских шинелей из лучших сортов драпа.
– Эх, вот это да-а-а!– воскликнул кто-то, и мы опомниться не успели, как этот кто-то, оказавшийся мотористом, кинулся в самую гущу шинелей выбирать себе по вкусу.
– Эй-эй!-крикнул Романов.– Тебе не положено по уставу!
– Ничего, ничего, – вмешался портной.– На это есть особое распоряжение. Выбирайте, и мы сейчас же на вас все подгоним.
– Ну, раз особое указание…
Я выбрал себе шинель. Портной, хлопоча возле меня и намечая мелком, где урезать, где подшить, сказал:
– Вот, товарищ майор, вчера я Иосифу Виссарионовичу шинельку справил, а сегодня делаю вам.
– Иосифу Виссарионовичу?!
И я с трепетным чувством посмотрел на его ловкие пальцы, порхающие у моей груди и словно благословляющие меня на что-то, пока мне неизвестное.
Через два часа мы были одеты с йог до головы во все новенькое. Даже носовые платки и великолепные кожаные перчатки на меху лежали в карманах наших шинелей.
– Си-ила!-восхищенно сказал Белоус, разглядывая себя в зеркале и поправляя на голове потрясающую шапку-ушанку из светло-серого каракуля.
Что и говорить, все мы были писаные красавцы, только вот мотористы в шинелях из генеральского драпа выглядели странно.
– Разжалованные генералы!-сострил Белоус и загоготал. Он любил острую шутку.
Куда мы летим?
Утро 23 ноября 1943 года выдалось морозное и туманное. Мы вышли к самолетам еще как следует не проснувшиеся и не пришедшие в себя от вчерашнего сказочного переодевания. Нас подняли рассыльные:
– Срочно! Перелетать на Центральный аэродром!
«Начинается!»-подумали мы. На душе волнение перед неизвестным. Такой полет! Такой громаднейший маршрут! Все ли долетим до места назначения?
Застоявшийся самолет принял нас холодком. Но заработали моторы, запульсировали стрелки заиндевевших приборов, и машина согрелась, ожила. Все готово, все в порядке! Выруливаем, взлетаем. Ставлю курс на Москву. Но где же Москва, и где Центральный аэродром? Как найти его, в этой густой смеси тумана и дыма, висящего над столицей?
Однако нашли. Заход, посадка. Подруливаем к указанной стоянке и выключаем двигатели. На аэродроме тихо, и уже стоят другие наши самолеты. Однако до чего же неприятная, промозглая погода!
Выбираюсь из сиденья, чтобы еще раз проверить пассажирский салон – все ли в порядке. Ряды мягких кресел ослепляют белизной чехлов. Ноги мягко тонут в ярко-красной ковровой дорожке. Глушарев уже успел наладить отопление салона, и в самолете тепло и уютно.
Нас никто не встречает. Пассажиров нет. Странно. Ждем минут двадцать. Наконец появляется автобус и из него как-то вяло и с какими-то, как мне показалось, недовольными лицами вылезают офицеры с планшетами в руках. Они расходятся по самолетам. Это кто же? Наши пассажиры? Что-то очень мало – по одному на экипаж.
Вглядываюсь в приближающегося к нам офицера и узнаю в нем знакомого штурмана Сергея Куликова.
Куликов поднимается по лесенке. Здороваемся. Сергей явно не в духе. Говорит ворчливо:
– Штурманом я у тебя. Пошли.
– Как пошли?
– Пошли. Запускай моторы и пошли.
– Ничего не понимаю! А пассажиры? Куликов досадливо махнул рукой:
– Не будут. Пошли, потом расскажу.
Я пожал плечами:
– Ну пошли так пошли.
Запустили моторы. Надо выруливать, а мне все не верится: пассажирский салон пустой. Неужели так и полетим? Куда? Зачем?
С недоумением смотрю за борт. Стоит Голованов и с ним флаг-штурман полковник Петухов. Он машет мне рукой:
– Выруливай! Взлетай!
Отвечаю жестом: «Понял!»
Взлетаем. Легкий, как пробка, самолет тотчас же отрывается от земли и устремляется вверх. Непривычно как-то и несолидно.
На компасе курс 145. Сейчас мы наберем высоту и возьмем курс на восток – 90. Ведь нам лететь в… Америку!
Куликов сидит на правом сиденье. Вид у него кислый и какой-то загадочный.
– Курс!-говорю я, обращаясь к нему. Сергей кивает головой:
– Так и держи! Я обалдело хлопаю глазами.
– Это что за новость?! Куда мы летим? Между кресел появляется Глушарев:







