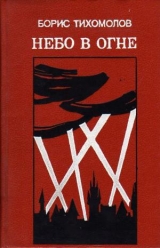
Текст книги "Небо в огне"
Автор книги: Борис Тихомолов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 23 страниц)
Облегчения от маски не наступает. Глупо. Очень глупо все-таки сделал он, что принял такую дозу «колы». Личные переживания? У воина их быть не должно! Воин -это надежда страны, рычаг победы. Он должен быть душевно спокойным, выносливым, крепким. Крепче, гораздо крепче, чем враг. Но там, в тылу… не понимают, что ли?
– Командир – курс! Топалев стискивает зубы.
– А, ч-черт…
Рывок ногой. Гавкают моторы. Картушка компаса нехотя занимает нужное положение.
Высота – пять тысяч шестьсот. Справа видны метелки прожекторов. В черном небе густо вспыхивают бурые звездочки разрывов зенитных снарядов. Рвутся бомбы.
Топалев оживляется. Наконец-то – цель! Подправляет ногой.
– Командир, курс! Топалев взрывается:
– Да что ты, ослеп, что ли? Не видишь – впереди справа!
– Это Кенигсберг, – спокойно отвечает Овечкин.– 3апасная цель.
Топалев приникает в фонарю:
– Не может быть!…
– Нет, командир, так. До Берлина еще около трех, часов. Курс.
У Топалева никнут плечи. Словно кто прибавил. Около трех часов… Это невозможно.
Гудят моторы. Мерцают звезды. Кенигсберг медленно-медленно проплывает в стороне и остается позади. Высота – шесть тысяч сто. Стынут ноги, стынут пальцы рук. Какая-то слабость в теле. Какой-то розовый свет в глазах. Отчего бы это? От «колы»? И вдруг яркая вспышка и… тьма.
Штурман в обороте
– Командир, курс! -сказал штурман.
Молчание.
Прозрачный нос штурманской кабины чертит своими переплетами иллюминаторов ночное небо. Звездный хоровод ползет направо вниз. Все быстрее, быстрее.
Что это? Неприятная легкость в теле. Овечкин хватается руками за кресло:
– Командир! Командир! Молчание.
Легкость нарастает. Ноги сами отрываются от пола. Моторы работают взахлеб.
– Командир!!
– Товарищ капитан, мы падаем! Что с командиром?
Это кричит радист.
Если бы знать, что с командиром!…
Штурман, держась за кресло, поворачивается назад. Темно, ничего не видно. Только носки унтов да педали.
Моторы рявкают сердито. Толчок! Звезды дружно вскинулись вверх. Овечкина оторвало от кресла, придавило к борту. Моторы завыли на высокой ноте.
– Падаем! Падаем!
– Не ори, – сказал штурман и, преодолевая тяжесть, пополз на коленях к противоположному борту кабины.
Душераздирающий вой моторов, тошнотворное вращение звезд. За голову что-то потянуло. Нащупал рукой: гибкий шланг кислородной маски. Сорвал маску, бросил. Ручка! Где ручка управления? Ага, вот она, прижатая зажимами к борту. Выдернул. Стал щупать пальцами холодный пол кабины.
Звезды крутятся, крутятся. Воют моторы. В лицо дуют упругие воздушные струи. Пальцы нащупали выемку-гнездо. Теперь нужно ставить ручку. Машину мотает. Никак не попасть. Ага, наконец-то! Ручка торчит в полу кабины. Теперь -педали. Сдвинул защелку. Педали пружинисто встали над полом. Теперь нужно сесть в кресло и попытаться вывести машину из штопора. Как это делается, он не знал. Он умел лишь кое-как водить самолет по горизонту. Топалев иногда давал ему управление, а сам откидывался на бронеспинку сиденья и отдыхал.
Ручка подавалась с трудом, педали тоже. Но самолет чутко среагировал на движение. Сначала сильно мотнуло в сторону, так, что глаза полезли из орбит, затем отпустило. Перестали вращаться звезды. Зато еще надсадней завыли моторы. Звезды взметнулись под потолок. Все спуталось, перемешалось. Где верх, где низ?! Ничего не понять. Что делать, что делать?
Инстинктивно потянул на себя. На плечи тотчас же обрушилась тяжесть. Мелькнула мысль: «Бомбы! Как бы не оборвались!»
Тяжесть внезапно сменилась тошнотворной легкостью.
– Ну, а сейчас? Что делать сейчас?
Звезды роем посыпались с потолка, сгрудились впереди, метнулись в сторону. Сиденье уплыло вниз. Крепко вцепившись пальцами в ручку управления, Овечкин повис в пространстве и вслед за тем с силой плюхнулся в кресло. «Кажется, снова падаем…»
– Моторы! Уберите моторы!… – прохрипело в наушниках. Это кричал радист.
«Моторы? Ах да… моторы…»
Голова, как в пьяном угаре, – ничего не соображает. Дотянулся рукой до секторов, сдвинул их на себя. Разом прекратился вой. Откуда-то из-под пола выпорхнули звезды, и далеко впереди взметнулись лучи прожекторов. Ага, теперь хорошо – есть ориентир…
Без моторов оказалось легче. После некоторых попыток световое пятно впереди заняло наконец устойчивое положение. Теперь надо дать обороты моторам. Рявкнули двигатели, и световое пятно поплыло вниз. Ч-черт!… С сердцем толкнул от себя ручку. На секунду-другую уплыло сиденье, но зато, снова появились прожектора. Наконец самолет занял нормальное положение.
Овечкин вытер ладонью мокрое от пота лицо, посмотрел на высотометр. Три тысячи метров! Ничего себе – отмахали три километра за тридцать секунд…
Однако что же с командиром?
– Командир! Командир! Топалев!…
Молчание. Посмотреть бы. Попытался повернуться, но моторы тотчас же загавкали и прожектора полезли вверх. Неуклюжие попытки установить машину в горизонтальном положении заняли целых полминуты. Ну уж нет – больше он падать не хочет!
Что же делать? Разумеется, идти домой. Но не с бомбами же! Надо их сбросить. Сбросить и вернуться домой. Он покосился на компас. Курс не сходился на целых сорок градусов. Попытка исправить его не привела ни к чему. Едва прожектора ушли в сторону, как застонали, загавкали моторы, и Овечкин снова ощутил только что пережитые чувства невесомости и перегрузки. Глаза, привыкшие к свету, уже не различали в темноте горизонта. Пришлось ставить машину носом на Кенигсберг,…
Город приближался. Уже видны были дымы, ползущие над землей, и вспышки бомбовых разрывов. Ощущение неуверенности и беспомощности охватило штурмана. Как завороженный глядел он на цель, где в воздухе густо рвались снаряды и куда против воли тащила их машина.
– Командир!… Командир! Топалев!…
Молчание. Что с ним?
Овечкин судорожно хватил пересохшим ртом воздух и, подчиняясь привычке, открыл бомболюки. Кенигсберг с прожекторами, с беспрестанными взрывами бомб, подползал под самолет. Штурман, все еще цепко держась обеими руками за управление, сжался в комок. Страх, парализующий волю страх вползал в его душу. Он всегда волновался и переживал неприятные чувства, когда машина, подходя к цели, пробивала носом огневую сумятицу. Когда на него со страшной быстротой мчались какие-то тени, то ли дым от разрывов снарядов, то ли самолеты на встречных курсах; когда сверху, слева, и справа, и впереди вдруг пронесется густая капель из бомб, сброшенных с других самолетов, с тех, что невидимками висят над ними… Все это страшно, и никогда не будет привычным, как бы кто ни храбрился. Но сегодня было страшнее страшного. И страх этот, схватив в кулак сердце, все сжимал и сжимал его с беспощадной жестокостью…
И они влетели в огненный ад… Все клубилось, дымилось. Огонь внизу, огонь вверху, огонь слева, огонь справа. Где верх, где низ? За что зацепиться взглядом, как вести самолет?
А самолет, по существу лишенный управления, стал валиться на левое крыло. Может, он и не валился, может, это только так казалось, но Овечкин, исправляя крен, принялся давить ногой на правую педаль и двигать ручку вправо. К его ужасу, крен влево будто бы увеличился еще сильнее. Ему уже казалось, что машина готова была совсем перевернуться. Он не замечал, что творилось сейчас вокруг него. Затаив дыхание и стиснув зубы, он давил, давил на упруго неподдающуюся педаль и ручку. Тщетно – самолет переворачивался влево…
И в этот момент что-то случилось. Овечкин почувствовал, как дрогнули рули, и кто-то спокойно сказал:
– Брось управление. Я сам…
Это было счастьем! Таким счастьем, что, услышав голос и догадавшись, кому он принадлежит, Овечкин не удержался и спросил совсем ни к месту:
– Слава, родной, ты очнулся? Что с тобой, дорогой?
– Ничего, – прозвучало в ответ.-Бросай бомбы, цель под нами. Это Берлин?
Луч прожектора уперся в машину. Но сейчас это было уже совсем, совсем не страшно. Штурман протянул руку и, надавив пальцем на кнопку бомбосбрасывателя, повернулся, чтобы заглянуть в пилотскую кабину. И тут ему все стало ясно. Топалев, держась обеими руками за штурвал и низко пригнувшись, вел самолет по приборам. На нем была кислородная маска, только конец ее гибкого шланга свободно болтался между педалями ножного управления…
Невероятно, но факт
На войне, в особенности у нас, летчиков, нередко происходили случаи самые удивительные, почти необъяснимые. И тем не менее они происходили. Как говорится, невероятно, но факт.
Официальная загрузка самолета «ИЛ-4», рассчитанная его конструктором Ильюшиным, была тысяча триста килограммов. Десять соток подвешивались в бомболюки и три – под брюхом. Эта загрузка считалась незыблемым законом для всех. Молодому, еще неопытному летчику командир мог дать загрузку поменьше – тысячу, например, или восемьсот килограммов, и никто его не осудил бы. Но приказать даже опытному летчику взять на борт свыше установленной нормы командир был не властен.
Часто, когда требовалось разбомбить сильное железобетонное укрепление противника, к самолету подвешивались три бомбы по двести пятьдесят или две по пятьсот килограммов на наружные замки и к ним соответственно еще добавляли несколько соток. В итоге опять-таки получалось тысяча триста. Параграф инструкции был соблюден, хотя, разумеется, наружная подвеска из двух пятисоток создавала гораздо большее воздушное сопротивление, чем три маленьких сотки.
Когда полку предстояло бомбить аэродромы или живую силу противника, нам привозили «РАБы» (рассеивающиеся авиабомбы). Это были толстенные, как купчихи, каплеобразные бочки, начиненные множеством мелких бомбочек фугасного или осколочного действия. Сзади этого внушительного сооружения красовались обтянутые и прижатые к корпусу три больших металлических лопуха, похожих на лопасти пароходного винта.
Две такие штуки, обтянутые ободьями из мягкого железа, и подвешивались под брюхо. Предварительно оружейники делали надрез на ободьях. Сброшенная с высоты, бомба тотчас же распрямляла хвостовые лопасти-винты и начинала вращаться все быстрее и быстрее. Уложенные внутри бомбочки, приобретая большую центробежную силу, начинали давить изнутри на оболочку бомбы. С жутким воем и фырканьем летел к земле грозный снаряд, и наконец – п-пафф! – не выдержав давления, лопались надрезанные ободья, оболочка распадалась, и освобожденный смертоносный груз, визжа, разлетался по громадной площади.
И хотя к «РАБам» подвешивали в люки только шесть соток, летчики не любили их возить. Большое лобовое сопротивление давало себя знать. Самолет становился вялым, трудно взлетал и плохо набирал высоту.
Слава Топалев возил все.
– «РАБы»? Пожалуйста, – соглашался он.– Только слушайте, какое это имеет значение, сколько бомб вы подвесите в люки – шесть или все десять?
– По Малинину – Буренину десять соток тяжелее шести! – возражал ему инженер по вооружению. Слава ухмылялся:
– Между прочим, по Малинину – Буренину, если вместо лишнего бензина, который я вожу до цели и обратно, подвесить бомбы, то это будет нисколько не больше. Ферщтеен?
– Ферштеен, – смутился инженер. – Но ведь без командира полка я не имею права…
– Ну конечно… – Слава пошел искать командира.
Командир был в своей маленькой каморке. Он сидел на койке, покрытой солдатским одеялом, и пришивал к гимнастерке пуговицу.
– Садись, – сказал командир, пододвигая табуретку. – Что у тебя?
– Да вот, – замялся Топалев, – кое-какие соображения насчет загрузки.
– Ага, интересно, – буркнул командир, нацеливаясь насадить иголку на нитку.– Что там у тебя, выкладывай.
Слава принялся выкладывать. Командир внимательно слушал, одобрительно кивал головой, потом вдруг решительно отложил гимнастерку, взялся за карандаш и карту, лежащую у изголовья, и принялся записывать на ее обратной стороне размашистые цифры.
– Ну ладно! – воскликнул он. – Обратимся к твоей выкладке. Полет на сегодняшнюю цель займет три часа. Горючего потребуется тысяча двести литров плюс двадцать пять процентов аэронавигационного запаса. Итого полторы тысячи. А мы возим в баках по две-три тысячи литров. Зачем? Для чего?
– На всякий случай, – подковырнул Топалев.
– Вот именно, – согласился командир. – На всякий случай. На какой? Можете сбиться с курса – раз! – И загнул палец.
– Ну уж это исключается, товарищ командир, – обиделся Слава. – Да мой штурманяга… Командир выставил ладонь.
– Ну, это твой. Я говорю в среднем, обо всех. Теперь, баки пробьют – два! – Загнул еще палец. – Штурмана ранят или убьют– три! Фриц прилетит бомбить наш аэродром – четыре. Ну и все прочее – пять! Запас нужен? Нужен. Вот.
– Двадцать пять процентов по инструкции, – сказал Слава.
Командир фыркнул, бросил на подушку карандаш. Он чувствовал, что его доказательства неубедительны даже для него самого.
– Ну, ладно что ты хочешь?
– Я хочу получить разрешение варьировать бомбовую загрузку с горючим. Меньше горючего – больше бомб, и только! И вообще: мы воюем? Воюем. Так зачем же возить бензин вместо бомб?
В дверь постучали.
– Можно?
Вошел комиссар полка Морозов. Пожилой, худощавый, с добрым прищуром глаз. Топалев вскочил.
– Сидите, сидите. Я не помешал?
– Нет, – ответил командир. – Даже наоборот. Вы нужны для преодоления инструкции. Комиссар решил вопрос просто:
– Мы не имеем права приказывать, но если летчики просят, так отчего же не разрешить? Тем более асам. Ведь полетный вес самолета не будет повышаться? Нет. Чего же здесь страшного? Ладно, поговорю с начальством.
И Топалев получил разрешение варьировать. К десяти неизменным соткам в бомболюках он добавлял тяжелые бомбы наружной подвески. Сначала взял две по двести пятьдесят, получилось тысяча пятьсот. В другой раз две по пятьсот, получилось две тонны, а затем подвесил три пятисотки. Две с половиной тонны вместо обычных тысячи трехсот килограммов. Почти двойная загрузка! Это было внушительно. Три громадных черных чушки висели под фюзеляжем. Настороженные, грозные. Привычные сотки рядом с ними казались убогими и смешными. Летчики, приходившие смотреть на топалевский самолет, стыдливо отводили глаза.
И за Топалевым потянулись другие. Но командир полка был осторожен. На две с половиной тонны он давал разрешение только летчикам, в технике пилотирования которых не сомневался. Так в полку определялась категория асов. Разрешили человеку взять эту загрузку– значит, он мастер летного дела. Значит, он уже «два», как говорил про таких Топалев. Значит, он воюет за двоих. Борисов – два, Балалов – два, Назаров – два…
Как– то об этом стало известно конструктору Ильюшину.
– Две с половиной тонны с полевого аэродрома?! – воскликнул он. – Этого не может быть, это невероятно. Вы что-то путаете. Такую загрузку этот самолет возьмет -только с бетонной полосы испытательного аэродрома. С трамплина. Мы проверяли. Так и не поверил.
Жабры налима
Взлетная полоса! Сколько о ней было связано тогда у меня ложных представлений!
Однажды, взлетая с максимальной загрузкой с бетонки, я почувствовал что-то неладное. Ревели моторы, бежала машина. Все было как надо, и в то же время ощущалось, что поступательная скорость самолета нарастала слишком медленно. Вот уже и время прошло – пора бы отрываться, а машина бежит и бежит, словно ей жалко расстаться с идеально ровной поверхностью. Я уже видел конец бетонки, а за ней – стена соснового леса. Пришлось подрывать машину. Легкое движение штурвала на себя, и мы в воздухе. Только скорость мала; самолет качается и лениво плывет навстречу соснам. Быстрым движением убираю шасси и терпеливо выдерживаю машину возле самой земли. Сосны – вот они, рядом, но я держу, держу. Я уже чувствую, как налились упругостью рули, как, словно конь, дрожит от нетерпения машина. А я уже из озорства прижимаю ее к земле и держу, держу до самой грани. И уж тогда, когда штурман от страха вжимает голову в плечи, отпускаю штурвал, и машина взмывает вверх…
Всю дорогу до цели и обратно я ломал себе голову: в чем же все-таки дело? Ведь только вчера я взлетал с такой же загрузкой, и даже не с полосы, а с грунта, и все было отлично! Моторы? Нет, моторы работали нормально. Может быть, ветер изменился и стал попутным? Тоже нет. Я сразу уловил бы вертлявость самолета на разбеге.
Я чувствовал, что хожу где-то рядом с разгадкой и что она удивительно проста, но над ней надо еще подумать, сопоставить все свои предыдущие взлеты. Предыдущие?! Ага, стоп!
Разгадка – вот она, извивалась в моих руках, подобно скользкому налиму. Но это был пока не весь налим, а только хвост. Добраться бы до жабр!
Предыдущие взлеты. Что же было у меня предыдущего? С такой же нагрузкой мы взлетали с неровного кочковатого аэродрома. Было трудно. Стучали шасси, чертом прыгала машина, но все равно мы отрывались от земли нормально.
Взлетали и с травянистого аэродрома. Неплохо! С аэродрома плотного, покрытого мелким, величиной с горошину, камушком-песчаником – отлично!
Отлично? Почему отлично? Может быть, тогда был сильный ветер? Нет, было так же тихо, как и сегодня…
Стоп! А с бетонки с такой загрузкой я взлетал когда-нибудь?
Нет. А, ч-черт! Налим извивался в руках: вот-вот ускользнет. Я ходил около. Разгадки не было. Налим собирался ускользнуть.
«А может быть, дело в бетонке?» – робко -подумал я и тут же отбросил эту мысль, как возмутительно несправедливую. Бетонка – это мечта летчиков. Гладкая, ровная.
Меня разыскал адъютант эскадрильи. У него в руках боевое расписание. Вежливо подходит, вежливо спрашивает:
– Вы сегодня опять возьмете максимальную загрузку?
Цель вчерашняя – железобетонные укрепления фашистов. Надо размолотить их тяжелыми бомбами, чтобы легче было пехотинцам взять штурмом цитадель врага. Каждая лишняя бомба…
Это я агитирую себя?! Хорош вояка, нечего сказать!
Я гоню прочь трусливую мыслишку – отказаться от максимальной бомбовой загрузки.
– Да, конечно, – небрежным тоном отвечаю я.– Максимальную.
Адъютант почтительно заносит в боевое расписание цифру 2500. Смотрит на меня с восхищением.
– Вчера у вас был такой красивый взлет!
– Что? Взлет? Да, да, конечно. Сегодня он будет еще красивее.
Адъютант уходит, а я уже весь занят соображениями о предстоящем взлете. Эх, налим, налим, так и не ухватил я тебя за жабры!
Аэродром отгуделся моторами и затих. Летчики, торопясь, докуривали папиросы: скоро на взлет. Мимо, с флажками в руках, прошел дежурный командир. Покосился на наши три пятисотки, ничего не сказал. Штурман солидно откашлялся:
– Полезли?
– Полезли.
Разбирая лямки парашюта, я подумал: «Может, мне зарулить подальше, на самый конец взлетной полосы? Нет, это будет неправильно. Нехорошо по отношению к товарищам. Это значит – показать, подчеркнуть для всех, что-де вот, мол, смотрите, у меня максимальная загрузка. Видите, как трудно.
Нет. Надо взлетать, как и все. Даже наоборот, надо сделать так, чтобы всем было яснее ясного, что взлет с такой нагрузкой не сложнее взлета… на пустой машине. Вот как Надо сделать!
Подрулили. Еще светло, и мне виден дежурный, стоявший возле бетонной взлетной полосы.
Подрулили четвертым. Взлетал самолет. Чтобы не мешать, мы остановились на грунте. И тут мне пришла в голову мысль: взлечу отсюда! Не буду заруливать на полосу. Конечно, все будут удивлены, что мы с такой загрузкой пренебрегли бетонной полосой. Пусть удивляются, пусть.
Первым удивился -командир, когда увидел, что я, развернувшись, встал рядом с бетонкой. Сначала он подумал, что у меня не ладится с машиной. Он принялся растерянно перебирать в руках флажки, но я, отодвинув фонарь, поднял правую руку – прошу разрешения на взлет.
Командир опешил. Осмысливая мой поступок, он некоторое время пристально смотрел на нас, потом как-то, не очень настойчиво, пригласил меня жестом на бетонку, и, когда я, отрицательно мотнув головой, показал рукой, что буду -взлетать отсюда, он пожал плечами, улыбнулся и, внезапно приняв стойку «смирно»: красный флажок вниз, у левого сапога, белый вверх, затем отчетливым движением белого флажка в сторону дал мне разрешение на взлет.
Сердце мое затрепетало от восторга: умный, умный, Добрый командир! Джуда якши адам!
К моему удивлению, бежали мы недолго. По крайней мере, вдвое меньше, чем вчера, взлетая с бетонки. В чем же дело? Налим, где твои жабры?
К вечеру следующего дня, давая боевое задание полку, командир оказал, кивнув на меня головой:
– Отдаю должное сообразительности командира первой эскадрильи. Он вчера предпочел взлететь с максимальной загрузкой с грунта, а не с бетонки.
– Мы это заметили, – оказал кто-то.– А почему?
– А как вы думаете – почему?-спросил командир и заговорщицки мне подмигнул:-Ну, кто скажет?
Летчики растерянно молчали. Многие из них, повернувшись ко мне, ждали ответа. Я покраснел до ушей. Что я им скажу, когда и сам не знаю.
Меня выручил командир.
– Все дело в колесах, – сказал он. – Покрышки наших самолетов не рифленые. Гладкая взлетная полоса, гладкие колеса. При большой нагрузке баллоны присасываются к бетону. А на грунте этого нет. Гравий…
Я готов был треснуть себя кулаком по лбу и провалиться сквозь пол. Такой простой вещи и не мог сообразить!
Я сидел посрамленный в своих собственных глазах. Налим был взят за жабры, но – увы – не мною…
Юбилейный вылет
Тяжелый четырехмоторный бомбардировщик «ТБ-7» гвардии капитана Карташова шел с полным грузом бомб на боевое задание. Это был юбилейный, сотый вылет экипажа, и в полку собирались отметить его.
Замполит эскадрильи уже который день ходил с озабоченным лицом и все шептался в красном уголке с сержантами и офицерами, умеющими писать лозунги, рисовать и красить. А сегодня в столовой вдруг ни с того ни с сего подошел к Карташову шеф-повар, низенький, толстый, со смешной фамилией Непейвода, и, почтительно склонившись, спросил, что бы он и его экипаж хотели получить к столу после юбилейного вылета.
Карташов угрюмо проворчал, что нужно сначала сделать этот вылет, а потом звонить в колокола. И штурман, чтобы вывести шеф-повара из затруднения, заказал… мороженое. Непейвода удивленно вздернул бровями, так как на дворе стоял октябрь, но возражать не стал: заказ есть заказ.
И вот они летят на сотый боевой. Уже видна цель. Упираясь в облака, нервно шарили по небу лучи прожекторов, и частые разрывы бомб озаряли все вокруг красноватым мерцающим светом. Иногда, разбрызгивая искры, с земли вздымалось кверху хвостатое пламя. Тогда в наушниках со всех сторон корабля неслись восхищенные охи и ахи воздушных стрелков и радиста: «Вот хорошо влепили! Вагоны рвутся».
Естественно, что штурман корабля, гвардии капитан Соломатин, всегда старался получить такие похвалы и в свой адрес, но, честно говоря, это удавалось не каждый раз, хотя в боевом донесении и приходилось скрепя сердце писать: «В результате бомбометания на земле возник один взрыв и два пожара», – иначе не зачтут боевой вылет. Так, по крайней мере, было недавно заведено у них в полку вновь назначенным начальником штаба, с которым экипаж Карташова был не в ладах.
Месяц назад они всей дивизией бомбили спрятанные в лесу крупные склады фашистских боеприпасов. Было тихо – ни прожекторов, ни зениток. Бомбы сыпались, как из мешка, но никаких взрывов не наблюдалось. Видно, разведка неточно дала координаты. Тогда Соломатин на свой страх и риск отвел корабль километров на пять в сторону, где, как ему показалось, вроде сверкнул огонек, прицелился и сбросил бомбы.
Произошел невероятной силы взрыв. Вздыбилось небо, на мгновение исчезла ночь, и машину так тряхнуло, что Соломатин едва удержался на сиденье. В те минуты он испытал величайшую радость успеха, весь экипаж восторгался его находчивостью. В своем донесении Соломатин тогда записал: «В 00 часов 32 минуты сброшены бомбы на пять километров южнее заданного квадрата по подозрительному огоньку. В результате бомбометания на земле возник большой силы взрыв». Но пожары и взрывы были у всех, и начальник штаба, сделав строгий выговор командиру корабля за бомбометание не по цели, этот вылет не засчитал.
Случай этот запомнился всему экипажу и особенно ему, штурману. Дернул же его черт проявить тогда телячий восторг и написать в боевом донесении, что бомбили не по цели! Ведь теперь у них был бы уже сто первый боевой вылет.
Лететь до цели осталось десять минут. Доложив об этом командиру, Соломатин достал из кармана комбинезона самодельный алюминиевый портсигар, закурил и, зажав папиросу в кулаке, чтобы не мешала, прильнул к иллюминатору. Ему показалось, будто бы впереди, внизу, среди темного лесного массива, вспыхнул огонек. И огонек мигал? Это было более чем странно: лес – и вдруг электрический свет! Чтобы это могло быть?
И чем ближе они к нему подлетали, тем настойчивей мигал огонек. Длинные вспышки перемежались с короткими. Несомненно, кто-то давал сигналы с земли, но кто? Врат или друг? Известен случай, когда таким вот способом фашисты спровоцировали бомбометание советскими самолетами лагеря партизан.
Соломатин не был силен в азбуке Морзе, но фраза все время повторялась, и он, наконец, прочитал: «Огонь на меня… Огонь на меня… на меня!…»
От волнения у штурмана задрожала рука, державшая папиросу. Он сделал несколько жадных затяжек. Где-то здесь вот, слева, должно проходить шоссе. Ага, вот оно. И речка. Там, где мигает фонарик, должен быть населенный пункт Светлые Роднички. Внезапно вспомнилась фраза, сказанная кем-то из летчиков во время ужина: «Хороший санаторий, братцы, эти Светлые Роднички! Я в нем был до войны. Сейчас там, конечно, отдыхают фашисты…»
«Санаторий? Фашисты?»
Соломатин задумался. Какая-то еще неясная догадка вот-вот готова была приобрести весомый смысл, воплотиться в логический вывод. Санаторий… Да, тут что-то есть. Что-то есть.
«Огонь на меня… Огонь на меня… Огонь на меня…» – настойчиво мигало внизу.
Машина слегка покачивалась, вздрагивала, словно живая. Через открытую форточку в кабину врывалось сырое дыхание облаков. Рокотали двигатели. За спиной, в бомболюках висел смертоносный груз. Несколько тонн взрывчатки, упакованной в стальные оболочки…
Огонек приближался. На темном фоне леса едва проглядывали заснеженные линии шоссе, извилистое русло речки и прямоугольное пятно населенного пункта. И в самом центре его – световые сигналы: тире, тире, два тире, точка. Три тире, тире, точка… Кто же это? Враг или друг?
Догадка вертелась рядом, неуловимая и ускользающая. Чего-то не хватало, какого-то звена.
Не отрывая взгляда от огонька, Соломатин пошарил рукой сбоку сиденья, достал планшет. Нужно посмотреть разведывательные данные об аэродромах противника. Здесь их целая сеть.
Пальцы легли на тумблер включения настольной лампочки. Легли и не включили. Все вдруг стало ясно и так. Волнуясь, Соломатин перекусил мундштук папироски, выплюнул огрызок, жадно затянулся снова. Рука его дрожала. Вечером, давая задание, начальник штаба сказал: «Тщательней смотрите за воздухом. Имеются данные о прибытии в район сегодняшней цели крупного авиационного соединения противника».
Вот он, вывод: этот санаторий сегодня битком набит фашистскими летчиками. Это точно. Значит, сигнализирует друг?
Соломатин сжал в ладони погасший окурок, растер его пальцами. «А друг, друг! И какое мое дело! – зло подумал он, не в силах оторваться взглядом от назойливо мигающего огонька. – У нас есть задание, и нарушать его мы не имеем права. Хватит, уже научили разок!»
И вдруг кто-то крикнул:
– Истребитель!…
Крик утонул в стремительном шквале выстрелов: ту-ту-ту-ту! Ту-ту-ту-ту! Ррраах! Рррах!…
Штурман сорвался с сиденья. Огненные языки пулеметов левых мотогондол лизали темноту. Длинные трассы пуль, извиваясь и перекрещиваясь, полосовали пространство. Выстрелы внезапно смолкли. Ревели моторы. Самолет, вздрагивая, шел прежним курсом. В наушниках было слышно чье-то прерывистое дыхание и короткие ругательства командира.
Запахло бензином, и вслед за тем из-под капота левого среднего мотора длинным шлейфом полетели искры.
Кто– то крикнул:
– Левый средний горит!
Командир Карташов проворчал в ответ совершенно по-будничному:
– Ти-хо. Без паники. Иванов, перекрыть пожарный кран. Стрелкам следить за воздухом!
– Есть перекрыть!
– Есть следить!
Хвостовой стрелок доложил хриплым голосом:
– Товарищ командир, их было два. Одного мы, кажется, подбили.
– Ладно уж, – словно про себя сказал Карташов.– Прозевали. «Кажется»…– В этих словах были досада и укор.– Экипажу доложить о состоянии. Штурман?… Соломатин, глядя на искристый шлейф и тяжело дыша, пощупал рукой парашютное кольцо (может, придется прыгать).
– Все в порядке, товарищ командир.
– Стрелки мотогондол! Левых?
– В порядке!
– Правых?
– В порядке!
– Вот и хорошо. Значит, все живы и невредимы. Ладно.
У него была привычка чуть не по каждому поводу говорить «ладно», придавая этому слову самый разный смысл. Сейчас оно прозвучало почти весело, словно бы никакого боя не было и никакая опасность им не грозит.
Средний левый двигатель неожиданно смолк. Самолет дернулся, словно наткнулся на что-то. Соломатин покосился на мотор. В темноте виделось, что винты по инерции еще крутились, но искрового шлейфа уже не было, только сильно пахло бензином.
– Наверное, пробиты бензобаки, – сказал Карташов.– В любую секунду мы можем… Ладно! Штурман, бросай бомбы, будем возвращаться домой.
Вот уже перед самым носом машут метелки прожекторов, вспыхивают звездочки разрывов крупнокалиберных зенитных снарядов. Полыхают пожары на земле, рвутся бомбы, освещая в беспрестанных вспышках стальные нити железнодорожных путей. Цель почти рядом – пять минут полета.
– Командир, может, дотянем, а? – подавляя тошноту от запаха бензина, нерешительно сказал Соломатин. – Ведь юбилейный, сотый!
Он и сам понимал, конечно, что говорит нелепость.
Карташов ответил не сразу, видимо, взвешивая «за» и «против». Потом с досадой в голосе:
– Ладно. Ведь говорил же, черт возьми, сначала надо сделать этот сотый вылет, а потом звонить. Чуешь, как пахнет бензином? Бросай, будем возвращаться.
– Есть бросать!
Удушающе острый, тошнотворный запах бензина означал опасность. Самолет был подобен пороховой бочке, готовой взорваться от малейшей искры. Нет, конечно, лететь на цель нельзя. Соломатин понимал это. И вместе с тем… Полк ждет их возвращения, чтобы отметить сотый боевой. А боевого нет. Не вышел…
«Сбросить бомбы и записать, что по цели». Эта лукавая мысль сразу нашла себе оправдание. Вспомнился тот несправедливо не засчитанный вылет. «А, баш на баш!…»
– Штурман, курс!
Весь во власти захватившей его мысли, Соломатин почти машинально сказал:
– Восемьдесят семь.
Пожары, лучи прожекторов качнулись, вздыбились и стали опрокидываться вправо. Тяжелый корабль, снижаясь, лег на обратный курс.
Да, да, он так и сделает. Но как убедить командира?







