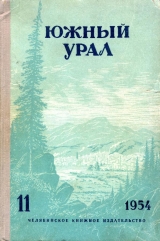
Текст книги "Южный Урал, № 11"
Автор книги: Борис Рябинин
Соавторы: Людмила Татьяничева,Владислав Гравишкис,Александр Гольдберг,Леонид Чернышев,Андрей Александров,Николай Махновский,Владимир Мальков,Яков Вохменцев,Ефим Ховив,Кузьма Самойлов
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 14 страниц)
Обилие железных руд повлекло за собой постройку Северского железоделательного завода (1735—1739 гг.) на речке Северной, в семи верстах от Полевского. Полевской, Северский и построенный около того же времени Сысертский (1732 г.), а позднее также заводы Верх-Сысертский (1849 г.) и Ильинский (1850—1854 гг.) и составили Сысертский горный округ.
Сперва заводы принадлежали казне. В 1759 году они были переданы – после соответствующего прошения – купцу и солепромышленнику Турчанинову (это его заводовладельческий знак – цапля – торчал на шесте над плотиной; прежде эти знаки были натыканы там и сям), «пожалованному» по соизволению императрицы Елизаветы Петровны в чин титулярного советника в ранге «сухопутного капитана». Отданы чуть не задаром. Все три завода, называвшиеся Полевскими, – собственно Полевской, Северский и Сысертский, – были оценены в сумме 129.353 рубля 761/2 копеек, с рассрочкой на пятнадцать лет.
Осуществляя наказ, которым сопровождалась передача заводов, «распространять и умножать сильной рукой и крайнее иметь старание, чтобы выковка железа и выплавка меди, против казенного содержания, была приумножена», а прежде всего – в погоне за наживой, Турчанинов в первый же год довел выплавку меди до десяти с лишним тысяч пудов, т. е. вдвое против прежнего. В последующие годы эта цифра возросла еще больше. Рекордным был 1866 год – 48.586 пудов меди. Основным поставщиком руды служил все это время Гумешевский рудник. Гумешки оказались настоящим кладом для заводчиков и давали баснословные прибыли. Вся добыча велась хищнически.
Но всемирную известность рудник приобрел все же не медью, а своими малахитами. Здесь нередкостью было встретить глыбу чистого малахита весом до полутора тонн. Одна такая глыба малахита и по сей день хранится в минералогическом музее в Ленинграде. Другая глыба «во сто пуд» находится в Свердловском музее краеведения. Не исключено, что встречались и еще более крупные гнезда малахита, но техника того времени не позволяла поднять наверх такую тяжесть, их приходилось дробить в шахте и извлекать по частям. Лучший малахит использовался как поделочный камень. Остальное дробилось и переплавлялось на медь. Вот откуда родилось и название «Малахитовая шкатулка»…
Для работы на рудниках и заводах владельцы переселяли из Соликамского уезда крепостных крестьян. С отменой крепостного права Гумешки стали чахнуть. В 1871 году «в виду обеднения руд, непомерной дороговизны работ, вследствие сильного притока воды и больших затрат на укрепление шахт», Гумешевский рудник был закрыт, шахты оказались затопленными.
…И вот – новое рождение Гумешек. В день нашего посещения на выработках встретились комиссия из инженеров, геологов, приехавших из Свердловска и Москвы, и группа старейших жителей Полевского. Встретились, чтобы решить судьбу Гумешек.
Богатейшей шахтой на Гумешках была старейшая – Георгиевская. Ее искали с помощью стариков. Долго ходили от одной заброшенной шахты к другой, спорили, судили-рядили.
Это новое оживление на Гумешках безмерно радовало Бажова. Он тоже ходил со стариками, тоже подавал советы, где лучше искать, откуда начинать откачку старых шахт, и, глядя на него в эту минуту, трудно было сказать: кто это – писатель или многоопытный, искушенный во всех тайнах земных «кладовушек», горщик, добытчик уральских недр?
Поразительны были наблюдательность, зоркость глаза Павла Петровича. Кажется, весь погружен в рассматривание старой «листвяной» крепи; в это время неподалеку, на отвале, взметнулся густой, жирный, черный столб сажи, дыма. Немедленно следует реплика:
– А ведь это техническое хулиганство: столько выпускать в воздух! Что они – не видят?!
Потолковал с мастером буровой, высказав по пути свои соображения насчет возможных результатов бурения, о том, где, на его взгляд, лучше бурить, чтобы результаты были значимее.
– Сегодня ваша лекция? – прощаясь, спрашивает мастер, уважительно глядя на Бажова.
– Что вы, какая лекция! Беседа хоть! – скромно отзывается Павел Петрович и старается сразу сделаться незаметным, не мешать работе.
Речь шла о беседе, на которую по просьбе Павла Петровича пригласили большую группу рабочих завода и геологоразведки.
Изменения, которые он обнаружил на Гумешках, нашли свое отражение первоначально в небольшой записи «На том же месте», а затем в очерке того же названия. Короткая, по существу почти хроникерская, зарисовка эта замечательна тем, что в ней очень скупыми, лаконичными штрихами (что характерно для всей творческой манеры Бажова) убедительно изображено огромное расстояние между тем, что было когда-то и что стало теперь. И изображено «через человека».
На следующий день с утра отправились на Северский завод.
Сейчас, в дни, когда пишутся эти строки, бывшая «Северка» – вполне современное предприятие. В годы, последовавшие за победоносным окончанием Великой Отечественной войны, в Северске пущены цехи белой жести, оборудованные по последнему слову техники, совершенно изменившие лицо завода, насчитывающего более двухсот лет. А тогда, в 1939 году, очень многое все еще дышало стариной.
Еще был «жив» – и даже использовался – неуклюжий и массивный подъемный кран, сделанный полностью из дерева; поднимал он до 16-ти тонн, приводясь в движение ручным воротком. В угловом помещении одного из заводских зданий медленно ржавел ставший ненужным «швам – круг» – гигантское водяное колесо, заставлявшее действовать старинную воздуходувку. Примечательно было не то, что эти сооружения достояли до нашего времени: достойно восхищения, что когда-то это была передовая техника, намного обогнавшая технику Западной Европы.
Подстать технике было и мастерство людей того времени. В кузнечном цехе нам показали бездействующий паровой молот, похожий на перевернутую римскую цифру V. На этой неуклюжей для современного глаза машине виртуозно работали крепостные мастера. В анналах истории завода сохранился такой эпизод: однажды в цех пришел владелец с гостями – похвалиться предприятием. Остановились у молота. «Барин» потребовал, чтобы ковач показал свое умение в обращении с молотом. Тогда тот, недолго думая, попросил у хозяина часы-луковицу – дорогую заграничную вещицу – и, прежде чем кто-либо успел ему помешать, положил ее под молот да как «ахнет» по часам! «Барин» побледнел: пропали часы! А ковач спокойно предлагает: вынь-ка. Оказалось, и вынуть нельзя – зажаты, и – целехоньки. Даже крышки не помялись. Настолько точно – с размаху! – опустил молот. «Барин» рассердился, а ковач смеется… Собирательный тип этих замечательных мастеров прошлого, постоянно совершенствовавших свое искусство, выведен П. П. Бажовым в образах Тимохи Малоручко из сказа «Живинка в деле», Иванка-Крылатко из сказа того же названия и ряда других героев.
После обхода завода в конторе, в помещении парткома, состоялась продолжительная беседа Бажова со старейшими северскими рабочими. Прошла она очень активно. Говорили главным образом о периоде концессии, когда на заводе было засилье иностранцев, которые душили всякую свежую мысль и не давали развиваться предприятию. Период хозяйничанья «Лена-Голфилдс-Лимитед» – акционерного общества с английским капиталом – был в истории завода самым тяжелым. Перед уходом концессионеры пытались разрушить завод. Помешали рабочие.
Вспомнили и про то, как в годы гражданской войны, в 1918—19 годах, на головы неугодных заводскому начальству рабочих обрушились репрессии озверелых колчаковцев. Расстреливали десятками, спускали живьем в стволы шахт. Заброшенные шахты Гумешевского рудника и Северский пруд стали могилой для многих передовых рабочих.
Вспоминали и более глубокую старину (о ней были наслышаны от отцов и дедов), но именно – только вспоминали. Насколько мне удалось заметить, Павел Петрович наиболее охотно беседовал на темы, интересовался теми сведениями, которые мог получить из первых рук, то есть услышать из уст очевидцев, а не в пересказе, – всего же остального касался постольку, поскольку в этом возникала необходимость. Не знаю, собирался ли Павел Петрович писать что либо в будущем специально о Северском заводе, так как в его опубликованных работах Северскому заводу уделяется сравнительно немного внимания, но тогда он увез из Северска большой материал.
Когда возвращались обратно, шофер неожиданно сказал:
– Ну, теперь поедем трость искать. – И свернул с дороги в лес.
Оказывается, он не забыл, что Павел Петрович все хотел вырезать вересковую трость потолще, да никак не попадался подходящий вереск.
Через четверть часа в руках у Павла Петровича была свежевырубленная «трость» нужного размера. Подавая ее, шофер сказал:
– Вот вам, Павел Петрович, прямая и толстая, какую вы хотели. Жидка, кажется, только? Гнется?
– Спасибо, спасибо…
– Смотрите. Можно еще вырубить.
– Что вы, хватит мне! Спасибо.
Павел Петрович был тронут подарком, а больше того – вниманием.
– Палка из родных лесов, – повторял он, потрясая ею с довольным видом. – А что? Вы знаете, какое это дерево? Кремень! Когда высохнет, так затвердеет – никакой нож не возьмет!
Точно так же радовался он, к тому времени – депутат Верховного Совета СССР, воротясь однажды из поездки к избирателям, подарку рабочих Артинского косного завода – набору иголок, освоенных в производстве коллективом завода. Иголки самых разнообразных размеров и форм – кажется, их было двести штук или что-то около того – были аккуратно наколоты на два складывающихся в виде книжечки листика толстой чертежной бумаги. Павел Петрович любил показывать этот, на первый взгляд не заключающий в себе ничего особенного, подарок, непременно сопровождая комментариями:
– Ведь вот знали, что подарить! И размерами не велико, а приятно. Поглядишь, и сразу представишь, чем люди занимаются… Кажется – иголка: чего в ней? А не простое дело!
В каждой вещи он умел находить что-то свое, особенное, делающее ее не похожей на другие, – видел ту самую точную деталь, до которой доискивался всю жизнь.
Заглянули на Церковник, – есть такое урочище в окрестностях Полевского. С нами – Николай Дмитриевич, за проводника – Валов.
Валов – весьма интересная личность. В партии с юношеских лет, активный участник гражданской войны на Урале, партизан и сын партизана. Одна нога ломана – падал в детстве в шахту; на боку стреляная рана – память о белых. Его водили на расстрел колчаковцы, грозились убить кулаки в период ликвидации кулачества как класса, а он жив, бодр и надеется прожить еще сто лет.
Валов невысок, коренаст, как говорится: «нескладно скроен, да крепко сшит». Лицо простое, с твердыми чертами, будто высеченное из гранита и недошлифованное немного, всегда чуть озабоченное (забот у Валова, действительно, много!), речь по-деловому отрывистая, резкая, рабочая. Он полон планов, и когда говорит, трудно отличить, где личное, а где общественное. Поначалу кажется – вроде личное, а на поверку опять выходит общественное…
– Скоро в отпуск пойду, – говорит он, с вожделением предвкушая рыбную ловлю и охоту, и тут же добавляет: – Берильевую руду найду. Один человек свести хотел. Эх, лес – душа моя! Если в лесу раза три не переночую, будто и лета не видал!
– Про плавиковый шпат не забудь, – напоминает Павел Петрович. Валов утвердительно кивает головой.
Это Д. А. Валов, когда обнаружились находки на Азове, немедленно послал туда одного из работников райисполкома и тот нашел еще четыре предмета. Валовым же были сделаны сообщения для печати. Он позаботился и о том, чтобы ни одна из найденных вещей не была утеряна и вообще не пропала для науки. Ребята, нашедшие чудские украшения, вначале не придали им никакого значения. Зато сразу оценил их, как нечто чрезвычайно редкостное, Д. А. Валов.
Павел Петрович отлично знавал отца Валова, старого полевского золотоискателя и рабочего завода. Он справляется о старшем Валове:
– Сейчас-то где? Жив?
– Председательствует в колхозе.
Между Бажовым и председателем РИК’а – бесконечные разговоры, масса волнующих обоих тем, общие интересы.
Но сегодня Валову не повезло. Хвалился, что знает все окрестности Полевского, в том числе и дорогу на Церковник, как свои пять пальцев, а заехали поглубже в лес – сбился, потерял ориентиры и никак не может их найти. Он смущен, озабочен, с загорелого лица льет пот в три ручья. Валов сидит позади шофера и, рискуя ежеминутно вывалиться из машины, всем корпусом переваливается через борт, зычно, слегка хрипловатым голосом командует, указывая рукой:
– Давай туда! Сейчас Туранова гора откроется, там недалеко!..
Проходит полчаса. Дороги почти никакой, проехали уже не одну, а пять гор, но Церковник как сгинул. Валов не унывает:
– Как раз Туранову гору-то с другой стороны охватили!
Через десять минут:
– Кажись, последняя горушка…
Еще через четверть часа:
– По средней дороге угадали…
На Церковник, однако, никак не угадаем. Николай Дмитриевич нетерпеливо ерзает на сиденье, с досадой поглядывает на Валова. Павел Петрович прячет улыбку в усах и бороде.
Наконец машина останавливается. Впереди завал, проезд закрыт. С обеих сторон возвышается сплошная стена молодого осинника, ольхи, березы; над головой щебечут птицы; блестит роса на листве. Валов выскакивает из машины:
– Дай оглядеться. Ключ должен быть… – Потом решительно бросает: – Пошел на розыски. Кричать буду, значит, ехать надо!
Уходит, долго не возвращается.
– Сколько лет здесь не бывал, – произносит Павел Петрович. – А помню, все избегано было…
– Забыл Валов, – с сердцем говорит Николай Дмитриевич.
– А я не забыл, – невинно замечает Павел Петрович.
– А именно?
– А я и не знал.
У него отличное настроение, и он часто шутит, оставаясь серьезным в то время, как другие смеются. Неудача Валова и вызванная этим задержка не огорчает, а веселит его.
Издали доносится крик:
– Нашел ключ-от! Напился-а-а!
– Сходить и мне напиться, – говорит Николай Дмитриевич, вылезая из машины.
– Лягушек в живот напускать, – замечает Павел Петрович.
– Что такое?!
– Из болота напиться…
…Вот, наконец, Церковник. Небольшое лесное озерко, заросшее осокой и рогозом. На воде плавают кувшинки, в воздухе шуршат стрекозы, перепархивают бабочки. Неподалеку скалистое нагромождение каменных глыб – точно ощеренная пасть сказочного дракона. Цепляясь корнями за трещины в камнях, тянутся вверх стройные молодые сосны.
Озеро искусственное. Образовалось на месте выработки: мыли золото. По свидетельству старожилов все, кто работал здесь, должны были отчислить 40 процентов от добычи на постройку церкви. Церковь не построили, деньги, конечно, исчезли. Прииск заглох. Так и осталось, как память об этом жульничестве, название «Церковник»…
Всюду, куда бы ни поехал здесь, натыкаешься на следы заброшенных старательских работ, на заросшие отвалы «пустой» породы, рытвины и ямы искусственного происхождения. Есть и свежие – золото продолжают «мыть» то там, то сям.
Сколько труда отдано той земле, сколько «вбухано силушки» – кто сумеет подсчитать?
В лесу, в глухомани, старые шахты – место изуверской расправы белогвардейцев в годы гражданской войны с революционными рабочими. Рабочих заставляли самих прыгать в эти черные дыры, откуда несет могильным холодом. На опушке – скромный мраморный обелиск, установленный полевскими тружениками на месте гибели своих братьев по классу, отдавших свои жизни за торжество социалистической революции. В низинке, через километр, приютилась промывочная фабрика. Поодаль от нее старатели крутят вороток над шурфом. У самой дороги лежит пузатый тяговый барабан (их еще применяют некоторые старательские артели там, где золото залегает на большой глубине) и еще что-то такое, в чем разберешься не сразу.
В земле, рядом с дорогой, выкопано неглубокое, но вместительное квадратное углубление. В нем лежат два бревна. Концы их соединены поперечинами, а под середину подсунута толстая железная труба, так, что бревна образуют подобие какого-то неуклюжего коромысла. На одном конце этого коромысла сделан мостик, на котором может свободно уместиться телега, на другом конце, на жердях, навалена куча камней и несколько гирь. Уж не весы ли это?
И впрямь – весы. Старинные, сделанные по дедовским образцам, старательские весы для взвешивания руды.
– А ну-ко, попробуем взвеситься! – сказал Павел Петрович, ступив на мостик. Мостик даже не дрогнул.
Встал второй человек – тот же результат. Третий бок о бок с первыми двумя – и после этого коромысло даже не качнулось…
– Да-а, – задумчиво протянул Павел Петрович. – Тут надо грузовик ставить, тогда, возможно, почувствуется…
…К вечеру, на закате солнца, мы в деревне Полдневой.
В районе Полдневой – истоки знаменитой уральской красавицы реки Чусовой. Только не узнать ее здесь: тиха, смирна, ни скал – «бойцов», ни стремительных «переборов». Русло узкое, заиленное, невысокие берега густо поросли кустарником.
Деревню Полдневую можно смело назвать родиной старательства. По возрасту она старше Полевского и первоначально была построена как крепость. В старину тут старательствовали все от мала до велика. Не забыт этот промысел и сейчас. Полдневая за свою почти трехвековую историю дала стране немало благородного металла, драгоценных камней, других полезных ископаемых.
Старательство далеко не всегда вызывалось стремлением найти «фарт», разжиться. Чаще всего причина была куда более будничной и простой: «как есть нечего, так и пошел по огородам золото добывать» (Бажов). Такое положение сохранялось вплоть до октября семнадцатого года.
К нашему приезду в сельсовете собрались сплошь старатели: кто в прошлом, кто в настоящем. В подавляющем большинстве люди в годах, с бородами. Уселись с достоинством вокруг стола, сдвинулись поплотнее и выжидающе умолкли, поглядывая на Павла Петровича: с какого-де краю беседу начинать?
Разговор начался с хризолитов[5]5
Научное название – демантоиды.
[Закрыть]. Близ Полдневой находились хризолитовые прииски, едва ли не единственные на Урале. Один из старателей, возрастом старше других, принялся рассказывать:
– Крадче[6]6
Крадче – украдкой, тайком (уральское).
[Закрыть] добывали. Запрещали хризолит-то искать. А все равно робили. Ночью робили, а днем в горах скрывались. Лесники нагонят, кричат: «Вон они» – и давай дуть! Изобьют до крови. Телеги, снасть изрубят. Почитай, все село пересидело в тюремке за хризолит.
– О долгой груде расскажи, – подсказывают сидящие.
– Что за «долгая груда»? – настораживается Павел Петрович.
Он сидит в центре живописной группы. Крепкие, здоровые, выдубленные на ветру лица; бороды – с проседью, чисто черные, рыжие («черемные»); выгоревшие на солнце волосы, подстриженные по старинке вскобку; глаза хитроватые, по которым ничего не прочтешь, в мелкой сетке беловатых морщинок, в глубине зрачков прячется природная сметка, практический ум; руки у всех заскорузлые, узловатые, точно корни столетних деревьев, в поры кожи въелась не смываемая ничем чернота. Павел Петрович среди них – как председатель этого необычного собрания. Знакомая книжечка-блокнот положена на стол и раскрыта на чистой странице. Рядом карандаш.
– «Долгая груда», – объясняет рассказчик, – это тридцать четыре человека решили друг за друга держаться, робить вместе, открыто, никого не бояться, – артелью. А нарядчики – с ружьями. Стрелили, одного ранили. Народ разбежался. Нарядчиков много, человек восемнадцать. Ну, цельная война у нас с ними получилась. Народ тоже стал постреливать ночами в избу, где нарядчики жили… Загораживались они железными листами. Ну, постреливали. Этим и выжили их.
Он умолкает, ожидая, когда карандаш перестанет двигаться по бумаге, глядит строго, понимающе.
– Что за нарядчики?
– От Хомутова. Государство ему место сдавало, а он платил ничтожно, и никто ему сдавать добытое не хотел. Ну, нарядчиков и держал. Чтоб, значит, кто не сдает, на его земле не робил.
– Кому же сдавали?
– Известно, частные скупщики во много раз больше платили.
– А как на сорта делились?
– Четыре сорта было. Хризолит первый сорт – крупный, чистый, зеленый. Второй сорт – мельче. Третий – зеленый, с трещинами. Четвертый – желтый.
– А сейчас, считаете, можно работать? Есть еще хризолиты-то, не все выбрали?
– Можно, можно работать. И зиму, и лето, – зашумели, заволновались вокруг, кивая согласно головами.
– Ну, зиму, правда, нельзя, – поправил основной рассказчик. – А можно работать, можно.
Собравшиеся, разогретые воспоминаниями, один за другим наперебой принялись рассказывать о том, как работали в старину… В старину? В сущности, все это было не столь уж давно, но – сколько воды утекло с тех пор!
Народу в сельсовете все прибывает. Около дверей столпилась молодежь. Пришли две молоденькие учительницы местной школы и через плечи других стараются рассмотреть Бажова.
Стемнело. Посредине стола поставили лампу-молнию. Неловкость, какая обычно бывает при встрече между незнакомыми людьми, незаметно прошла. Старики поддакивали один другому, вставляли свои замечания, поправляли, если кто-нибудь говорил не так.
Павел Петрович сидел, облокотившись на спинку стула, и время от времени – когда задавал очередной вопрос – вскидывал глаза на собеседника. Со стороны могло показаться, что он слушает плохо и нето погружен в свои мысли, нето дремлет. Но стоило замолчать очередному рассказчику, как немедленно следовал новый вопрос:
– На Иткуле теперь работают?
Или:
– А на Омутинке как?
И сейчас же вставлял сам:
– Ну, это один пропой был, а не работа.
Из этих реплик чувствовалось, как хорошо знает Павел Петрович тему беседы, здешние места. И это еще более оживляло разговор.
– Понемногу намывали?
– Всяко бывало. Иной раз на лапти только и заработаешь. Ну, подфартит, так сразу сапоги с набором.
– Пили, поди?
– Не без этого. Известно, в старо-то время все богатство промеж пальцев шло. Найдет старатель золотину, полные ведра вина принесет и поставит посередь майдана. Пей, кто хошь. Ну, и пропьет все. А потом, почитай, нагишом снова мыть идет.
– Тоскливо было подолгу в лесу жить?
– А это кому как. Есть у нас тут одно место, низменное такое. В лесу. Ничего место, сырое маленько только, долготинка, словом. Сдавна Веселым логом зовут…
– Веселым? Это – почему?
Полуопущенные веки поднялись, в глазах блеснул огонек любопытства, карандаш в маленькой руке настороженно замер, готовый неторопливо вновь двинуться по бумаге.
Следует пространное и довольно запутанное объяснение, почему лог называли веселым, «веселухиным», упоминаются какие-то немцы, приезжавшие в эти места и ни с чем уехавшие обратно, озорная девица, посводившая будто бы всех с ума, и т. д. Но Павел Петрович быстро уловил суть и не спеша набрасывает ее на бумаге.
Многое в этих рассказах уже утратило реальные очертания, тем более это возбуждает настойчивый, упорный интерес Павла Петровича, будит в нем новые мысли и предположения, воспламеняет воображение. В голове с выпуклым лбом идет напряженная творческая работа. Что видит в эту минуту мысленный взор Бажова, какие картины проносятся в его мозгу? Может быть, в глухой таежной чаще, где не ступала нога человека, пробирается, сворачивая упругие кольца, диковинный змей – полоз, оставляя за собой след – жилу чистого золота; бьет ногой чудесный козел Серебряное Копытце, рассыпая вокруг пригоршни ослепительных самоцветов-звезд; перекликаются в вышине летящие лебеди – друзья Ермака; бурая кошка бежит, прячась от людей в земле, а где уж и покажется, там ищи – будет «богатимое место», а над всем этим – образ простого русского человека, уральского мастера каменных и огневых дел, неутомимого труженика, владеющего самым большим сокровищем из всех сокровищ мира, знающего самое важное – «коренную тайность», которая даст всему народу самое дорогое – счастье.
Вымысел и действительность, сказка и быль – все сплелось воедино и все тянется к одному – к человеку. И разве не благородна после этого задача писателя – показать простой, и самоотверженный в своей простоте труд людей, живших до нас, приоткрыть завесу над прошлым, донести до сознания каждого человека, что могущество и слава Отечества создавались усилиями многих поколений неизвестных трудолюбов! Этой задаче посвятил себя П. П. Бажов.
– А вот, кто бы рассказал, как золото искали? – спрашивает он. – По каким приметам?
Тут случилось неожиданное. Беседа на минуту прервалась, произошла короткая заминка. Видимо, у стариков где-то в глубине сознания все еще жило по старой памяти опасение, привитое веками подневольной тяжкой доли, как бы не выдать своей тайны, своих испытанных, выработанных поколениями горщиков и известных лишь сравнительно узкому кругу людей приемов поиска благородного металла, своих немудрых, но крайне существенных «примет».
Однако они тут же, видно, вспомнили, что время теперь не то и человек, приехавший к ним, не тот, какие наезжали прежде, «при старом режиме», что таиться не к чему и даже, более того, нехорошо, – и беседа возобновилась с прежней готовностью и заинтересованностью с обеих сторон.
– Приметы – всякие. Главное дело – попутный лог найти…
– Какой, какой лог? – недослышав, переспрашивает Павел Петрович.
– Попутный. Это – который с юга на север или с запада на восток идет, тот и попутный. Если его нет, и искать нечего. А есть – копай смело. Копаешь до песочка, песок – на вашгерд. Показалась бусинка-две – значит, надо мыть…
Примета эта, известная исстари, не так уж наивна, как может показаться на первый взгляд. Вспомним, как образовалось россыпное золото. При разрушении твердых пород, в которых были заключены кварцевые золотоносные жилы, частицы разрушенных пород уносились реками. Частицы же золота, как наиболее тяжелые, задерживались, отлагались на дне. С веками реки исчезали, остались лишь лога. В любом районе можно подметить преобладающее направление течения рек и падение сухих русел – логов. Это не могло ускользнуть от наблюдательного глаза добытчиков драгоценного металла. «Самоуком» находили они нужные им «знаки», по-своему открывая законы геологического распределения горных пород. Так возник «попутный лог».
В книжечке рядом со словами «долгая груда», «веселухин ложок» появляется новая запись: «попутный лог». Туда же заносятся отдельные выражения, неожиданные словообразования и связанные со старательским делом, незнакомые в других местах термины, которыми обильно уснащена речь беседчиков.
Вот откуда брал Бажов яркие, самобытные слова-самоцветы, нередко заменяющие собой целое понятие, фразу, вбирающие в себя не только деловое, так сказать, служебное назначение слова, но и образ. В постоянном общении с народом черпал мастер уральского сказа надежный запас впечатлений, непрерывно обогащавших арсенал творческих приемов, разнообразивших палитру красок, которыми Бажов живописал своих героев. Так вошли в его литературный обиход выражения «мелкая жужелка», «золотинка», «таракан» (не насекомое таракан, а мелкий самородок золота весом на 8—10 граммов, действительно похожий формой и размерами на крупного черного таракана) – каждое, включающее целое понятие. Так слетали с его языка при разговоре яркие, образные «чемоданчики», «с полукона бить» и т. д. и т. п. Своеобразие, оригинальность изобразительных средств писателя Бажова проявлялись на каждом шагу – и в обыденной жизни и в творчестве.
Но вообще записывал он мало. Случалось, что за всю свою беседу или за целый день нескончаемых разговоров, встреч, передвижений в машине, пешком, на лошади отберет всего одно-два слова (бывало, и ни одного), но зато уж это действительно слова-«золотинки». Даже не руда, отмытая от пустой породы, а уж сам металл – золото, драгоценность. Так он, по его собственному признанию, искал «двойной переклад» – определение особо прочной крепи в шахте.
После такой напряженной, продолжительной и очень строгой в отборе черновой работы получается емкость слова необычайная. Труд в высшей степени кропотливый, даже изнурительный, но… «Медленнее-то писать – лучше», – не раз говаривал Павел Петрович. Так говорить о труде литератора мог только человек истинно талантливый и беспощадно строгий к себе.
Ряд понятий, слов, услышанных в тот вечер в Полдневой, вошел в постоянную лексику сказов, а также в пояснения, которыми сопровождал тексты своих произведений П. П. Бажов.
– А платину не мыли? – снова спрашивает он, шаг за шагом расширяя рамки беседы.
– Ну как не мыли! Мыли. Сперва долго не знали, что за платина такая. Старики сказывали: из ружей вместо дроби стреляли. Тяжелая, тяжелее свинца.
Чего только не «мыли» здесь! Чего не хранит богатая уральская земля! Платина, золото, драгоценные камни, никель, кобальт… да разве перечислишь все!
– У Урала-то еще все богатство впереди, – неожиданно раздается из угла сиповатый, с хрипотцой, голос. – В кои годы, не помню, приезжал сюда один умный человек. Вроде вас такой же – ученый, все наскрозь знал. Я у него кучером робил. Говорливый был, страсть лошадей любил. Часто говаривал: надо каждому охотнику иметь увеличительное стеклышко. Земля-то смешана. У каждого металла свой спутник есть. Спутника найдешь, а он к металлу приведет. В стеклышко-то посмотришь – все и видно: и плохое, и хорошее, золото там, скварец или что. Он, человек тот, без молотка да стеклышка не езживал. Какой камешок подберет, молотком по нему почакает и – в сумку. Приедет, чайку попьет, и – в лаболаторию. И до тех пор не выйдет, покуда все не пропустит, что за день насбирал. Он часто говаривал: эти горы, говорил, снимут когда-нибудь. Большое богатство в них. У Урала еще все впереди. Это – помяни мое слово…
…Беседа со старателями затянулась почти до полуночи. Не хочется, а пора ехать.
– Приезжайте в другой раз, да пораньше! – приглашали полдневчане, прощаясь. Другие напутствовали: – На березовой горе в перву голову поищите. Богато место должно быть!
Они или не повяли, или так и не поверили, что к ним приезжали не геологи-разведчики. Сбил их с толку Бажов – и видом своим, и познаниями в горняцком деле. Совсем свой брат-старатель!
Косой Брод – старинное золотоискательское сельцо на восточном склоне Уральского хребта, родной брат деревни Полдневой. Избы крепкие, пятистенные, из столетнего леса. Все ложбинки, все русла высохших речек вокруг селения ископаны, переворошены руками старателей. Местность изрыта до такой степени, как будто по лицу земли прошла оспа.
Выше села, у леса, видны новые большие дома городского типа. Там – пионерский лагерь, самый крупный в районе, куда на период летних каникул выезжают дети полевских рабочих и служащих, зюзельских горняков, северских металлургов. Место красивое, открытое. Быстро струится речка, разделяющая село на две неравные части. Берега ее не избежали общей участи – тоже перерыты и, видимо, уже давно: многие ямы затянуло буйной растительностью. Здесь, на берегу этой речки, был найден не так давно четырнадцатикилограммовый самородок, о котором мы услышали еще в поезде и слепок с которого хранится в кабинете секретаря райкома партии.








