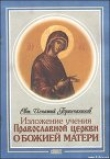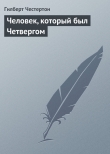Текст книги "Человек, который был дьяконом(СИ)"
Автор книги: Борис Гречин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 8 страниц)
Гречин Борис Сергеевич
Человек, который был дьяконом
Б. С. Гречин
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ БЫЛ ДЬЯКОНОМ
повесть
От автора
Эта повесть является парафразой известного романа Джилберта Кийта Честертона 'Человек, который был четвергом'. Вопреки всей своей известности роман Честертона кажется недооценённым ни в его символизме, ни в значительности мыслей, поданных в виде парадоксов, ни в его подлинной религиозности. Автор не стыдится признаться во вторичности текста: полагаю, имеются некие универсальные сюжеты, на которые не только каждый новый век (The Man Who Was Thursday: A Nightmare впервые опубликован в 1908 году), но и каждое поколение смотрит иначе, чем предшествующее, а всякому любителю английской литературы следует помимо этого помнить, что даже 'Король Лир' вторичен.
Все 'огрехи' честертоновской прозы вроде неестественности ситуаций или невероятности монологов (в действительности проистекающие из законов жанра, который не требует ни особой серьёзности, ни чрезмерной психологичности) вполне могут быть найдены и в 'Человеке, который был дьяконом'. Впрочем, неестественность монологов может быть отчасти объяснена фактом отбора героев, ведь они представляют собой или, как минимум, обязаны представлять 'лучших из лучших православных интеллектуалов', отобранных придирчивым жюри. Что же до искусственности ситуации, в которой они оказались, её следует принять в качестве необходимой условности: именно она создала возможность активной ротации идей, которые (а вовсе не сюжетность и не характеры персонажей) и являются здесь главным содержанием. Я не назвал бы предлагаемый читателю текст драмой идей хотя бы по причине недостатка в нём драматизма, но не нахожу невозможным определить его жанр как философскую повесть. Разумеется, речь идёт не об универсальной, а исключительно о практической философии. Если бы сам Честертон был жив, он бы наверняка заметил в своём излюбленном парадоксальном стиле, что нет ничего практичнее религии. Впрочем, не исключаю, что однажды он это всё же сказал.
Существует некоторая опасность того, что умозрительный характер речей героев не привлечёт к повести большого числа читателей. С этим приходится смириться. Ценность, к примеру, такого поэтического памятника, как In Memoriam A. H. H. никак не связана с числом тех, кто нашёл в себе мужество и терпение прочитать его целиком (это – без всякого сравнения настоящей скромной повести с бессмертным монументом, созданным Теннисоном). Равным образом эта ценность никак не связана и с баронским достоинством его автора.
I
The last of men will truly see
The last of days with deadly pain.
No one survives the burning rain,
The Earth we know will cease to be.
But then, before world's agony,
The gods of days will have their run:
Jupiter, Venus, Saturn, Sun,
And Moon, and Mars, and Mercury.
The day that sees their final rest
Will also bury pain and vice.
The new world gloriously will rise
And sin will die in human breast.
Before these seven stop their race,
The world goes round along their course.
But there is One, their peaceful source.
He is world's epilogue – and preface.
II
В один из прекрасных воскресных майских дней со станции 'Адмиралтейская' в Санкт-Петербурге вышли, прошли по Кирпичному переулку, Малой Морской и, не спеша прогуливаясь, оказались на Невском проспекте два ещё молодых человека.
Оба были аспирантами выпускного курса кафедры философии факультета философии, культурологии и искусства Ленинградского госуниверситета по специальности 'Философия религии и религиоведение' (шифр – 09.00.14). Оба только что высидели научную конференцию с обязательным участием в своей alma mater (да, именно так: руководство вуза оказалось достаточно безумно для того, чтобы провести эту конференцию в воскресенье, когда всем честным людям полагается отдых). Говорят, что совместное несчастье сближает, но кроме несчастья, редко что сближает людей так, как совместное участие в долгом, утомительном и бессмысленном занятии: до того они хоть и знали друг друга, но не очень коротко. В университетской столовой оба разговорились, причём, как это водится со времён Алёши и Ивана Карамазова, вовсе не о хлебе насущном, а о таких возвышенных вещах, как Русский Бог, Небесная церковь и мистическое оправдание российского мессианства. В метро разговор продолжился, превратившись даже в подобие спора, и всё никак не хотел заканчиваться. Тогда и приняли решение пройтись по Невскому вплоть до Московского вокзала (Григорий как будто уезжал на неделю к родным, а Артуру этим воскресным днём решительно нечем больше было заняться).
Погода, надо сказать, была великолепной: только что прошёл дождь, а в спину им уже светило солнце, так что в небе висела радуга.
– ...Нет, всерьёз не могу, – говорил Артур Симонов, двадцатишестилетний мужчина среднего роста и скорей деликатного, чем крепкого сложения, с мягким голосом, мягкими глазами, волосами того приятного тёмно-русого цвета, который заставляет подумать о краске для волос, но который в его случае был естественным. (Англичане зовут этот оттенок auburn , чему в нашем языке нет точного перевода.) На его верхней губе обозначилась полоска усов, отпустил он и двухнедельную бородку, которая, впрочем, вовсе не придавала ему брутальности, да и не было похоже, чтобы её владелец ставил перед собой именно эту цель. – Я не могу говорить всерьёз о красоте там, где есть дикость, для меня эти вещи несовместимы.
– Дикость? – без улыбки переспрашивал Григорий Лукьянов, аспирант такого же возраста, но лишённый всякой мягкости, с уже настоящей чёрной бородой, натурально мужичьей, несколько похожий и этой бородой, и прыгающим в глазах сумрачным огнём, и, наконец, посконными своими именем и фамилией на Григория Распутина, как минимум, на облегчённую версию Распутина. – Это именно в христианстве дикость? Ты ничего не перепутал?
– Нет, мой милый, я ничего не перепутал, – продолжил Артур: он, хоть и улыбался своей частой лёгкой улыбкой, тоже говорил вполне серьёзно, уж, как минимум, на три четверти всерьёз. – Я не буду тебе напоминать про ужасы средневековья, эти ужасы были общей болезнью для всех вер, хотя, скажем честно, инквизиторы даже тогда умудрились отличиться так капитально, что и современным фанатикам очень надо потрудиться, чтобы их превзойти. Я имею в виду сами истоки: саму эту безудержную, почти болезненную жажду мученичества, и не во Христе – перед Христом как перед непостижимым я умолкаю своим грешным языком и, так сказать, снимаю перед Ним шляпу, – а во всей египетской тьме Его последователей, всех без исключения в первые века ударившихся в грех восторженного подражательства, который несколько напоминает... ну, не сверкай так глазами, будто я произношу невесть бог какое кощунство! На то я и потенциальный 'философ кандидатских наук', как говорит секретарь нашей кафедры, чтобы свободно высказывать свои сомнения.
– Которые не свидетельствуют о твоей вере!
– Да разве я претендую? Кстати, я думаю, вера бесспорно предполагает возможность сомнений, иначе перестаёт быть сама собой. Пусть я, как ты говоришь, изнеженный сын современности – хотя я отвергаю этот упрёк, потому что уже блаженного Августина кто-то, вероятно, 'называл изнеженным сыном современности', – но для меня красота фундаментально связана с идеей гармонии, идеей того, что называется тактом.
– Подвиг, выходит, негармоничен, и оттого к чёрту подвиг?
– Я вовсе не сказал, что подвиг негармоничен! – возразил Артур. – Подвиг есть восстановление гармонии, как он может быть негармоничен? Но, знаешь – и я заранее у тебя прошу прощения за то, что тебе вновь покажется чем-то сродни богохульству, – сама роскошная и живописная произвольность евангельских событий с этой пятитысячной голодной толпой, о прокорме которой естественным образом, без умножения хлебов, никто заранее не подумал; с бесноватыми свиньями, летящими с обрыва в море; с засушенным фиговым деревом, вся вина которого состояла в том, что ему просто не посчастливилось вовремя плодоносить; с опрокинутыми столами меновщиков, которым нужно ведь было где-то сидеть и заниматься своим мелким, но потребным для людей делом, как и сейчас им занимаются в каждом храмовом притворе; с командой купить меч, который после всё равно пришлось вложить в ножны (так зачем было покупать его?) – всё это на меня производит впечатление некоей произвольности, нетерпения прекрасного сердца, опережающего рассуждение, и даже анархии.
– В христианстве есть анархия, если ты хочешь знать! – воскликнул Григорий. – В христианстве есть активная воля к тому, чтобы разрушить порядок старый, чтобы установить новый!
– Воля к порядку не называется анархией, – легко парировал Артур. – И за историческое время существования христианства эта воля несколько поблекла, ты не находишь? Христианство в наше время заболело болезнью Пилата и умыло руки от строительства нового справедливого мира.
– А ты уверен, что подлинное христианство призвано именно строить, а не разрушать? – спросил Григорий, щуря глаза. – Ты путаешь христиан с социалистами, похоже. 'Я пришёл принести мир, а не меч' сказано не про строительство!
– Тем хуже для него, если это так, – пожал плечами Артур. – Тогда христианство действительно анархично, но я, убей меня бог на этом месте, никак не могу соединить идею красоты с идеей анархии. В анархии не может быть поэзии, наоборот, едва ли найдётся что-то настолько же непоэтичное и пошлое.
– Всё это парадоксы и баловство ума, – проворчал Григорий. – Парадоксы в духе иезуитов, ещё и насквозь фальшивые. Христианство тем и торжествует над языческими и недохристианскими верами, что идёт войной на пошлость и зло мира, а никакое иноверие никогда всерьёз даже и задачи этой себе не ставило. Чтó, скажешь, не так?
– И много ли оно успело победить? – улыбнулся его собеседник. – Покажи-ка мне трупы зла и пошлости, сражённые мечами Христова воинства! Может быть, образки Богоматери из золота и серебра, которые продаются здесь по соседству за сорок тысяч рублей (проходили мимо Гостиного двора), они -зримое свидетельство победы над пошлостью и злом мира?
Григорий не отвечал, а едва не с гневом раздувал ноздри. Артур примирительно похлопал его по плечу.
– Дорогой мой, это всё не стоит твоего возмущения, – сказал он мягко. – Даже если иные идеи так хороши, что за них и умереть не грех, в чём я сомневаюсь, это не требует в любом, кто тебе противоречит, видеть врага, достойного казни. Идеи не стоят таких волнений, тем более что – сказать правду, о которой мы оба думаем, или нет? – тем более что в нашем случае это во многом игрушечные идеи. Мы всего лишь религиоведы, а вовсе не православные клирики, и мы так безнаказанно рассуждаем об этом всём именно потому, что мы религиоведы, а не клирики, которых посадили на короткий поводок канонического всецерковного мнения. Не говорю о себе, но, веришь ли, я даже в твоём православии сомневаюсь. То есть, не подумай, я сомневаюсь не в твоей убеждённости, а в ортодоксальности твоего credo. Твоя борода a la Гришка Распутин, твои сверкающие глаза, твоя сумрачная готовность вцепиться в горло любому хулителю православия напоминают мне Есенина с его крестьянскими кудрями, которые он 'взял у ржи, если хочешь, на палец вяжи' и протаскал на голове всю жизнь лишь для того, чтобы убеждать барышень, какой он сам бесспорный крестьянин и крестьянский сын. Крестьяне не читают стихов в столичных литературных салонах и не путешествуют по америкам, а истые православные не пишут диссертации по религиоведению. Им сам факт такой диссертации показался бы чем-то, подобным кощунству. Вот как я рассуждаю! Надеюсь, это не очень обидно звучит?
Григорий внезапно остановился и, повернувшись к своему спутнику, стал буравить его глазами, так что Артур даже оробел.
– Так всё же обидно? – пробормотал он. – Но я же сказал, что я не в настойчивости твоей веры сомневаюсь, а в том, насколько...
– Насколько ты ошибаешься, ты даже не можешь представить, – перебил его Григорий. Нет, он не сердился, да и слова эти произнёс почти загадочно. – Я хочу показать тебе кое-что, но вначале дашь ты мне слово не говорить об этом ни одной живой душе?
– Пожалуйста, если это так нужно!
Молодой человек извлёк из внутреннего кармана и с торжествующим видом показал спутнику вчетверо сложенную бумажку. Развернул её и поднял на уровень глаз собеседника, будто боясь давать в руки.
Бумажка была справкой в том, что её предъявитель, Григорий Сергеевич Лукьянов, действительно служит диаконом в Феодоровском соборе города Санкт-Петербурга (том самом, который находится на Миргородской улице недалеко от площади Восстания). Внизу, как полагается, стояла печать собора и подпись протоиерея.
– Ну, и где теперь все твои рассуждения о Есенине с его крестьянскими кудрями? – прибавил Григорий, не удержавшись от ехидства.
– Это поразительно, – прошептал Артур, широко раскрыв глаза. – Так ты – настоящий православный дьякон?
– Неужели так сложно было догадаться?
– Сложно, представь себе! Если кто-то изо всех сил старается походить на кого-то, с большой долей вероятности можно предположить, что он им не является.
– Или, наоборот, является! Твоя дурная любовь к иезуитским парадоксам тебя подвела, Артур! Ты думаешь, я иду на вокзал? Да как бы не так! Я иду на квартиру настоятеля! – проговорил свежеобнаруженный дьякон с энергией молодого честолюбия.
– Для чего это: у настоятеля хорошенькая дочка? – улыбнулся Артур.
– Ах, ты глупый человек! – воскликнул Григорий с досадой на эту улыбку, не желающую восхититься тем, что ему казалось таким важным. – При чём тут дочка? Его дочке четырнадцать лет всего, и нет: сегодня вечером уже через, – он глянул на часы – сорок минут состоится заседание приходского совета, который должен выдать мне рекомендацию для участия в молодёжном семинаре 'Светлая седмица'. Ты ведь помнишь объявление о конкурсе православных сочинений, которое висело у нас на первом этаже? Да что я тебе говорю: ты, кажется, и сам в нём поучаствовал?
– Да: чисто из озорства. Мне было просто интересно узнать, насколько убедительно я смогу воспроизвести образ мысли, ожидаемый от 'православного юноши'.
– И насколько же убедительно у тебя получилось?
– Девяносто один балл из ста, как мне сообщил оргкомитет...
– Что? – недоверчиво поднял брови Григорий. – Это уж... это уж верх цинизма, я тебе скажу! В любом случае, у тебя нет шансов, потому что одного высокого балла недостаточно. Нужна ещё обязательная рекомендация за подписью любой православной организации.
– Да уж, – вздохнул Артур с притворной скромностью. – Такой бумаги мне не видать как своих ушей...
– Ещё бы! – нетерпеливо подтвердил Григорий. – Ты думаешь, их направо и налево раздают? Отец Александр уже позвонил организаторам, и те ему сказали, что с моими баллами, тоже неплохими, я почти наверняка прохожу, дело за малым, то есть за рекомендацией. А если тебе кажется, что 'Седмица' – это просто рядовой молодёжный семинар, из числа тех, которые не сосчитать, то ты ошибаешься, честное слово! 'Седмицу' организует Преосвященный митрополит Питирим, руководитель Отдела по делам молодёжи РПЦ. Понимаешь ты, чтó это на самом такое? Это – что-то вроде молодёжного Архиерейского собора в миниатюре!
– Насколько я понимаю, молодёжные соборы, молодёжные правительства, молодёжные парламенты и прочие такие вещи, которые организуются взрослыми серьёзными дяденьками ради имитации настоящих соборов, правительств и парламентов, никогда ничего не решают? – сдержанно уточнил Артур.
– Верно, в масштабах церкви не решают ничего, и глупо думать, будто нам позволят провести реформу церковной жизни, но разве в этом дело! Когда поднимаешься так высоко, когда виден таким влиятельным фигурам, как митрополит Питирим, – тебя обязательно заметят, и тогда перед тобой все двери открыты!
– А ты очень хочешь распахнуть эти двери... Что ж, я тебя поздравляю, Гриша. Это важный шаг в твоей церковной карьере, – сказал Артур с долей иронии. ('Поздравляю, но видит Бог, не могу избавиться от ощущения некоторой неестественности твоего дьяконства, которое плохо рифмуется с твоим честолюбием', – прибавил он в уме.)
– То-то же! – его собеседник не расслышал или не желал услышать этой иронии. – Мне пришла в голову глупая идея: может быть, ты хочешь пойти со мной? Ты увидишь, что мы, мы, православные – совсем не такие страшные люди, какими нас принято малевать. В либеральном сознании, например.
– Я не либерал, как тебе известно, а тебе, похоже, просто нужен лишний свидетель твоего торжества, Гриша... Что ж, я не завистлив – и да, я действительно хочу пойти с тобой! – согласился Артур. – Мне, может быть, тоже нужно тебе кое в чём признаться...
Григорий усмехнулся.
– В безверии, наверное! В чём ещё ты мне можешь признаться? Твоё безверие написано на твоём учёном лбу, Артур, увы тебе и всем интеллектуалам, променявшим веру на игры ума. Или в тайных симпатиях католичеству, в 'криптосоловьёвстве' каком-нибудь: чего ещё можно ожидать от тебя?
– Может быть, и так... Надеюсь, криптосоловьёвцам не возбраняется участвовать в заседании приходского совета православного храма?
– Не возбраняется, – позволил Григорий великодушно и с ноткой барственности в голосе, оглядев своего 'незадачливого' товарища.
III
Отец Александр, настоятель Феодоровского собора, жил в Кузнечном переулке, в двух шагах от музея Достоевского, в историческом доме. Впрочем, в центре Петербурга каждый дом – исторический. Дверь приятелям открыла немногословная четырнадцатилетняя поповна, которая лишь пробормотала о том, что они первые, и скрылась в кухне. Григорий, не раз бывавший на квартире протоиерея, уверенно прошёл в 'залу': большую комнату с двумя высокими окнами. Артур поспешил за ним, немного робея. Он, вопреки всему своему любопытству, уже не был уверен, что оказался в правильном месте и в правильное время.
– Так что, коллега: не хочешь ли признаться в твоей страшной тайне? – насмешливо спросил Григорий, закончив изучать бумаги на столе.
– А? – отозвался Артур, опомнившись (он рассматривал большую и древнюю икону в красном углу комнаты). – Признаться... Что же: пора, действительно, признаться, и 'коллега' – это ты очень точно сказал. Ты и сам не представляешь, насколько... Но мне нужно от тебя такое же обещание молчать, которое ты мне дал.
– Христианину как-то зазорно клясться, – неуверенно проговорил дьякон. – Не по-евангельски это.
– Разве я прошу тебя о клятве? – возразил его друг. – Мне нужно только твоё слово порядочного человека.
– Если тебе так хочется, то ладно...
– Спасибо!
Достав телефон из кармана джинсов (Артур был в джинсах и простеньком свитере, в отличие от Григория, который по случаю носил пиджачную пару), он запустил на телефоне интернет-обозреватель, впечатал в строку адреса известные ему буквы и протянул приятелю, смущённо улыбаясь:
– Пожалуйста.
– Что это за чертовщина? – пробормотал дьякон.
В окошке обозревателя открылся сайт буддийского центра 'Еше Кхорло' ('Колесо мудрости'), одного из тех центров, которых в Петербурге, этой колыбели отечественного буддизма, и не сосчитать. Лаконичная информация во вкладке 'О нас' сообщала, что духовным руководителем центра является досточтимый лама Лобсанг Мёнлам (один из тибетских лам, бесчисленных, как песок морской), последний раз обрадовавший общину своим визитом в прошлом году, а председателем центра и инструктором медитации – Артур Симонов. И нет, не однофамилец: фотография не позволяла ошибиться.
У Гриши едва руки не затряслись, когда он увидел эту фотографию.
– Что это, что это вообще такое? – пролепетал он, возвращая телефон владельцу (тот между делом удобно, с комфортом уселся в кресле). – Что такое 'инструктор медитации', ч-чёрт?! Какое 'Колесо мудрости'? Я... слов приличных нет!
– 'Инструктор медитации' – это должность, если хочешь, а то и чин, говоря по-православному, – спокойно пояснил Артур, меж тем доставая из другого кармана чётки и наматывая их на левое запястье. – Это человек, который проводит службы в отсутствие ламы, а так как лама отсутствует почти всегда – и то, не может ведь он прилетать к нам каждые выходные! – почти всегда, говорю я, то инструктор медитации служит практически постоянно. Я... – он улыбнулся немного беспомощно. – Я и сам не могу сказать, как это всё случилось. Ещё четыре года назад, я, веришь ли, не думал и не гадал... Но в первую поездку, в которой мне понадобился заграничный паспорт, я встретил своего Учителя, получил от него наставления, благословения, прошёл короткую учёбу при монастыре, и вот – мы оказались там, где оказались. Когда я говорил о том, что мы – не клирики, и у тебя, и у меня были причины этому улыбнуться в уме. Но кто бы мог вообразить себе, что эти причины есть у каждого из нас! – он рассмеялся негромким смехом. – Смешно, правда?
IV
Гриша вовсе не разделял веселья своего приятеля, но возразить ничего не успел: двустворчатая дверь открылась, и четырнадцатилетняя поповна внесла стул из кухни, как бы обозначая своим появлением, что заседание начнётся через несколько минут.
– Там ещё один, – неприветливо сообщила она. – И четыре табуретки.
'Коллеги', переглянувшись, вышли за стулом и табуретками: не выяснять же было отношения прямо на месте. Едва они успели расставить принесённое из кухни в большой комнате по стенам, повернулся ключ в дверном замке, и прихожая наполнилась голосами. Приходской совет явился весь сразу. Видимо, шли из собора.
– Я ещё раз напоминаю тебе о твоём слове, – проговорил Артур вполголоса.
– Зачем ты вообще к нам явился? – яростно прошептал Гриша. Инструктор медитации безоблачно улыбнулся:
– Меня пригласил мой друг, так как же я мог не прийти? Да и любопытно...
Члены совета, ведомые отцом Александром, очень высоким и тучным мужчиной, вошли в 'залу' и принялись рассаживаться кто где. Среди 'соборян' можно было увидеть два молодых лица, а также двух глубоко пожилых людей, включая сухонького отца Никодима, второго соборного иерея, но всё-таки костяк совета составляли три женщины средних лет. Глядя на их неулыбчивые лица и плотно сжатые губы, можно было не сомневаться, что уж эти-то не дадут православные ценности в обиду и на поругание.
Отец Александр, одышливо дыша, подошёл к нашим приятелям и выдохнул:
– Здравствуйте, молодые люди! Незнаком...
'Незнаком' предназначалось для Артура, но тот проворно сложил руки лодочкой, поймал ладонь протоиерея и быстро коснулся её сухими губами. Лицо настоятеля просветлело.
– Клирик, небось, – одобрительно пробасил он, скользнув взглядом по запястью Артура с чётками. – Гриша, представь.
– Артур Симонов, – хмуро 'представил' Григорий. – Что, клирик? Да, – усмехнулся он. – Тоже 'дьякон', в каком-то роде...
Протоиерей буркнул что-то нечленораздельное, но одобрительное, и только уже собирался спросить молодого дьякона, где тот служит (на что Артур готов был честно произнести название своего центра и пронаблюдать, чем кончится этот конфуз), как секретарь приходского совета, некая Валентина Ивановна, возникла со стороны и прервала знакомство вопросом:
– Батюшка, протокол писать?
V
Протокол, конечно, полагалось писать. Члены совета и гости расселись кто куда: на диван, в кресла, на принесённые из кухни стулья и табуреты. (По уставу заседания совета были открыты для всех прихожан собора, которые получали совещательный голос, да и то, для одних членов совета людей в комнате было многовато.) Заседание, в лучших традициях советских заседаний с подсчётом кворума, оглашением повестки и прочим, началось и потекло своим чередом.
Первым вопросом рассматривалось распределение небольшого непланового излишка средств в приходской кассе, вторым – проблемы воскресной школы при соборе. Артур скучал, украдкой разглядывая интерьер и лица. Он даже успел пожалеть, что явился сюда: церковное делопроизводство почти везде одинаково и никаких запретных тайн не содержит.
Добрались наконец с грехом пополам и до третьего вопроса в повестке дня. Отец Александр, председатель совета, в двух словах рассказал о семинаре православной молодёжи, к участию в котором допускались победители конкурса сочинений, сдержанно поздравил отца дьякона с высоким баллом и предложил принять решение о рекомендации соборного клирика к участию в благом начинании, не откладывая дело в долгий ящик.
– Нет, так нельзя, – возразила Валентина Ивановна, которая в советские годы активно потруждалась в месткоме. – То есть 'рекомендовать', конечно, но Григорий, э-э-э... Сергеевич должен вначале выступить, рассказать нам, за что мы его рекомендуем.
Дьякон кашлянул от неожиданности.
– Что я должен рассказать? – хрипловато спросил он.
– Ну как же! – не сдавалась секретарь совета. – Вот, о теме Вашей работы, какие Вы в ней ценности и мысли защищали, отец Григорий. Тема-то какая была?
– 'Православие и иноверие', – подсказал Артур с места.
– Ну, и чудесно! – обрадовалась женщина. – Так что же Вы думаете про иные веры, отец дьякон?
Боязливо она покосилась на протоиерея: не лишку ли хватила? Тому достаточно было бы нахмуриться, и, конечно, тогда решение легло бы в протокол без всяких вопросов. Но отец Александр, почти засыпающий, утомлённо кивнул: давайте, мол, попытайте паренька, вреда не будет.
Григорий, неуверенно встав с места, заговорил. Он не был готов выступать, да и вообще не отличался красноречием. Кроме прочего, его этот битый час, пока тянулось обсуждение двух первых вопросов, терзала мысль: как же, как он сумел проморгать? Артур, этот душа-человек, этот ласково-ироничный скептик, этот почти тщедушный интеллектуал – оказывается клирик, тоже! И преуспел в своей духовной карьере, в своём тёмном язычестве не меньше его, Гришиного, ведь он-то, Гриша, перед отцом настоятелем по струнке вытягивается каждую неделю, а этот своё духовное начальство по целому году не видит и служит у себя в 'приходе' в одиночку, наподобие целого иерея! Где же справедливость на свете? Впрочем, утешал себя дьякон, лучше быть вторым в городе, чем первым на деревне, и особенно на деревне невежественного восточного многобожия. Или по-другому звучала эта поговорка про деревню и город?
Многобожие-то оно многобожием, но прошли всё-таки времена, когда иноверцев крестили нехристями без всякого разбору. В XXI веке, когда вот даже Святейший Патриарх с разными муллами за руку здоровается и в президентских советах бок о бок с ними восседает, так делать неполитично. Держа это в уме, Гриша произнёс следующую скомканную речь:
– Иноверие – это... то, к чему отношение церкви меняется, оттого что ведь и церковь – живой организм, она не стоит на месте. ('Нет, этого не надо, – тут же мелькнуло в уме. – Тут и в ересь соловьёвства недолго впасть'.) Безусловно, если отбросить всякие кровавые культы, всякое постыдное язычество и идолопоклонство, с которыми православному человеку никогда не было и не может быть по пути, то в целом следует признать, что и другие традиционные религии, особенно перечисленные в нашем российском законе 'О свободе совести', – это наши, в общем, сёстры... Младшие сёстры, конечно. При этом никто из нас не закрывал и не будет закрывать глаза на наши догматические расхождения, на филиокве, например... ('Нет, этого не надо тоже', – с отчаянием сказал докладчик сам себе, оглядев слегка осоловевшие лица членов совета. Даже вот отец Никодим при слове 'филиокве' выставил на дьякона стеклянные глаза.) Но в целом, как бы странно это ни прозвучало, с иными верами нам договориться и понять нам друг друга даже проще, чем наших, м-м-м, заблудших братьев, хотя бы потому, что ни на какого Христа иноверцы не претендуют, на наше влияние в традиционных наших регионах не покушаются, и делить нам с ними, собственно, нечего. Вот... как-то так.
Проговорив всё это, Гриша сел. Речь на членов совета произвела, похоже, лёгкое разочарование своей беззубостью: несколько человек обменялись вопросительными взглядами. Валентина Ивановна откашлялась: она не знала, что сказать. Разумеется, не нужно было ничего придумывать: нужно было просто встать на рельсы бюрократических формул вроде 'Возражения?', 'Вношу предложение...', 'Ставлю на голосование...' и пр. Катясь по этим рельсам, заседание наверняка успешно приехало бы к правильной записи в протоколе и окончилось бы за исчерпанностью повестки дня.
– Возражения и добавления? – спросила секретарь бесцветным голосом.
– У меня есть возражение и добавления, – вдруг произнёс Артур со своего места.
Отец Никодим, склонившись к уху секретаря, пояснил, что молодой человек – тоже, кажется, дьякон, правда, пришлый, из другого храма. Духовенства Валентина Ивановна трепетала и, конечно, произнесла:
– Отец... э-э-э, дьякон, пожалуйста, Вам слово.
Артур вышел к столу, стоящему в середине комнаты, и встал так, чтобы видеть большинство присутствующих, слегка опираясь на столешницу. Он сам не понимал, какое озорство, какой шалый стих на него нашёл. Нет, мысль о том, что он может повредить приятелю, ему и в голову не приходила: просто новая роль православного клирика, за которого его здесь по недоразумению приняли, так его позабавила, что он захотел немедленно в этой роли утвердиться, а заодно лишний раз поупражняться в двух искусствах, актёрском и ораторском.
– Григорий Сергеевич утверждает, что иные веры – наши сёстры, пусть даже младшие, – начал он своим обычным тоном, мягким, но уверенным. – Даже заметив и оценив эту его оговорку про наше старшинство, я – простите меня! – не готов с ним согласиться. Григорий Сергеевич, вероятно, прав с точки зрения закона, он бесспорно прав с точки зрения закона, но ведь закон этот был принят светской властью! Признавая важность светской власти, смиренно склоняя перед ней голову, спросим себя: неужели даже здесь, на заседании приходского совета православного собора, мы обязаны светские власти посаждать себе на макушку? ('Посаждать на макушку', например, 'посаждать на макушку учителя' – это чисто буддийское выражение, но из присутствующих этого никто, кроме докладчика, не знал, и так Артур благополучно перескочил опасный камень, на котором мог споткнуться.) Если здесь мы не можем сказать правды, то где же нам говорить правду? Наши заблудшие братья, например, всяческие баптисты, лютеране и прочие, говорит отец дьякон, от нас более далеки, чем иноверцы. Я придерживаюсь полностью иного мнения и считаю, что человек, даже порочный и даже преступный, для своего брата человека окажется более близким созданием, чем белый медведь, серый волк или полярная сова! (Члены совета весело переглядывались: им нравился этот молодой напор, и слова эти тоже нравились.) На наше влияние в традиционных регионах иноверцы не претендуют, говорит мой друг – а знает ли он, сколько в одном нашем городе разнообразных клубов йоги, обществ восточной мудрости, буддийских центров и прочих непонятных кружков, которых одна только вежливость мешает мне назвать так, как их должен называть христианин? На Христа они не покушаются, сказали нам, – а я процитирую Кешаб Чандер Сена, индусского проповедника, который ещё в позапрошлом веке заявлял, что мудрость буддистов и мужество магометан идёт от Христа! От Христа – как вам понравится это? Помяните моё слово: скоро все эти иноверцы скажут в полный голос, что мы, православные, Христа – узурпировали, что Он нам монопольно не принадлежит, что они лучше нашего знают, как с Христом и Его наследием разобраться. Этого ли мы желаем? Дверь этому ли мы открываем своей беспечностью и благодушием? Моё мнение полностью противоположно и таково: отношение православного человека к иноверцам должно быть – бескомпромиссным. В бескомпромиссности – алмаз нашей веры! В защите веры – истина! В готовности умереть за истину – величие! Я закончил.