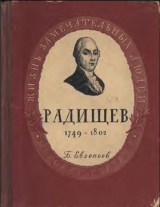
Текст книги "Радищев"
Автор книги: Борис Евгеньев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 15 страниц)
VI. ИСПЫТАНИЕ
«…Душа моя во мне, я тот же, что и был…»
А. Радищев
Один из ближайших помощников Екатерины по делу Радищева, член совета, гофмейстер и «над почтами в государстве главный директор» граф Александр Андреевич Безбородко так обрисовал положение дел в письме к правителю канцелярии князя Потемкина В. С. Попову:
«Здесь по уголовной палате производится ныне примечания достойный суд. Радищев, советник таможни, несмотря, что у него и так было дел много, которые он, вправду сказать, и правил изрядно и бескорыстно, вздумал лишние часы посвятить на мудрования, заразившись, как видно Францией, выдал книгу «Путешествие из Петербурга в Москву», наполненную защитою крестьян, зарезавших помещиков, проповедью равенства и почти бунта противу помещиков, неуважением к начальникам, внес много язвительного и, наконец… образом впутал оду, где излился на царей и хвалил Кромвеля. Всего смешнее, что шалун Никита Рылеев цензировал сию книгу, не читав, и, удовольствовавшись титулом, подписал свое благословение. Книга сия начала
входить в моду у многой шали[106]106
По Далю – дурь, блажь.
[Закрыть], по счастию, скоро ее узнали. Сочинитель взят под стражу, признался, извиняясь, что намерен был только показать публике, что и он автор. Теперь его судят, и, конечно, выправиться ему нечем. С свободою типографий, да с глупостью полиции и не усмотришь, как нашалят…»
Как уже говорилось, следствие по делу Радищева было поручено «знаменитому» Шешковскому – «домашнему палачу» Екатерины, как называл его Пушкин. Через его руки прошли все важнейшие дела того времени – включая Мировича[107]107
В. Я. Мирович (1740–1764) – поручик Смоленского пехотного полка, казненный по приказу Екатерины II за попытку освободить из Шлиссельбургской крепости бывшего императора Ивана Антоновича.
[Закрыть] и Пугачева и кончая Радищевым и Новиковым.
Гельбиг писал о нем: «Степан Шешковский, человек низкий по происхождению, образованию и нраву, был в царствование Екатерины II ужасом двора и города. Государыня назначила его директором тайной канцелярии, или, вернее сказать, великим инквизитором России; эту должность он исполнял с страшной строгостью и точностью».
Именем следователя Шешковского пугали детей. Сказывали, что допросы даже «знатных персон», попавших в его руки, он начинал с того, что «хватит палкою под самый подбородок так, что зубы затрещат, а иногда и повыскакивают…»
– Каково кнутобойничаешь? – открыто спрашивал Шешковского князь Потемкин.
Елизавета Васильевна Рубановская, сестра покойной жены Радищева, продала принадлежавший ей дом, чтобы иметь возможность ежедневно посылать Шешковскому «гостинцы». И каждый день приносили один и тот же ответ:
«Степан Иванович приказали кланяться, все, слава богу, благополучно, не извольте беспокоиться».
* * *
Разбирательству дела Радищева и его допросу предшествовал подробнейший допрос книготорговца Зотова и всех лиц, кто получил от Радищева книгу.
Видно было, что Шешковский имел приказ точно установить количество распространенных экземпляров книги и что этот вопрос вызывал немалое беспокойство.
Зотов, взятый под стражу четырьмя днями раньше Радищева, путался и давал сбивчивые, а то и прямо противоречивые показания о количестве полученных им книг. Сначала он говорил, что получил для продажи 26 экземпляров, потом добавил к ним еще 50, а на очной ставке с Радищевым, настаивавшим на том, что он дал Зотову только 25 экземпляров, повинился и заявил:
– Виноват. Это дело было так, и первые мои допросы оба несправедливы в том, что я более тех двадцати пяти экземпляров, которые получил от господина Радищева, ни от кого не получал.
Зотову было объявлено, что за эту ложь он достоин «строжайшего по законам осуждения» и чтобы он «впредь при суде отнюдь лгать не отваживался».
Кроме того, ему было приказано: «чтоб ты о том, где содержался и о чем был здесь спрашиван, никому ни под каким видом не сказывал, под опасением в противном случае тож строжайшего законам наказания…»
По всей вероятности, до смерти перепуганный купец с точностью выполнил это предписание. Как только его освободили из-под стражи, он поспешил убраться из Петербурга, и когда позднее он зачем-то понадобился, найти его оказалось невозможным…
Радищев утверждал, что, кроме 25 экземпляров, отданных Зотову, он роздал 7 экземпляров своим знакомым, в том числе один предназначался Державину, один Вицману – тому самому учителю, который отвозил письмо студентов из Лейпцига в Москву, и один для пересылки в Берлин Алексею Кутузову.
Не исключено, конечно, что какое-то количество экземпляров «Путешествия» без ведома автора попало в продажу.
* * *
Прочитав книгу Радищева, Потемкин писал Екатерине:
«Я прочитал присланную мне книгу. Не сержусь. Рушеньем Очаковских стен отвечаю сочинителю. Кажется, матушка, он и на вас возводит какой-то поклеп. Верно, и вы не понегодуете. Ваши деяния – вам щит».
Это была хитрая и подлая уловка – сделать вид, что книга бессильна уязвить тех, в чью сторону направлена ее разящая сила. Эту уловку впоследствии применила и Екатерина, ханжески заявив, чтобы дело Радищева разбиралось так, будто оно ее не касается, – «понеже я презираю…»
В действительности же в деле Радищева она была хоть и скрытым, но жестоким, пристрастным и неумолимым судьей.
То, что при чтении «Путешествия» она сразу заподозрила авторство Радищева, не является свидетельством ее особенной прозорливости. И случилось это совсем не потому, что Екатерина узнала в авторе «Путешествия» лейпцигского студента, нахватавшегося идей просветительной философии, и не потому, что она знала о существовании у Радищева собственной типографии, и не потому, что она узнала в авторе таможенного чиновника, знакомого с «купецкими обманами».
Нет, Екатерина узнала другое: узнала, как говорится в поговорке, «по когтям льва», – узнала последовательного и смелого «бунтовщика», за деятельностью которого, быть может» давно уже следили.
Не случайно, что в конце своих замечаний по поводу «Путешествия» она так писала о Радищеве;
«Вероподобно оказывается, что он себя определил быть начальником», книгою ли или инако исторгнуть скиптра из рук царей, но как сие исполнить один не мог, показываются уже следы, что несколько сообщников имел, то надлежит его допросить, как о сем, так и о подлинном намерении, и сказать ему, чтоб он написал сам, как он говорит, что правду любит, как дело было; ежели же не напишет правду, тогда принудить мне сыскать доказательство, и дело его сделается дурнее прежнего…»
И, наконец, вывод:
«Сие сочинение… господина Радищева, и видно из подчерченных мест, что давно мысль его готовилась ко взятому пути, а французская революция его решила себя определить в России первым подвизателем…»
Екатерина недвусмысленно дала понять следствию и суду, чего она ждет от них.
Вопросы Шешковского, которые он задавал Радищеву, повторяли замечания Екатерины, написанные ею на «Путешествии».
Екатерина писала:
«Едет оплакивать плачевную судьбу крестьянского состояния, хотя и то неоспоримо, что лучшее судьбы наших крестьян у хорошего помещика нет во всей вселенной».
И Шешковский спрашивал Радищева:
«Почему он осуждал состояние помещичьих крестьян, зная, что лучшей судьбы российских крестьян у хорошего помещика нигде нет?»
Екатерина писала:
«…На последней (странице) написаны сии слова: «Он был царь, скажи же, в чьей голове может быть больше несообразностей, если не в царской?» Сочинитель не любит царей и где может к ним убавить любовь и почтение, тут жадно прицепляется с редкой смелостию…»
И Шешковский спрашивал:
«Начиная с 306 по 340 (страниц) между рассуждениями о цензуре помещены и сии слова: «Он был царь. Скажите ж, в чьей голове может быть больше несообразностей, если не в царской?» то как вы об оных словах думаете?»
Екатерина писала:
«С 350 до 369 содержит по случия будто стихотворчества, ода совершенно явно и ясно бунтовская, где Царям грозится плахою. Кромвелев пример приведен с похвалою. Сии страницы суть криминального намерения, совершенно бунтовские. О сей оде спросить сочинителя, в каком смысле и кем сложена».
И Шешковский спрашивал:
«Начиная с 350 до 369 страницы поместили вы по случаю будто бы стихотворчества оду совершенно и явно бунтовскую» где царям грозит плахою. Кромвелев пример приведен с похвалами. Сии страницы суть криминального намерения, совершенно бунтовские; то скажите, в каком смысле и кем та ода сочинена?..»
Радищев обвинялся также и в том, что «после цензуры Управы благочиния взнес он многие листы в помянутую книгу».
Это обвинение является тем более странным, что обер-полицмейстер Рылеев сам признался, что подписал книгу, не читая. Да и ничего «криминального» Радищев не добавил в свою книгу после получения ее из Управы благочиния…
* * *
Во время следствия Радищев был болен, страдал бессонницей. Экзекутор, сопровождавший его к Шешковскому и получивший строжайший наказ «иметь всякую предосторожность, которую должно иметь со столь важным арестантом», удивлялся, что «важный арестант» едва держался на ногах.
Радищев всеми силами стремился к тому, чтобы не запутать в дело никого из друзей и во что бы то ни стало отвести гнев императрицы от своих детей.
Он все время думал о детях, тревожился об их судьбе. И, думая о них, он стал писать в тюрьме небольшую повесть, которую назвал «Филарет Милостивый».
Все, что выходило из-под пера Радищева в крепости, попадало в руки Шешковского. Посылая ему повесть, Радищев писал:
«Читая житие Филарета, я преложил его несколько на образ нынешних мыслей… и мечтаю себе, что оно может детям моим быть на пользу… О, если бы оно могло достигнуть их рук!..»
В тюрьме у Радищева было несколько книг религиозного содержания. Их прислал ему ханжа и святоша Шешковский.
Тему для своей повести Радищев нашел в «Минеях», читая житие Филарета.
Житие повествовало о том, что в Пафлагонии, входившей в состав Византийской империи, в селении Амнии, жил богатый и щедрый «земледел» Филарет с женой, сыном и двумя дочерьми. Добрый Филарет роздал бедным все, что имел, вплоть до последней пары волов и последнего улья пчел. Он отдал бедным даже пшеницу, которую прислал ему один из друзей, узнав о разорении и нищете Филарета… В это время через Амнию проезжали царские слуги, которые искали по всей стране самых красивых девушек, чтобы отвезти их в столицу на смотр невест для царя. Пораженные красотой и добродетелью внучки Филарета, они отвезли ее во дворец. Внучка Филарета стала царицей, и вся родня ее снова стала жить в довольстве и богатстве. Но Филарет попрежнему раздавал свое богатство беднякам, и даже на богатый пир, устроенный в честь царя, он созвал нищих и заставил свою семью прислуживать им.
Вот эту нравоучительную историю Радищев и положил в основу повести «Филарет Милостивый».
Из писем Радищева, из его «Завещания» мы знаем, как горячо он любил своих детей и как он о них заботился.
Неожиданный арест оторвал его от семьи. Дети были еще слишком малы, чтобы понять и оценить поступок Радищева так, как ему хотелось бы. И вот, работая над повестью «Филарет Милостивый», он старался познакомить их со своим стремлением к служению угнетенному народу.
В повести много совпадений с биографией Радищева. Под Афинами, в которые уезжает учиться Филарет, нетрудно узнать Лейпциг. Под именем друга Филарета, Проба, с которым тот учился в Афинах и на сестре которого женился Филарет, нетрудно узнать Рубановского и его племянницу, Анну Васильевну, ставшую женой Радищева. В отношении Филарета к своим добрым и любящим родителям нетрудно увидеть сыновние чувства самого Радищева.
Шешковский не вернул Радищеву начатую повесть. Она была приобщена к делу и осталась незаконченной.
* * *
Когда впервые знакомишься с материалами по делу Радищева – с его показаниями, ответами на вопросы Шешковского, с его письмами и «Завещанием», то невольно возникает тягостное и горькое представление о том, что Радищев не выдержал тяжелого обвинения, сдался, отступил и стал просить о снисхождении к своим заблуждениям. Но это неверное представление. Стоит только вдуматься в ход дела и правильно понять позицию Радищева, чтобы по достоинству оценить его поведение в течение всего процесса.
Выше было сказано, что в свое время Безбородко дал знать Воронцову о необходимости чистосердечного раскаяния со стороны Радищева.
Радищев понял, что внешнее раскаяние в совершенном им «преступлении» – единственное, хотя и очень трудное средство самозащиты. Не стесняясь в самых резких выражениях на свой счет, он брал ответственность за свою «крамольную» книгу только на себя одного.
Это тотчас же принесло свои результаты: Екатерина была вынуждена ограничиться преследованием одного Радищева и прекратить дальнейший розыск его единомышленников.
А то, что единомышленники у Радищева были, – факт непреложный. И, повидимому, круг их, то-есть круг людей, не только знавших о работе Радищева над «Путешествием», но и разделявших его взгляды, был довольно велик. Это были близкие Радищеву люди, его друзья, с которыми он постоянно общался, – люди разного положения, начиная с таможенных служащих, таких, как Царевский, и включая Челищева, а может быть, и Воронцова.
На следствии Радищев говорил, что ему хотелось «заслужить в публике гораздо лучшую репутацию, нежели как о нем думали до того», что он «бредил в безумии своем прослыть острым писателем…»
На вопрос Шешковского, не намерен ли он был своей книгой вызвать возмущение, подобное революции во Франции, он повторял все одно и то же: «Худых умыслов я не имел… цель моя была прослыть писателем… и из продажи книги извлечь себе прибыль… Как сам не имел намерение сделать возмущение, то и сообщникрв не имел…» Он совершил ошибку, чрезмерно увлекаясь «Путешествием Иорика», то-есть «Сентиментальным путешествием» Стерна, и «Историей об Индиях» Рейналя…
Перед Радищевым во время следствия стояли три задачи: никого не запутать в свое дело; оградить, по возможности, от опасности своих детей; спасти себя для дальнейшей работы и борьбы. И, ненавидя своих судей, своих врагов, он брал всю вину на себя, бранил себя, старался доказать, что его книга – обычное произведение, вроде книг Стерна или Рейналя.
На что, кроме своих собственных сил и своей выдержки, он мог рассчитывать в своем неравном поединке с «самодержавством»?
Но он не хотел отступать от главного. Он не хотел отречься и не отрекся от мысли о свободе крепостных рабов.
Он говорил на допросе: «Желание мое стремилось всех крестьян от помещиков отобрать и сделать их вольными… чтоб крестьяне были вольные, то его желание было…»
Таково было его «желание», и в этом «желании», составлявшем основу его жизни и деятельности, Радищева не могли поколебать ни страшный Шешковский, ни угроза смертной казни.
* * *
Обвинение Радищева было с исчерпывающей полнотой и точностью определено высказываниями Екатерины.
Судьям пришлось рыться в старых законах, выискивая статьи, чтобы угодить императрице. Вот в каких преступлениях обвиняли Радищева:
«…А которые воры [108]108
Вор – в смысле мятежник.
[Закрыть] чинят в людях смуту и затевают на многих людей воровским своим умышлением затейные дела, и тех воров за такое их воровство казнить смертию…
…Буде кто каким умышлением учнет мыслити на государево здоровие злое дело, и такого по сыску казнить смертию…
…Так же будет, кто при державе царского величества, хотя московским государством завладети и государем быти, начнет рать собирать… и такого изменника по тому же казнити смертию…»
Весьма примечательно, что эти же статьи были в свое время перечислены и в отношении Пугачева в правительственном объявлении с приложением судебного приговора по делу Пугачева и других участников восстания. Как видно, слова Екатерины о том, что Радищев «хуже Пугачева», возымели свое действие.
На заседании Уголовной палаты в качестве вещественного доказательства великих преступлений Радищева было прочитано «Путешествие из Петербурга в Москву». Страх перед «крамольной» книгой был так велик, что чтение происходило при закрытых дверях и из зала заседания были удалены даже секретари суда.
24 июля Уголовная палата вынесла приговор, в котором говорилось, что за напечатание книги, наполненной «самыми вредными умствованиями, разрушающими покой общественный и умаляющими должное ко властям уважение, стремящимися к тому, чтоб произвести в народе негодование противу начальников и начальства, и, наконец, оскорбительными и неистовыми изражениями противу сана и власти царской… Радищева за сие преступление палата мнением и полагает, лиша чинов и дворянства, отобрав у него знак ордена святого Владимира 4 степени… казнить смертию…»
26 июля приговор поступил в Сенат, и 8 августа сенаторы утвердили его. При этом верноподданные сенаторы в своем стремлении угодить императрице добавили к приговору Уголовной палаты следующее дополнение:
«…до вышеупомянутого о произведении ему смертной казни указа, заклепав в кандалы, сослать в каторжную работу… в Нерчинск, для того, дабы таковым его удалением отъять у него способ к подобным сему предприятиям…»
19 августа доклад Сената дошел до Государственного совета, и совет утвердил приговор.
Все это время мысли Радищева невольно возвращались к детям.
После вынесения смертного приговора Уголовной палатой, 27 июля, он написал «Завещание».
«Если завещание сие, о возлюбленные мои, возможет до вас дойти, то приникните душою вашею в словеса несчастного вашего отца и друга и внемлите…»
Он говорил детям о том, что нужно помнить о милосердии бога, о послушании начальникам, о любви к «священной особе» императрицы… Это «поучение» было продиктовано мучительным беспокойством за судьбу детей, желанием отвести от них гнев императрицы.
Еще раньше, в письме к Шешковокому, Радищев писал:
«Доколе дыхание продлится в душе моей, доколе я жив буду, помышления мои, мысли и чувствования от плачевного моего семейства отвращены быть не могут…
…Столь велика моя привязанность к моим детям, что и последнее дыхание, каково оно бы ни было, будет для них, что все мое сокрушение происходит оттого, что их не могу видеть, и что лишен сего, кажется, навсегда…»
В «Завещании» он сделал ряд хозяйственных распоряжений. Он просил мать и отца не оставить его детей и простить «несчастному их сыну печаль, в которую он их повергает…» Он просил также, чтобы его дворовым людям были даны вольные.
Итак, Радищев был осужден на казнь.
Но казнить его Екатерина не решилась: она боялась европейского общественного мнения и со свойственным ей лицемерием стала в позу милосердия. В связи с торжествами по случаю мира со Швецией Екатерина заменила казнь ссылкой.
Радищева в Сибирь, в Илимский острог, на десять лет.
Впрочем, за этим «смягчением» приговора скрывался расчет на то, что Радищев, больной и истомленный заключением и следствием, не выдержит долгой и тяжелой дороги и жизни в суровом, диком краю.
Радищев ждал смертной казни без малого полтора месяца…
В «именном указе Сенату 4 сентября 1790 года» говорилось, что Радищев «За таковое его преступление осужден он Палатою уголовных дел Санкт-Петербургской губернии, а потом и Сенатом нашим, на основании государственных узаконений к смертной казни; и хотя по роду толь важной вины заслуживает он сию казнь, по точной силе законов, означенными местами ему приговоренную, но мы, последуя правилам нашим, чтобы соединить правосудие с милосердием для всеобщей радости, которую верные подданные наши разделяют с нами в настоящее время, когда всевышний увенчал наши неусыпные труды в благо Империи, от него нам вверенной, вожделенным миром со Швециею, освобождаем его от лишения живота, и повелеваем, вместо того, отобрать у него чины, знаки ордена св. Владимира и дворянское достоинство, сослать его в Сибирь в Илимский острог на десятилетнее безысходное пребывание, имение же, буде у него есть, оставить в пользу детей его, которых отдать на попечение деда их…»
Многим не верилось, что Радищев наказан столь сурово. Говорили, будто он выслан к отцу, в Саратовскую губернию, что императрица запретила ему только въезжать в обе столицы, что за него заступился Потемкин и что якобы уже послан в Сибирь курьер с разрешением Радищеву вернуться в Россию.
Брат графа А. Р. Воронцова писал из Англии:
«Осуждение Радищева причиняет мне крайнюю скорбь. Какой приговор и какое смягчение за одну опрометчивость! Что же сделают за преступление и за действительное возмущение? Десять лет Сибири хуже смерти для человека, имеющего детей, с которыми он должен разлучиться или которых он лишит воспитания и службы, если возьмет их с собой. Это заставляет содрогаться…»
Даже купцы, знавшие Радищева по работе в таможне, плакали, узнав о приговоре.
Полицейский чин, пришедший домой к Радищеву, чтобы объявить об указе Сената, прослезился и убеждал домашних не отчаиваться, уверяя, что «в Сибири хорошая земля»…
…Смеркалось, когда после объявления приговора конвойные под руки вывели Радищева из губернского правления.
Накрапывал дождь. С Невы поднимался туман. Не разбирая дороги, шлепая по лужам, Радищев прошел к дорожной кибитке.
Никто из его близких не знал, что его отправят в путь прямо из губернского правления. Родные ждали его у тюрьмы. В тюрьму же граф Воронцов послал ему деньги на дорогу.
У Радищева не было даже шинели, – он был в легком кафтане, дрожал от сырости и холода.
Прибежал конвойный, бросил в кибитку рваный тулуп, взятый у сторожа.
– Трогай!
Ехали недолго. Кибитка остановилась у моста через Неву. Конвойные спорили о чем-то. Радищев выглянул из кибитки. Мост через Неву был разведен, пропуская караван судов…
На другом берегу Невы Радищева ждала Елизавета Васильевна с детьми. Разведенный мост не позволил им встретиться с Радищевым. Они видели вдали фонари его кибитки. Вот фонари остановились, потом снова качнулись, двинулись и скрылись в сумраке ненастной ночи…
* * *
От Петербурга до Илимска считалось 6 788 верст.
Проделать такой путь в дорожной кибитке, в осеннюю непогодь, в лютые сибирские морозы и здоровому человеку не легко. Радищев же выехал из Петербурга больным.
В губернском правлении решили, что он сослан «в работу», то-есть на каторгу. Его заковали в кандалы и не дали ничего запасти в дальнюю дорогу.
Кандалы с Радищева сняли только в Новгороде но ходатайству графа Воронцова.
В письме к тверскому губернатору Воронцов писал, что Радищев «до несчастья своего издавна мне не только знаком, но и любил я его…» И Воронцов просил губернатора, чтобы тот снабдил Радищева тулупом, шубою, несколькими парами сапог и башмаков, чулками, бельем, платьем, пристойным и нужным для дальнего пути, и продуктами на дорогу. Воронцов просил также и о том, чтобы с Радищевым обращались человеколюбиво и обнадежили, что и в Сибири его не оставят и будут заботиться о его детях.
Такие же письма Воронцов направил к губернаторам Нижнего Новгорода, Перми и Иркутска.
С этого времени начинается дружеская, постоянная забота Воронцова о Радищеве и его семье – забота, которая грозила Воронцову серьезными неприятностями и которая лучше всего доказывала искренность дружеских чувств «душесильного» человека к опальному изгнаннику.
Отзывчивый и чуткий Радищев высоко ценил эту дружбу. С дороги, повидимому из Твери, он писал Воронцову:
«Если бы возможно было мне развернуть мое. сердце, верьте, нелицемерною чертою означена бы явилась в нем начертана благодарность неизреченная. Когда все, казалося, меня оставляло, я ощущал, что благодетельная твоя рука носилась надо мною…»
Тверской губернатор извещал графа: «Посланный от меня возвратился и довез г-на Радищева до Москвы в весьма слабом здоровьи, так что, уповаю, до выздоровления пути он продолжать не может».
В Москву приехали родители Радищева проститься с сыном. Они снабдили его на дорогу всем необходимым.
Путь предстоял Радищеву долгий и трудный: через Нижний Новгород, на Тобольск, Томск, Иркутск. От Иркутска нужно было свернуть в сторону с большой сибирской дороги и ехать вдоль диких берегов могучей Лены – 500 верст на север, в глушь, – до Илимского острога.
С Казани началась зима. Ночью выпал снег. Садясь утром в кибитку, Радищев полной грудью вдохнул морозный воздух.
«Выехав из Нижнего, я было занемог совершенно, – писал он с дороги Воронцову. – Наступившая зима и морозы укрепили слабое мое телосложение, и я теперь, слава богу, здоров..»
С обычным своим пристальным и живым вниманием он всматривался во все новое, что открывалось перед ним в дороге.
В пути он вел дневник, в который записывал свои дорожные впечатления в виде кратких, отрывочных записей, из которых видно, что его интересовало решительно все, что проходило перед его глазами: новые пейзажи, нравы и обычаи, промыслы, а больше всего – жизнь и быт народа.
Все занимало его: и высокие кички с бахромою и шитьем на бабах в вотских деревнях, и веселый шумный торг хлебом, рыбой, воском, медом, крашеной посудой в Перми, и старинная бревенчатая крепость в Кунгуре, строгановские заводы, домны, рудники…
Екатеринбург, Тюмень. Один за другим оставались позади города. Дорога вела все глубже и глубже в Сибирь.
Вглядываясь в пустынные снежные поля, верста за верстой ложившиеся между ним и его прошлой, привычной жизнью, Радищев не без тревожной тоски думал о том, что ожидает его в далеком, неведомом краю, «где подле дикости живет просвещение, где черта, пороки от ошибки и злость от остроумия отделяющая, теряется в неизмеримом земель пространстве и стуже за 30 градусов…» [109]109
Из письма А. Р. Воронцову из Тобольска от 15 марта 1791 года.
[Закрыть]
Забота о детях и в пути не давала ему покоя, хотя он знал, что они находятся в руках заменившей им мать доброй и заботливой Елизаветы Васильевны.
«Признаюсь, – писал он, – что чувствительно было видеть на себе железы, но разлука с детьми моими есть для меня томная смерть…»
Он старался не поддаваться тоске и тревоге. Из Перми он писал Воронцову:
«Душа моя болит и сердце страждет… Разум мой старался упражняться, сколько возможно, то чтением, то примечаниями и наблюдениями естественности, и иногда удается мне разгонять черноту мыслей…»
В этой измученной, но не сломленной душе таилась огромная сила жизни.
«Когда я стою на ночлеге, то могу читать, – пишет он Воронцову из Нижнего Новгорода; – когда еду, стараюсь замечать положение долин, буераков, гор, рек; учусь в самом деле тому, что иногда читал в истории земли; песок, глина, камень, все привлекает мое внимание. Не поверите, может быть, что я, с восхищением переехав Оку, вскарабкался на крутую гору и увидел в расселинах оной следы морских раковин! Не почтите, ваше сиятельство, сне каким-либо хвастовством; я выхватить стараюся, почасту бесплодно, из челюстей скорби спокойную хотя минуту, и если не могу утешаться чем-либо существенным, то стараюся заняться безделкою…»
В декабре 1790 года Радищев добрался до Тобольска.
Здесь Радищева встретили приветливо. Как видно, слух о нем дошел сюда. Его приглашали в гости. Он бывал даже в театре.

Тобольск в XVIII веке.
В Тобольске он ждал приезда Елизаветы Васильевны с младшими детьми.
Слабая здоровьем, но сильная духом, молодая женщина совершила немалый подвиг, решив оставить налаженную столичную жизнь и разделить с Радищевым его изгнание. Этим своим самоотверженным и благородным поступком она как бы предварила подвиг жен декабристов, поехавших в ссылку следом за своими мужьями.
Г. И. Ржевская, подруга Елизаветы Васильевны Рубановской по Смольному, пишет в своих «Памятных записках»:
«Искусное перо могло бы написать целую книгу о добродетелях, несчастиях и твердости духа госпожи Рубановской, которая послужила бы к «назиданию многих…»
Сам Радищев называл свою свояченицу «геройской женщиной».
Елизавета Васильевна привезла в Тобольск двух младших детей Радищева – сына и дочь; два старших сына были отправлены в Архангельск к их дяде Моисею Николаевичу, занимавшему там пост директора таможни.
«Получив в горести моей великую отраду приездом моих друзей, я чувствую, что существо мое обновляется», – писал Радищев Воронцову из Тобольска.
Он подробно рассказывает о своей жизни в этом старом русском городе, раскинувшемся у стыка Тобола и Иртыша, о занятиях с детьми, благодарит за книги и журналы, присланные ему Воронцовым, подробно описывает город, местные нравы, погоду.
Во время своего пребывания в Тобольске Радищев с большим интересом и вниманием изучал находившиеся в его распоряжении труды о Сибири. Он написал краткое «Описание тобольского наместничества», в котором подробно описывал торговлю края и с особым вниманием останавливался на положении местных народностей, говорил о жестокой эксплоатации остяков и тунгусов.
В бытность свою в Тобольске Радищев написал небольшое стихотворение. Возможно, что оно явилось поэтическим ответом на чей-то вопрос о причинах его ссылки.
Ты хочешь знать: кто я? что я? куда я еду? —
Я тот же, что и был и буду весь мой век:
Не скот, не дерево, не раб, но человек!
Дорогу проложить, где не бывало следу,
Для борзых[110]110
Борзый – скорый, быстрый, проворный.
[Закрыть] смельчаков и в прозе и в стихах,
Чувствительным сердцам и истине я в страх
В острог Илимский еду.
В этих семи строках просто и сильно высказано утверждение, что он остался верен своим идеям, своему человеческому достоинству. Просто и сильно выражено осознание своей революционной роли.
Со дня на день Радищев откладывал свой отъезд из Тобольска, ссылаясь то на весеннюю распутицу, то на свое нездоровье, то на другие причины.
Он выехал только в июле, пробыв в Тобольске семь месяцев. Тобольский губернатор получил за это выговор. Как видно, из Петербурга зорко следили за каждым шагом Радищева…
Труден и долог путь по сибирской земле, по отрогам гор, через бурные реки, в глухой тайге. А навстречу шла ранняя осень. Нужно было спешить, чтобы до осенней распутицы добраться до Иркутска.
Вынужденное безделье начинало тяготить Радищева. Вторую зиму встречал он в пути.
8 октября 1791 года Радищев приехал в Иркутск.
«Дорога наша, – писал он отсюда Воронцову, – по причине худой погоды и нездоровья Елизаветы Васильевны, была скучна и тягостна… Я везде нахожу здесь человеколюбие, соболезнование, ласку… Когда меня отправят, мне неизвестно, и единственная дорога отсюда до Илимска есть река Ангара… Плыть оною должно вниз верст с 500. Потом через горы и леса 110 верст не иначе, как верхом. Зимою ездят по льду и через горы в санях…»
«Мы здесь живем, дожидаяся зимы, и ожидание мое сопряжено с немалою нетерпеливостью, для того что наскучило жить не на месте…»
Тысячи верст отделяли Радищева от родных мест.
Сибирская глушь, бездорожье держали его в плену крепче оков и стен тюрьмы. Десять лет, а может быть, и весь остаток жизни пройдет в этой суровой, пустынной стране.
«Признаюсь, что я имею некое отвращение подумать о моем в Илимске пребывании, – писал Радищев. – Я стараюсь себя уверить, что все равно, что жить там или жить в деревне; чувствование сильнее мысли, и я тревожусь. По счастию моему, я не один…»[111]111
Письмо Воронцову. Иркутск, 10 декабря 1791 года.
[Закрыть]
И в то же время могучая, необозримая Сибирь с ее плохо еще исследованными пространствами и неосвоенными богатствами не могла не захватить Радищева, горячо любившего родную русскую землю.








