Стихотворения. Поэмы
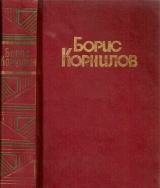
Текст книги "Стихотворения. Поэмы"
Автор книги: Борис Корнилов
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 10 страниц)
Поэмы
Триполье
Памяти комсомольцев,
павших смертью храбрых
в селе Триполье
Часть первая
Восстание
Тимофеевы
Пятый час.
Под навесом
снятся травы коровам,
пахнет степью и лесом,
холодком приднепровым.
Ветер, тучи развеяв,
с маху хлопает дверью:
– Встань, старик Тимофеев,
сполосни морду зверью.
Рукавицами стукни,
выпей чашку на кухне,
стань веселым-веселым,
закуси малосолом.
Что теперь ты намерен?
Глыбой двинулся мерин,
морду заревом облил —
не запятишь в оглобли.
За плечами туманы,
за туманами страны, —
там живут богатеи,
много наших лютее.
Что у нас?
Голодуха.
Подчистую все чисто,
в бога, в господа, в духа,
да еще коммунисты.
На громадные версты
хлеборобы не рады, —
всюду хлеборазверстки,
всюду продотряды.
Так ли, этак ли битым,
супротиву затеяв,
сын уходит к бандитам,
звать – Иван Тимофеев.
А старик Тимофеев —
сам он из богатеев.
Он стоит, озирая
приделы, сараи.
Все налажено, сбито
для богатого быта.
День богатого начат,
утя жирная крячет,
два огромные парня
в навозе батрачат.
Словно туша сомовья,
искушенье прямое,
тащит баба сыновья
в свинарник помой.
На хозяйстве великом
ни щели, ни пятен.
Сам хозяин, владыка,
наряден,
опрятен.
Сам он оспою вышит.
Поклонился иконам,
в морду мерину дышит
табаком, самогоном;
он хрипит, запрягая,
коммунистов ругая.
А хозяйка за старым
пышет гневом и жаром:
– Заскучал за базаром?
– Заскучал за базаром…
– Дурень! —
лается баба,
корчит рожу овечью…
– Постыдился хотя ба…
– Отойди! Изувечу!
– Старый пьяница, боров…
– Дура!
– …дерево, камень!
И всего разговоров,
что махать кулаками!
Что ты купишь?
Куренок
нынче тыщарублевый…
Горсть орехов каленых,
да нажрешься до блева,
до безумья!..
И баба,
большая, седая,
закудахтала слабо,
до земли приседая.
В окнах звякнули стекла,
вышел парень.
Спросонья
молодою и теплой
красотою фасоня
и пыхтя папиросой,
свистнул:
– Видывал шалых…
Привезем бабе роскошь —
пуховой полушалок…
Хватит вам барабанить —
запрягайте, папаня!
Сдвинул на ухо шапку,
осторожен и ловок,
снес в телегу охапку
маслянистых винтовок.
Мерин выкинул ногу —
крикнул мерину: «Балуй!..»
Выпил, крякая, малый
посошок на дорогу.
Тимофеев берет на бога
Дым.
Навозное тесто,
вонь жирна и густа.
Огорожено место
для продажи скота.
И над этой квашней,
золотой и сырой,
встало солнце сплошной
неприкрытой дырой.
Брызжут гривами кони,
рев стоит до небес;
бык идет в миллионе,
полтора – жеребец.
Рубль скользит небосклоном
к маленьким миллионам.
Рвется денежка злая
в эту кашу, звонка,
с головой покрывая
жеребца и быка.
Но бычачья, густая
шкура дыбится злей,
конь хрипит, вырастая
из-под кучи рублей.
Костью дикой и острой
в пыль по горло забит,
блекнет некогда пестрый
миллион у копыт.
И на всю Украину,
словно горе густое,
била ругань в кровину
и во все пресвятое.
В чайной чайники стыли,
голубые, пустые.
Рыбой черной и жареной
несло от буфета…
Покрывались испариной шеи
синего цвета.
Терли шеи воловьи,
пили мутную радость —
подходящий сословью
крестьянскому градус.
Приступая к беседе,
говорили с оглядкой:
– Что же.
Это.
Соседи?
Жить.
Сословью.
Не сладко.
Парень, крытый мерлушкой,
стукнул толстою кружкой,
вырос:
– Слово дозвольте! —
Глаз косил весело,
кольт на стол.
И на кольте
пальцы судорогой свело.
– Я – Иван Тимофеев
из деревни Халупы.
Мой папаня присутствует
вместе со мной.
Что вы стонете?
Глупо.
Нужен выход иной.
Я, Иван Тимофеев,
попрошу позволенья
под зеленое знамя
собирать населенье.
К атаману Зеленому
вывести строем
хлеборобов на битву
и – дуй до горы!
Получай по винтовке!
Будь, зараза, героем!
Не желаем коммуний
и прочей муры.
Мы ходили до бога.
Бог до нашего брата
снизойдет нынче ночью
за нашим столом.
Каждый хутор до бога
посылай делегата —
все послухаем бога —
нельзя без того.
Он нам скажет решительно,
надо ль, не надо ль
гнусно гибнуть под игом
и тухнуть, как падаль,
Либо скажет,
что, горло и сердце
калеча,
под гремящими пулями
вырасти… выстой…
Отряхни, Украина,
отягченные плечи
красной вошью
и мерзостью красной…
нечистой…
Я закончил!
И парень
поперхнулся, как злостью,
золотым самогоном
и щучьею костью.
Вечер шел лиловатый.
Встали все за столом
и сказали:
– Ну что же?
– Пожалуй…
– Сосватай…
– Мы послухаем бога…
– Нельзя без того…
Бог
Бог сидел на скамейке,
чинно с блюдечка чай пил…
Брови бога сияли
злыми крыльями чайки.
Двигал в сторону хмурой
бородою из пакли,
руки бога пропахли
рыбьей скользкою шкурой.
Хрупал сахар вприкуску,
и в поту,
и в жару,
ел гусиную гузку
золотую,
в жиру.
Он сидел непреклонно —
все застыли по краю,
а насчет самогона
молвил:
– Не потребляю…
Возведя к небу очи,
все шепнули:
– Нельзя им!
И поднялся хозяин
и сказал богу:
– Отче!
Отче, праведный боже,
поучи, посоветуй,
как прожить в жизни этой,
не вылазя из кожи?
На земле с нами пробыв,
укажи беспорядок…
Жúды в продотрядах
извели хлеборобов.
Жúды ходят с наганом,
дышат духом поганым,
ищут чистые зерна!
Ой, прижали как туго!
Про Исуса позорно
говорят без испуга.
Нам покой смертный вырыт,
путь к могиле короче.
Посоветуй нам, отче,
пожалей сирых сирот!..
Бог поднялся с иконой
в озлобление великом,
он в рубахе посконной,
подпоясанной лыком.
Все упали:
– Отец мой!
Ужас тихий и древний…
Бог мужицкий, известный,
из соседней деревни.
Там у бога в молельнях
всё иконы да ладан,
много девушек дельных
там работают ладом.
И в молельнях у бога
пышут ризы пожаром, —
богу девушек много
там работают даром.
Он стоял рыжей тучей,
бог сектантский, могучий.
Вечер двигался цвета
самоварного чада…
Бог сказал:
– Это, чадо,
преставление света.
Тяжко мне от обиды:
поругание, чадо, —
ведь явились из ада
коммунисты и жúды.
Запирай на засовы
хаты, уши и веки!
Схватят,
клеймы бесовы
выжгут на человеке.
И тогда все пропало:
не простит тебе боже
сатаны пятипалую
лапу на коже…
Бог завыл.
Над народом,
как над рухлядью серой,
встал он, рыжебородый,
темной силой и верой.
Слезы, кашель и насморк —
все прошло.
Зол, как прежде,
бог ревел:
– Бейте насмерть,
рушьте гадов и режьте!
Заряжайте обрезы,
отточите железы
и вперед непреклонно
с бомбой черной и круглой,
с атамана Зеленого
божьей хоругвой…
Гонец
Били в колокол,
песни выли…
Небо знойное пропоров,
сто кулацких взяли вилы,
середняцких сто дворов.
И зеленый лоскут, насажен
на рогатину, цвел, звеня,
и плясал от земли на сажень
золотистый кусок огня.
Вед Иван Тимофеев
страшную банду —
сто кулацких
и сто середняцких дворов,
увозили муку,
самогон
и дуранду,
уводили баранов, коней и коров.
Бедняки – те молчали,
царапая щеки,
тяжело поворачивая глаза,
и глядели, как дуло огнем на востоке,
занимались вовсю хутора и леса,
как шагали, ломая дорогу, быки
и огромные кони,
покидая село.
Но один оседлал коня
и на Киев
повернул его морду,
взлетая в седло.
Он качался в седле
и достигнул до света
убегающий город,
и в городе том
двухэтажный, партийного комитета,
широкоплечий,
приземистый дом.
Секретарь приподнялся,
шумя листами,
и навстречу ему,
седоватый, как лен,
прохрипел:
– Тимофеевы… гады… восстанье…
Поводите коня —
потому запален!..
И слова сквозь дыхание
в мокром клекоте
прибивались
и, сослепу рушась на локти,
подползали дрожа,
тычась носиком мокрым,
к ножкам стульев,
столов,
к подоконникам,
к окнам.
Все забыть,
и, бескостно сползая книзу,
в темноте, огоньком синеватым горя,
разглядеть —
высоко идет по карнизу
и срывается слово секретаря:
– …мобилизация коммунистов…
…по исполнении оповестите меня…
…комсомол…
…караулы, пожалуйста, выставь…
…накормите гонца…
…поводите коня…
Он ушел, секретарь.
Только, будто на ладан,
тяжко дышит гонец,
позабыв про беду,
ходят песни поротно,
бьют о камень прикладом,
свищет ветер,
и водят коня в поводу.
Описание банды Зеленого
Часть вторая
Табор тысячу оглобель
поднял к небу
в синий день.
За Зеленым ходит свита,
о каменья – гром копыта…
И, нарочно ли,
по злобе ль,
крыши сбиты набекрень.
Все к Зеленому с поклоном —
почесть робкая низка…
Адъютанты за Зеленым
ходят в шелковых носках.
Сам Зеленый пышен,
ярок,
выпивает не спеша
до обеда десять чарок,
за обедом два ковша.
На телегу ставят кресло,
жбан ведерный у локтя —
атаманья туша влезла
на сидение, пыхтя.
Он горит зеленой формой,
как хоругвой боевой…
На груди его отличья,
под ногами шкура бычья,
по бокам его отборный
охранение-конвой.
Он на шкуру ставит ногу,
и псаломщик на низу
похвалу ему, как богу,
произносит наизусть.
Атаман глядит сурово,
он к войскам имеет слово:
– Вы, бойцы мои лихие,
необъятны и смелы,
потому что вы – стихия,
словно море и орлы.
На Москву пойдем, паскуду
победим —
приказ таков…
Губернаторами всюду
мы посадим мужиков.
От Москвы и до Ростова
водки некуда девать —
наша армия Христова
будет петь и воевать.
Это не великий пост вам,
не узилище,
не гроб,
и под нашим руководством
не погибнет хлебороб.
Я закончил.
И ревом
он увенчан, как славой.
Жалит глазом суровым
и дергает бровью…
На телегу влезает
некто робкий, плюгавый,
приседает, как заяц,
атаману, сословью.
Он одернул зеленый
вице-полупердончик,
показал запыленный
языка легкий кончик,
взвизгнул, к шуму приладясь:
– Вы – живительный кладезь,
переполненный гневом
священным, от бога…
В предстоящей борьбе вам
мы, эсеры, – помога…
И от края до края
табор пьяный и пестрый.
Воют кони, пылая
кровью чистой и острой…
Анархист покрыт поповой
шляпою широкополой.
Анархисты пьянее
пьяного Ноя…
Вышла песня.
За нею
ходят стеною.
– Оплот всея России,
анархия идет.
Ребята, не надо властей!
И черепа на знамени
облупленный рот
над белым крестом из костей.
Погибла тоска,
Россия в дыму,
гуляет Москва,
Ростов-на-Дону.
Я скоро погибну
в развале ночей.
И рухну, темнея от злости,
и белый, слюнявый
объест меня червь, —
оставит лишь череп да кости.
Я под ноги милой моей попаду
омытою костью нагою, —
она не узнает меня на ходу
и череп отбросит ногою.
Я песни певал,
молодой, холостой,
до жизни особенно жаден…
Теперь же я в землю
гляжу пустотой
глазных отшлифованных впадин.
Зачем же рубился я,
сталью звеня,
зачем полюбил тебя, банда?
Одна мне утеха,
что после меня
останется череп…
И – амба!
Гибель Второго Киевского полка
Второй Киевский
Ни пристанища, ни крова —
пыль стоит до потолка,
и темны пути Второго
Киевского полка.
Комиссар сидит на чалом
жеребце, зимы лютей,
под его крутым началом
больше тысячи людей.
Комиссар сидит свирепо
на подтянутом коне,
бомба круглая, как репа,
повисает на ремне.
А за ним идут поротно
люди, сбитые в кусок,
виснут алые полотна,
бьют копыта о песок.
Люди разные по росту,
по характеру
и просто
люди разные на глаз, —
им тоска сдавила плечи…
Хорошо, что скоро вечер,
пыль немного улеглась.
Люди темные, как колья…
И одна из этих рот —
все из вольницы Григорьева
подобранный народ.
Им ли пойманных бандитов
из наганов ночью кокать?
И не лучше ли, как раньше,
сабли выкинув со свистом,
конницей по коммунистам?
Кто поднимется на локоть
ломаным,
но недобитым —
бей в лицо его копытом!..
Вот она, душа лесная,
неразмыканное горе,
чаща черная,
туман.
Кто ведет их?
Я не знаю:
комиссар или Григорьев —
пьяный в доску атаман?
Шли они, мобилизованные
губвоенкоматом, —
из окрестностей —
из Киевщины, —
молоды,
темны…
Может, где завоют битвы, —
ихние отцы,
домá там,
новотельные коровы,
кабаны
и табуны?
Пчелы легкие над вишней,
что цветет красою пышной?
Парни в кованых тулупах,
от овчины горький дух,
прижимают девок глупых,
о любви мечтая вслух…
А в полку —
без бабы… вдовый…
Нет любовей, окромя
горя,
устали пудовой,
да колеса рвут,
гремя,
злую землю,
да седая
пыль легла на целый свет.
Воронье летит,
гадая:
будет ужин
или нет?
Комиссар сидит державой,
темный,
каменный с лица,
шпорой тонкою и ржавой
погоняя жеребца.
А в полку за ним, нарядная,
трехрядная,
легка,
шла гармоника.
За ней
сто четырнадцать парней.
Сто парней, свободы полных,
с песней,
с кровью боевой,
каждый парень, как подсолнух,
гордо блещет головой.
Что им банда,
гайдамаки,
горе черное в пыли?
Вот и девушки, как маки,
беспокойно зацвели.
Комсомольские районы
вышли все почти подряд —
это в маузер патроны,
полный считанный заряд.
Это цвет организации,
одно большое имя,
поднимали в поднебесье
песню легкую одну.
Шли Аронова,
Ратманский
и гармоника за ними
на гражданскую войну.
А война глядит из каждой
темной хаты —
вся в боях…
Бьет на выбор,
мучит жаждой
и в колодцы сыплет яд.
Погляди ее, брюхату,
что для пули и ножа
хату каждую на хату
поднимает,
зло
визжа.
И не только на богатых
бедняки идут, строги,
и не только в разных хатах —
и в одной сидят враги.
Прилетела кособока.
Тут была
и тут была,
корневищами глубоко
в землю черную ушла
и орет:
– Назад вались-ка…
Шляпою синдикалиста
черепок покрыла свой.
А вдогонку свищет: стой!
Поздно ночью, по-за гумнам,
чтобы больше петь не мог,
обернет тебя безумным,
расстреляет под шумок.
Всколыхнется туча света
и уйдет совсем ко дну —
ваша песня не допета
про гражданскую войну.
«Ночи темны,
небо хмуро,
ни звезды на нем…
Кони двинули аллюром,
ходит гоголем Петлюра,
жито мнет конем.
Молодая, грозовая,
тонкою трубой
между Харьков —
Лозовая
ходит песня, созывая
конников на бой.
Впереди помято жито,
боевой огонь,
сабля свистнула сердито,
на передние копыта
перекован конь.
Впереди степные дали
и ковыль седа…
А коней мы оседлали.
Девки пели: не сюда ли?
Жалко, не сюда…
Больше милую не чаю
вызвать под окно.
Может, ночью по случаю
по дороге повстречаю
Нестора Махно.
Черной кровью изукрашу,
жеребцом сомну,
за порубанную в кашу,
за поруганную нашу
верную страну.
Будет кровью многогрешной
кончена война,
чтобы пела бы скворешней,
пахла ягодой черешней
наша сторона».
Первое известие
Красное знамя ветром набухло —
ветер тяжелый,
ветер густой…
Недалеко от местечка Обухова
он разносит команду: «Стой!»
Синим ветром земля налитая —
из-за ветра,
издалека,
восемь всадников, подлетая,
командира зовут полка.
Восемь всадников, избитых
ветром, падают с коней,
кони качаются на копытах, —
ветер дует еще сильней.
Командир с чахоточным свистом,
воздух глотая мокрым ртом,
шел навстречу кавалеристам,
ординарцы за ним гуртом.
И тишина.
И на целый на мир она.
Кавалеристы застыли в ряд…
Самый высокий рванулся:
– Смирно!
Так что в Обухове кавотряд…
И замолчал.
Тишина чужая,
но, совладав с тоской и бедой,
каменно вытянулся, продолжая:
– …вырезан бандою.
И молодой
саблей ветер рубя над собою,
падая,
воя:
– Сабли к бою!..
Конница лавою!..
– Пленных не брать!.. —
бился в пыли,
вставал на колени,
и клокотало в черной пене
страшное,
бешеное:
– Ать! Ать!
Ночь в Обухове
Хата стоит на реке, на Кубани,
тонкая пыль, тенето на стене,
черными мать пошевелит губами,
сына вспомянет, а сын на войне.
Небо бездонное, синее звездно,
облако – козий платок на луне,
выйдет жена и поплачет бесслезно,
мужа вспомянет, а муж на войне.
Много их бедных, от горя горбатых,
край и туманом, и кровью пропах,
их сыновья полегли
на Карпатах,
сгинули без вести,
в Польше пропав.
А на Кубани разбитая хата,
бревна повыпали,
ветер в пазы:
мимо казачка прокрячет, брюхата:
– Горько живут, уж никак не тузы?
Мимо казак,
чем хмурей, тем дородней:
– Жил тут чужой нам,
иногородний,
был беспокоен, от гордости беден,
ждали, когда попадет на беду,
бога не чтил, не ходил до обеден,
взяли в четырнадцатом году
к чертовой матери.
Верно, убили!
Душная тлеет земля на глазах.
Может быть, скачет в раю на кобыле,
хвастает богу, что я-де казак.
В хате же этой на два окна
только старуха его да жена, —
так проворчит и уходит дородный,
черною спесью надут благородной.
Только ошибся: сперва по Карпатам
иногородний под пули ходил,
после сыпного он стал
хриповатым,
сел на коня
и летел без удил.
Звали его Припадочным Ваней,
был он высок,
перекошен,
зобат,
был он известен злобой кабаньей,
страшною рубкой
и трубкой в зубах.
В мягком седле,
по-татарски свисая
набок, —
и эта посадка косая
и на кубанке —
витой позумент…
Выше затылка мерцает подкова:
конь —
за такого коня дорогого
даже бы девушку не взял взамен, —
всё приглянулось Ратманскому.
Тут же и подружились.
Войдя в тишину,
песнею дружбу стянули потуже, —
горькая песня
была, про жену.
Ваня сказал:
– Начиная с германца,
я не певал распрекрасней романса.
Как запою,
так припомню свою…
Будто бы в бархате вся и в батисте,
шелковый пояс,
парчовые кисти —
я перед ней на коленях стою.
Ой, постарела, наверно, солдатка,
легкая девичья сгибла повадка…
Я же, конечно, военный,
неверный —
чуть потемнело —
к другой на постой…
Этак и ты, полагаю, наверно?
Миша смеялся:
– А я холостой…
Ночью в Обухове, на сеновале,
Миша рассказывал все о себе —
как горевали
и как воевали,
как о своей не радели судьбе.
Киев наряжен в пунцовые маки,
в розовых вишнях столица была, —
Киевом с визгом летят гайдамаки,
кони гремят
и свистят шомпола.
В этом разгуле, разбое, размахе
пуля тяжелая из-за угла, —
душною шкурой бараньей папахи
полночь растерзанная легла.
Миша не ищет оружья простого,
жители страхом зажаты в домах,
клейстера банка
и связка листовок…
Утром по улицам рвет гайдамак
слово – оружие наше…
Но рук вам
ваших не хватит,
отъявленный враг…
Бьет гайдамак
шомполами по буквам,
слово опять загоняя в мрак.
Эта война – велика, многоглава:
партия,
Киев
и конная лава,
ночь,
типография,
созыв на бой,
Миши Ратманского школа
и слава —
голос тяжелый
и ноги трубой.
Ваня молчал.
А внизу на постое
кони ведро громыхали пустое,
кони жевали ромашку во сне,
теплый навоз поднимался на воздух,
и облачка на украинских звездах
напоминали о легкой весне.
Подступы к Триполью
Бой катился к Триполью
со всей перестрелкой
От Обухова – всё
перебежкою мелкой,
Плутая, —
тупая
от горки к лощине
банда шла, отступая,
крестясь, матерщиня.
Сам Зеленый с телеги
командовал ими:
– Наступайте, родимые,
водкою вымою…
А один засмеялся
и плюнул со злобой:
– Наступайте…
Поди попытайся,
попробуй…
А один повалился,
руки раскинув,
у пылающих,
дымом дышащих овинов.
Он хрипел:
– Одолела
сила красная, бесья,
отступай в чернолесье,
отступай в чернолесье…
И уже начинались пожары в Триполье.
Огневые вставали, пыхтя, петухи, —
старики уползали червями в подполье,
в сено,
часто чихая от едкой трухи.
А погода-красавица,
вся золотая,
лисьей легкою шубой
покрыла поля…
Птаха, камнем из потной травы
вылетая,
встала около солнца,
крылом шевеля.
Ей казались клинки
серебристой травой,
колыхаемой ветром,
а пуля – жуком,
трупы в черных жупанах —
землей неживою,
и не стоило ей тосковать ни о ком.
А внизу клокотали безумные кони,
задыхались,
взрывались и гасли костры…
И Ратманский с Припадочным
из-под ладони
на пустое Триполье
глядели с горы.
Воронье гнездо – Триполье
Сверху видно – собрание
крыш невеселых, —
это черные гнезда,
вороний поселок.
Улетели хозяева
небом белесым,
хрипло каркая в зарево,
пали за лесом.
Там при лагере встали
у них часовые
на чешуйками крытые
лапы кривые.
И стоит с разговором,
с печалью,
со злобой
при оружии ворон —
часовой гололобый.
Он стоит – изваянье —
и думает с болью,
что родное Триполье
расположено в яме.
В яму с гор каменистых
бьет волна коммунистов.
И в Триполье с музыкой,
седые от пыли,
с песней многоязыкой
комиссары вступили.
При ремнях, при наганах…
Бесовские клички…
Мухи черные в рамах
отложили яички.
И со злости, от боли,
от мух ядовитых
запалили Триполье —
и надо давить их.
И у ворона сердце —
горя полная гиря…
Он закаркал, огромные
перья топыря.
Он к вороньим своим
обращается стаям:
– Что на месте стоим,
выжидаем?
Вертаем!..
И они повернули к Триполью.
Смерть Миши Ратманского
Льется банда в прорыв непрерывно.
На правом
фланге красноармейцев
смятение, вой…
Пуля острая в морду
летящим оравам
не удержит.
Приходится лечь головой.
Это черная гибель
приходит расплатой,
и на зло отвечает
огромное зло…
И уже с панихидою
дьякон кудлатый
на телеге Зеленого
скачет в село.
А в селе из щелей,
из гнилого подполья
лезут вилы,
скрипит острие топора.
Вот оно —
озверелое вышло Триполье —
старики, и старухи, и дети:
– Ура!
Наступает и давит семьею единой,
борода из коневьего волоса зла,
так и кажется —
липкою паутиной
все лицо затуманила и оплела.
А бандиты стоят палачами на плахе,
с топорами —
система убоя проста:
рвут рубахи с плеча,
и спадают рубахи.
– Гибни, кто без нательного
ходит креста!
И Припадочный рвет:
– Кровь по капельке выдой,
мне не страшны погибель
и вострый топор…
И кричит Михаилу:
– Михайло, не выдай…
Миша пулю за пулей
с колена в упор.
Он высок и красив,
отнесен подбородок
со злобою влево,
а волос у лба
весь намок;
и огромный клокочущий продых,
и опять по бандиту
с колена стрельба.
Но уже надвигается
тысяча хриплых:
– Ничего, попадешься…
– Сурьезный сынок…
Изумрудное солнце, из облака выплыв,
круглой бомбой над Мишею занесено.
Не хватает патронов.
Последние восемь,
восемь душ волосатых и черных губя.
И встает полусонный,
винтовкою оземь:
– Я не сдамся бандиту… —
стреляет в себя.
И Припадочный саблей врубается с маху
в тучу синих жупанов,
густых шаровар —
на усатого зверя похож росомаху,
черной булькая кровью:
– За Мишу, товар…
И упал.
Затрубила погибель трубою,
сабля тонкой звездою
мелькнула вдали,
голова его с поднятою губою
все катилась пинками
в грязи и в пыли.
Ночью пленных вели по Триполью,
играя на гармониках «Яблочко».
А впереди
шел плясун,
от веселья и тьмы помирая,
и висели часы у него на груди,
как медали.
Гуляло Триполье до света,
всё рвало и метало,
гудело струной…
И разгулье тяжелое, мутное это,
водка с бабой,
тогда называлось войной.
Часть третья
Пять шагов вперед
Коммунисты идут вперед
Утро.
Смазано небо
зарею, как жиром…
И на улице пленных
равняют ранжиром.
Вдоль по фронту, не сыто
оружьем играя,
ходит батько и свита
от края до края.
Ходит молча, ни слова,
не ругаясь, не спорясь, —
глаза черного, злого
прищурена прорезь.
Атаман опоясан
изумрудною лентой.
Перед ним секретарь
изогнулся паяцем.
Изогнулся и скалит
кариозные зубы, —
из кармана его
выливается шкалик.
Атаман, замечая,
читает рацею:
– Это льется с какою,
спрошу тебя, целью?
Водка – это не чай,
заткни ее пробкой…
Секретарь затыкает,
смущенный и робкий.
На ходу поминая
и бога, и маму,
молодой Тимофеев
идет к атаману,
полфунтовой подковой
траву приминая;
шита ниткой шелкóвой
рубаха льняная.
Сапоги его смазаны
салом и дегтем,
петушиным украшены
выгнутым когтем.
Коготь бьет словно в бубен,
сыплет звон за спиною:
– Долго чикаться будем
с такою шпаною?
И тяжелые руки,
перстнями расшиты,
разорвали молчанье,
и выбросил рот:
– Пять шагов,
коммунисты,
кацапы
и жúды!..
Коммунисты,
вперед
выходите вперед!..
Ой, немного осталось,
ребята,
до смерти…
Пять шагов до могилы,
ребята,
отмерьте!
Вот она перед вами,
С воем гиеньим,
с окончанием жизни,
с распадом,
с гниеньем.
Что за нею?
Не видно…
Ни сердцу, ни глазу…
Так прощайте ж,
весна, и леса, и снегú!..
И шагнули сто двадцать…
Товарищи…
Сразу…
Начиная – товарищи —
с левой ноги.
Так выходят на бой.
За плечами – знамена,
сабель чистое, синее
полукольцо.
Так выходят,
кто знает врагов
поименно…
Поименно —
не то чтобы только в лицо.
Так выходят на битву —
не ради трофеев,
сладкой жизни, любви
и густого вина…
И назад отступает
молодой Тимофеев, —
руки налиты страхом,
нога сведена.
У Зеленого в ухе завяли монисты,
штаб попятился вместе,
багров и усат…
Пять шагов, коммунисты.
Вперед, коммунисты…
И назад отступают бандиты…
Назад.
Измена
И последнее солнце
стоит над базаром,
и выходят вперед
командир с комиссаром.
Щеки, крытые прахом,
лиловые
в страхе,
ноги, гнутые страхом,
худые папахи.
Бело тело скукожено,
с разумом – худо,
в галифе поналожено
сраму с полпуда.
Русый волос ладонью
пригладивши гладкой,
командир поперхнулся
и молвил с оглядкой:
– Подведите к начальнику,
добрые люди,
я скажу, где зарыты
замки от орудий…
И стояла над ними
с душой захолонувшей
Революция,
матерью нашей скорбя,
что таких прокормила
с любовью
гаденышей,
отрывая последний кусок от себя.
И ее утешая —
родную,
больную, —
Шейнин
злобой в один задыхается дых:
– Трусы,
сволочь,
такого позора миную,
честной смерти учитесь
у нас, молодых.
Даже банде – и той
стало весело дядям,
целой тысяче хриплых
горластых дворов:
– Что же?
Этих вояк
в сарафаны нарядим,
будут с бабой доить
новотельных коров…
– Так что нюхает нос-от,
а воздух несвежий:
комиссаров проносит
болезнью медвежьей…
– Разве это начальники?
Гадово семя…
И прекрасное солнце
цвело надо всеми.
Над морями.
Над пахотой
и надо рвами,
над лесами
сказанья шумели ветра,
что бесславным – ползти
дальше срока червями,
а бессмертным —
осталось прожить до утра.
Допрос
В перекошенной хатке
на столе беспорядки.
Пиво пенное в кадке,
огуречные грядки
и пузатой редиски
хвосты и огрызки.
Выпьют водки.
На закусь —
бок ощипанный рыбий…
Снова потчуют:
– Накось,
без дыхания выпей!
Так сидят под иконой
штаб
и батько Зеленый.
Пьет штабная квартира,
вся косая, хромая…
Входят два конвоира,
папахи ломая.
– Так что, батька, зацапав
штук десяток за космы,
привели на допрос мы
поганых кацапов…
Атаман поднимается:
– Очень приятно!
По лицу его ползают мокрые пятна.
Поднимается дьякон
ободранным лешим:
– Потолкуем
и душеньку нашу потешим…
Комсомольцы идут
стопудовой стеною,
руки схвачены проволокой
за спиною.
– Говорите, гадюки,
последнее слово,
все как есть
говорить представляем самим…
Здесь и поп, и приход,
и могила готова;
похороним,
поплачем
и справим помин…
Но молчат комсомольцы,
локоть об локоть стоя
и тяжелые черные губы жуя…
Тишина.
Только злое дыханье густое
и шуршащая
рваных рубах чешуя.
И о чем они думают?
Нет, не о мокрой
безымянной могиле,
что с разных сторон
вся укрыта
осеннею лиственной охрой
и окаркана горькою скорбью ворон.
Восемнадцатилетние парни —
могли ли
биться, падая наземь,
меняясь в лице?
Коммунисты не думают о могиле
как о все завершающем
страшном конце.
Может, их понесут
с фонарем и лопатой,
закидают землею,
подошвой примнут, —
славно дело закончено
в десять минут,
но не с ними,
а только с могилой горбатой.
Коммунисты живут,
чтобы с боем,
с баяном
чернолесьем,
болотами,
балкой,
бурьяном
уводить революцию дальше свою
на тачанках,
на седлах, обшитых сафьяном,
погибая во имя победы в бою.
– Онемели?
Но только молчанье – не выход.
Ну, которые слева —
еврейские…
вы хоть…
Вы – идейные!
Вас не равняем со всеми:
Украину сосали,
поганое семя.
Все равно вас потопим
с клеймом на сусалах:
«Это христопродавец» —
так будет занятней…
Агитируйте там
водяных и русалок —
преходящее ваше, собаки, занятье.
И выходит один —
ни молений, ни крика…
Только парню такому
могила тесна;
говорит он,
и страшно, когда не укрыта
оголенная
черной губою
десна.
– Не развяжете рук
перебитых,
опухших,
не скажу, как подмога
несется в дыму…
Сколько войска и сабель,
тачанок и пушек…
И Зеленый хрипит:
– Развяжите ему!
Парень встал, не теряя
прекрасного шика,
рукавом утирая
изломанный рот…
Перед ним – Украина
цветами расшита,
золоченые дыни,
тяжелое жито;
он прощается с нею,
выходит вперед.
– Перед смертью
ответ окончательный вот наш:
получи…
И, огромною кошкой присев,
бьет Зеленого диким ударом наотмашь
и бросается к горлу
и душит при всех.
Заскорузлые пальцы
все туже и туже…
Но уже на него
адъютантов гора, —
арестованных в угол загнали
и тут же
в кучу пулю за пулей
часа полтора.
Конец Триполья
У деревни Халупы,
обрывист, возвышен,
камнем ломаным выложен
берег до дна.
Небо крашено соком
растоптанных вишен,
может, час, или два,
или три до темна.
Машет облака сивая
старая грива
над водой,
над горой,
над прибрежным песком,
и ведут комсомольцев
к Днепру до обрыва,
и идут комсомольцы
к обрыву гуськом.
Подошли, умирая —
слюнявой дырой
дышит черная, злая
вода под горой,
Как не хочется смерть
принимать от бандита…
Вяжут по двое проволокой ребят.
Раз последний взглянуть и услышать:
сердито
мускулистые
длинные сучья скрипят.
Эти руки достанут еще атамана,
занося кулаков отлитые пуды,
чтобы бросить туда же,
в дыханье тумана,
во гниющую жирную пропасть воды.
Это вся Украина
в печали великой
приподнимется, встанет
и дубом, и липой,
чтобы мстить
за свою молодежь,
за породу
золотую, свою,
что погибли смелы,
у деревни Халупы,
покиданы в воду
с этой страшной,
тяжелой
и дикой скалы.
Тяжело умирать,
а особенно смолоду,
додышать бы,
дожить бы
минуту одну,
но вдогонку летят
пули, шмякая о воду,
добивая,
навеки пуская ко дну.
И глотает вода комсомольцев.
И Киев
сиротеет.
В садах постареет седых.
И какие нам песни придумать…
Какие
о погибели наших
друзей молодых?
Чтобы каждому парню,
до боли знакома,
про победу бы пела,
про смерть,
про бои —
от райкома бы легкая шла
до райкома,
и райкомы снимали бы
шапки свои.
Чтобы видели всё —
как разгулья лесного,
чернолесья тяжелого свищет беда,
как расстрелянный Дымерец тонет
и снова,
задыхаясь, Фастовского
сносит вода.
Он спасется.
Но сколько лежит по могилам
молодых!
Не сочтешь, не узнаешь вовек.
И скольких затянуло
расплавленным илом
наших старых, неверных
с притоками рек.
А над ними – туман
и гулянье сомовье,
плачут липы горячею
чистой росой,
и на месте Триполья
село Комсомолье
молодою и новой
бушует красой.
И опять Украина
цветами расшита.
молодое лелеет
любимое жито.
Парень – ласковый друг —
обнимает товарку,
золотую антоновку
с песней трясут.
И колхозы к свиному
густому приварку
караваи пшеничного хлеба несут.
Но гуляют,
покрытые волчьею шкурой,
за республику нашу
бои впереди.
Молодой Тимофеев
обернется Петлюрой,
атаманом Зеленым,
того и гляди.
Он опять зашумел,
загулял,
заелозил —
атаман…
Украина,
уйди от беды…
И тогда комсомольцы,
винтовки из козел
вынимая,
тяжелые сдвоят ряды.
Мы еще не забыли
пороха запах,
мы еще разбираемся
в наших врагах,
чтобы снова Триполье
не встало на лапах,
на звериных,
лохматых,
медвежьих ногах.
Конец атамана Зеленого
Вот и кончена песня,
нет дороги обману —
на Украине тесно,
и конец атаману.
И от Киева сила,
и от Харькова сила —
погуляли красиво,
атаману – могила.
По лесам да в тумане
ходит, прячется банда,
ходят при атамане
два его адъютанта.
У Максима Подковы
руки, ноги толковы,
сабля звякает бойко,
газыри костяные,
сапоги из опойка,
галифе шерстяные,
на черкеске багровой
серебро – украшенье…
Молодой,
чернобровый;
для девиц – утешенье.
У Максима Удода,
видно, та же порода.
Водки злой на изюме
(чтобы сладко и пьяно)
в общей выпито сумме,
может, пол-океана.
Ходит черною тучей
В коже мягкой, скрипучей.
Улыбнется щербатый
улыбкой кривою,
покачает чубатой
смоляной головою…
По нагану в кармане,
шелк зеленого банта —
ходят при атамане
два его адъютанта.
Атаман пьет неделю,
плачет голосом сучьим —
на спасенье надею
носит в сердце скрипучем.
Но от Харькова – сила,
Травиенко с отрядом,
что совсем некрасиво,
полагаю, что рядом
говорят хлеборобы:
– Будя, отвоевали…
Нет на гадов хворобы,
да и будет едва ли.
Атаман льет вторую,
говорит: «Я горюю»,
черной щелкает плетью.
Неприятность какая, —
переходит на третью,
адъютантов скликая.
– Вот, Удод и Подкова,
не найду я покоя.
Что придумать такого,
что бы было такое.
Вместе водку глушили,
воевали раз двести,
вместе, голуби, жили,
умирать надо вместе.
Холод смерти почуя,
заявляет Подкова:
– Атаман…
не хочу я
умирать бестолково.
Трое нас настоящих
кровь прольют, а не воду…
Схватим денежный ящик
на тачанку —
и ходу.
Если золота много,
у коней быстры ноги, —
нам открыта дорога,
все четыре дороги…
Слышен голос второго,
молодого Максима:
– Всё равно нам хреново:
пуля,
петля,
осина…
Я за то, что Подкова,
лучше нету такого.
Тройка, вся вороная,
гонит, пену роняя.
Пристяжные – как крылья,
кровью грудь налитая,
свищет ярость кобылья,
из ноздрей вылетая.
Коренник запыленный.
Рвется тройка хрипящих, —
убегает Зеленый,
держит денежный ящик.
Где-то ходит в тумане
безголовая банда…
Только при атамане
два его адъютанта.
Тихо шепчет Подкова
Максиму Удоду:
– Что же в этом такого?
Кокнем тихо – и ходу.
Мы проделаем чисто
операцию эту —
на две равные части
мы поделим монету.
А в Париже закутим,
дом из мрамора купим,
дым идет из кармана,
порешим атамана.
И догнала смешная
смерть атамана —
на затылке сплошная
алая рана.
Рухнул, землю царапая,
темной дергая бровью.
Куртка синяя, драповая
грязной крашена кровью.
Умер смертью поганою —
вот погибель плохая!
Пляшут мухи над раною,
веселясь
и порхая.
На губах его черных
сохнет белая пенка.
И рабочих из Киева
в бой повел Травиенко.
Вот и кончена песня, —
нет дороги обману, —
и тепло,
и не тесно,
и конец атаману.
1933–1934








