Стихотворения. Поэмы
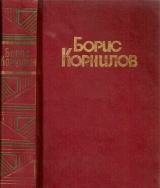
Текст книги "Стихотворения. Поэмы"
Автор книги: Борис Корнилов
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 10 страниц)
Котовский (Из поэмы)
Бессарабия, родина, мама.
Кишиневский уезд,
беднота и тюрьма
о тебе вспоминают упрямо,
через тюрьмы и аресты
прямо
ты прошел, словно буря сама.
Пусть тебя караулит доносчик,
надзиратели, сволочи, злы,
и смеются: попался, сыночек…
И, ржавея, гремят кандалы.
Ты, в глаза усмехнувшийся горю,
говоришь каторжанам-друзьям,
как помещики мучают, порют,
на конюшне терзают крестьян.
Ты рассказываешь про горе,
руки тянутся сразу к ножам.
Ты, огромный,
Котовский Григорий,
под начало берешь каторжан.
Избирают тебя атаманом
все отчаянные подряд, —
и пошли по ночам,
по туманам, —
твой – Котовского —
первый отряд,
и, могилу несчастиям вырыв,
зная —
бедным невмоготу,
ты деньгами панов и банкиров
одаряешь кругом бедноту.
Пятый год…
Это страх и смятенье
для помещиков,
вызов на бой.
Пугачева и Разина тени,
как легенды, летят за тобой.
Пятый год…
На засовы и ставни
запирается пан по домам,
и при слове «Котовский»
исправник задрожит и кричит:
– Атаман!
Все князья собираются вместе,
кое-где поднял вилы вассал…
Пятый год —
и тогда полицмейстер
так приметы твои описал:
«Про наружность – она молодая,
рослый,
якобы с доброй душой,
заикается,
но обладает
он ораторской силой большой.
И еще довожу настоящим —
к сожаленью, не в наших руках…
Симпатичен,
умен
и изящен,
говорит на пяти языках».
Где, отходную пану прокаркав,
сивый ворон летит в полутьме,
где жандармы,
пожары фольварков,
где мужик сам себе на уме,
где нужда в постоянной защите,
где расплата кнутом за труды,
там Григорий Котовский…
Ищите
там Котовского всюду следы.
Год шестой.
На одесском вокзале
конвоиры примкнули штыки,
опознали его —
и связали —
и на каторгу,
в рудники.
Много стен
и высоких и прочных,
за стеною —
болото,
тайга,
арестант-каторжаанин,
бессрочник,
ходит-думает:
«Надо в бега».
Скучно в шахте сырой молодому,
ходит-думает,
темный и злой:
«Хватит все-таки,
двину до дому —
семь годов просидел под землей».
И, отважный из самых отважных,
он однажды решился,
и вот
каторжанин сбежал.
Только стражник
в небо мучеником плывет.
Как ему полагалось по чину,
кровью грязною снег замочил,
принял ангельскую кончину
и на веки веков опочил.
А Котовский тайгою звериной
двадцать суток без устали шел,
был сугроб ему на ночь периной,
бел и холоден,
мягок,
тяжел.
Выли волки протяжно и робко,
но костер – замечательный страж.
Только сахар
и спичек коробка —
весь его арестантский багаж.
Бездорожье,
безмолвье мороза,
заморожено все добела,
на сибирском морозе береза,
хоть сильна,
да и то померла.
Где от холода схорониться?
Звери,
голод,
мороз,
воронье.
Но монгольская близко граница,
и Котовский дошел до нее.
Это силы и смелости проба,
все пошло как по маслу
на лад,
арестантская сброшена роба —
коты рваные,
серый халат.
…………
На свободе,
но черная,
злая,
встала туч грозовая стена,
и стена закружилась, пылая, —
год четырнадцатый.
Война.
<1936>
Дети
Припоминаю лес, кустарник,
незабываемый досель,
увеселенья дней базарных —
гармонию и карусель.
Как ворот у рубахи вышит —
звездою,
гладью
и крестом,
как кони пляшут,
кони пышут
и злятся на лугу пустом.
Мы бегали с бумажным змеем,
и учит плавать нас река,
еще бессильная рука,
и ничего мы не умеем.
Еще страшны пути земные,
лицо холодное луны,
еще для нас
часы стенные
великой мудрости полны.
Еще веселье и забава,
и сенокос,
и бороньба,
но все же в голову запало,
что вот – у каждого судьба.
Что будет впереди, как в сказке, —
один индейцем,
а другой —
пиратом в шелковой повязке,
с простреленной в бою ногой.
Так мы растем.
Но по-иному
другие годы говорят:
лет восемнадцати из дому
уходим, смелые, подряд.
И вот уже под Петербургом
любуйся тучею сырой,
довольствуйся одним окурком
заместо ужина порой.
Глотай туман зеленый с дымом
и торопись ко сну скорей,
и радуйся таким любимым
посылкам наших матерей.
А дни идут.
Уже не дети,
прошли три лета,
три зимы,
уже по-новому на свете
воспринимаем вещи мы.
Позабываем бор сосновый,
реку
и золото осин,
и скоро десятифунтовый
у самого родится сын.
Он подрастет, горяч и звонок,
но где-то есть
при свете дня,
кто говорит, что «мой ребенок»
про бородатого меня.
Я их письмом не побалую
про непонятное свое.
Вот так и ходит вкруговую
мое большое бытие.
Измерен весь земной участок,
и я, волнуясь и скорбя,
уверен, что и мне не часто
напишет сын мой про себя.
<1936>
Испания
Я иду, меня послали
сквозь войны свистящий град,
через горы
прямо к славе
знаменитых баррикад.
Все в дороге незнакомо,
но иду неутомимо
мимо сломанного дола,
мимо боевого дыма.
Он, подобный трупной мухе,
через час уйдет назад.
На его лиловом брюхе
бомбы круглые висят.
Он летает над Мадридом.
Я прицелился в него,
даже шепотом не выдам
зла и горя моего.
О свобода,
наша слава,
наших песен колыбель —
эта гнойная отрава
прилетела не к тебе ль?
Стервенея и воняя,
гадя,
заживо гния,
продавая,
изменяя, —
то ворона,
то змея.
Ночь пришла…
Республиканцы
отдыхают до утра.
Подхожу я к Санчо Панса,
с ним прилягу у костра.
Санчо прячется от ветра.
Санчо греется в дыму,
Сервантес де Сааведра
вспоминается ему.
И идет гроза по людям —
что теперь довольно!
Впредь
на коленях жить не будем —
лучше стоя умереть.
Я прошу у Санчо Панса —
он в десятый раз опять
мне расскажет, что испанцы
не желают умирать.
Что за нами
наши дети
тоже выстроились в ряд,
что сегодня на планете
по-испански говорят.
<1936>
Чиж
За садовой глухой оградой
ты запрятался —
серый чиж…
Ты хоть песней меня порадуй.
Почему, дорогой, молчишь?
Вот пришел я с тобой проститься,
и приветливый
и земной,
в легком платье своем из ситца
как живая передо мной.
Неужели же всё насмарку?..
Даже в памяти не сбережем?..
Эту девушку и товарку
называли всегда чижом.
За веселье, что удалось ей…
Ради молодости земли
кос ее золотые колосья
мы от старости берегли.
Чтобы вроде льняной кудели
раньше времени не седели,
вместе с лентою заплелись,
небывалые, не секлись.
Помню волос этот покорный,
мановенье твоей руки,
как смородины дикой, черной
наедались мы у реки.
Только радостная, тускнея,
в замиранье,
в морозы,
в снег
наша осень ушла, а с нею
ты куда-то ушла навек.
Где ты —
в Киеве?
Иль в Ростове?
Ходишь плача или любя?
Платье ситцевое, простое
износилось ли у тебя?
Слезы темные
в горле комом,
вижу горести злой оскал…
Я по нашим местам знакомым,
как иголку, тебя искал.
От усталости вяли ноги,
безразличны кусты, цветы…
Может быть,
по другой дороге
проходила случайно ты?
Сколько песен от сердца отнял,
как тебя на свиданье звал!
Только всю про тебя сегодня
подноготную разузнал.
Мне тяжелые, злые были
рассказали в этом саду,
как учительницу убили
в девятьсот тридцатом году.
Мы нашли их,
убийц знаменитых,
то – смутители бедных умов
и владельцы железом крытых,
пятистенных
и в землю врытых
и обшитых тесом домов.
Кто до хрипи кричал на сходах:
– Это только наше, ничье…
Их теперь называют вот как,
злобно,
с яростью…
– Кулачье…
И теперь я наверно знаю —
ты лежала в гробу, бела, —
комсомольская,
волостная
вся ячейка за гробом шла.
Путь до кладбища был недолог,
но зато до безумья лют —
из берданок
и из двустволок
отдавали тебе салют.
Я стою на твоей могиле,
вспоминаю во тьме дрожа,
как чижей мы с тобой любили,
как любили тебя, чижа.
Беспримерного счастья ради
Всех девчат твоего села,
наших девушек в Ленинграде
гибель тяжкую приняла.
Молодая,
простая,
знаешь?
Я скажу тебе, не тая,
что улыбка у них такая ж,
как когда-то была твоя.
<1936>
Зоосад
Я его не из-за того ли
не забуду, что у него
оперение хвостовое,
как нарядное хвастовство.
Сколько их,
золотых и длинных,
перегнувшихся дугой…
Он у нас
изо всех павлинов
самый первый и дорогой.
И проходим мы мимо клеток,
где угрюмые звери лежат,
мимо старых
и однолеток,
и медведей,
и медвежат.
Мы повсюду идем, упрямо
и показываем друзьям:
льва,
пантеру,
гиппопотама,
надоедливых обезьян.
Мы проходим мимо бассейна,
мимо тихих,
унылых вод, —
в нем гусями вода усеяна
и утятами всех пород.
Хорошо нам по зоосаду
не спеша вчетвером пройти,
накопившуюся досаду
растерять на своем пути.
Позабыть обо всем —
о сплетнях,
презираемых меж людей,
встретить ловких,
десятилетних,
белобрысых наших детей.
Только с ними
давно друзья мы,
и понятно мне: почему…
Очень нравятся обезьяны
кучерявому,
вот тому.
А того называют Федей —
это буйная голова…
Он глядит на белых медведей,
может час
или, может, два.
Подрастут
и накопят силы —
до свиданья —
ищи-свищи…
Сапоги наденут,
бахилы,
прорезиненные плащи.
Через десять годов,
не боле,
этих некуда сил девать…
Будет Федя на ледоколе
младшим штурманом зимовать.
Наша молодость —
наши дети
(с каждым годом разлука скорей)
разойдутся по всей планете
поискать знакомых зверей.
Над просторами зоопарка,
где деревья растут подряд,
разливается солнце жарко,
птицы всякое говорят.
Уходить понемногу надо
от мечтаний и от зверей —
мы уходим из зоосада,
как из молодости своей.
<1936>
Ночные рассуждения
Ветер ходит по соломе.
За окном темным-темно,
К сожаленью, в этом доме
Перестали пить вино.
Гаснет лампа с керосином.
Дремлют гуси у пруда…
Почему пером гусиным
Не писал я никогда?
О подруге и о друге,
Сочинял бы про людей,
Про охоту на Ветлуге,
Про казацких лошадей.
О поступках,
О проступках
Ты, перо, само пиши,
Сам себя везде простукав,
Стал бы доктором души.
Ну, так нет…
Ночною тенью
Возвышаясь над столом,
Сочиняю сочиненья
Самопишущим пером.
Ветер ползает по стенам.
Может, спать давно пора?
Иностранная система
(«Паркер», что ли?)
У пера.
Тишина…
Сижу теперь я,
Неприятен и жесток.
Улетают гуси-перья
Косяками на восток.
И о чем они толкуют?
Удивительный народ…
Непонятную такую
Речь никто не разберет.
Может быть, про дом и лес мой,
Про собак – моих друзей?..
Все же было б интересно
Понимать язык гусей…
Тишина идет немая
По моей округе всей.
Я сижу, не понимая
Разговорчивых гусей.
<1936>
Молодой день
Потемневшей,
студеной водою
и лежалой травою не зря,
легкой осенью молодою
пахнет первое сентября.
Также умолотом, овином,
засыпающим лесом вдали —
этим сытым, неуловимым,
теплым запахом всей земли.
И заря не так загорелась,
потускнее теперь она.
Это осень,
сплошная зрелость,
ядра яблок,
мешки зерна.
Это дыни —
зеленое пузо,
или, может, не пузо —
спина
замечательного арбуза,
по-украински – кавуна.
Все довольны.
Все старше годом.
Пусть приходит мороз и снег —
к зимним яростным непогодам
приспособлен теперь человек.
Молодые поэты пишут
о начале своей зимы.
Что-де старость настанет скоро —
на висках уже седина…
Это осень житья людского,
непреклонно идет она.
Может, правда.
И вечер темный,
и дожди,
и туман, и тень…
Только есть
молодой,
огромный,
каждой осенью ясный день.
Он покрытый летним загаром,
в нем тюльпаны-цветы плывут,
этот день золотой недаром
всюду юношеским зовут.
Все знамена
красного цвета,
песня пьяная без вина —
это даже, друзья, не лето,
это радостная весна.
И налево идут
и направо.
Поглядите —
и там и тут,
на любовь и молодость право
отвоевывая, идут.
И в Германии,
и в Сибири,
громыхая – вперед, вперед —
в целом мире,
в тяжелом мире
этот день по земле идет.
Льется песня, звеня, простая
над полями,
лесами,
водой,
чтобы наша одна шестая
стала целою,
молодой.
Чтобы всюду были спокойны,
чтобы пакостные скорей
к черту сгинули
зло и войны —
порожденье слепых зверей!
А дорога лежит прямая,
по дороге идут легки,
в подтверждение поднимая
к небу властной рукой штыки.
Я опять подпевать им буду,
седину на виске забуду,
встану с ними в одном ряду.
И спокойный
и верный тоже —
мне от них отставать не след —
ничего, что они моложе,
дорогие,
на десять лет.
Я такое же право имею,
так же молодость мне дорога —
револьвер заряжать умею
и узнаю в лицо врага,
За полками идут колонны,
перестраиваясь в каре,
и по улицам Барселоны,
и в Париже,
и в Бухаре.
Песня в воздухе над водою,
над полями,
лесами, – не зря,
легкой осенью молодою
пахнет первое сентября.
<1936>
Разговор
Верно, пять часов утра,
не боле.
Я иду —
знакомые места…
Корабли и яхты на приколе,
и на набережной пустота.
Изумительный властитель трона
и властитель молодой судьбы —
Медный всадник
поднял першерона,
яростного, злого,
на дыбы.
Он, через реку коня бросая,
города любуется красой,
и висит нога его босая, —
холодно, наверное, босой!
Ветры дуют с оста или с веста,
всадник топчет медную змею…
Вот и вы пришли
на это место —
я вас моментально узнаю.
Коротко приветствие сказали,
замолчали,
сели покурить…
Александр Сергеевич,
нельзя ли
с вами по душам поговорить?
Теснотой и скукой не обижу:
набережная – огромный зал.
Вас таким,
тридцатилетним, вижу,
как тогда Кипренский написал.
И прекрасен,
и разнообразен,
мужество,
любовь
и торжество…
Вы простите —
может, я развязен?
Это – от смущенья моего!
Потому что по местам окрестным
от пяти утра и до шести
вы со мной —
с таким неинтересным —
соблаговолили провести.
Вы переживете бронзы тленье
и перемещение светил, —
первое свое стихотворенье
я планиде вашей посвятил.
И не только я,
а сотни, может,
в будущие грозы и бои
вам до бесконечия умножат
люди посвящения свои.
Звали вы от горя и обманов
в легкое и мудрое житье,
и Сергей Уваров
и Романов
получили все-таки свое.
Вы гуляли в царскосельских соснах —
молодые, светлые года, —
гибель всех потомков венценосных
вы предвидели еще тогда.
Пулями народ не переспоря,
им в Аничковом не поплясать!
Как они до Черного до моря
удирали —
трудно описать!
А за ними прочих вереница,
золотая рухлядь,
ерунда —
их теперь питает заграница,
вы не захотели бы туда!
Бьют часы уныло…
Посветало.
Просыпаются…
Поют гудки…
Вот и собеседника не стало —
чувствую пожатие руки.
Провожаю взглядом…
Виден слабо…
Милый мой,
неповторимый мой…
Я иду по Невскому от Штаба,
на Конюшенной сверну домой.
<1936>
Последняя дорога
Два с половиной пополудни…
Вздохнул и молвил: «Тяжело…»
И все —
И праздники и будни —
Отговорило,
Отошло,
Отгоревало,
Отлюбило,
Что дорого любому было,
И радовалось
И жило.
Прощание.
Молебен краткий,
Теперь ничем нельзя помочь —
Увозят Пушкина украдкой
Из Петербурга в эту ночь.
И скачет поезд погребальный
Через ухабы и сугроб;
В гробу лежит мертвец опальный
Рогожами укутан гроб.
Но многим кажется —
Всесильный
Теперь уже навеки ссыльный.
И он летит
К своей могиле,
Как будто гордый и живой —
Четыре факела чадили,
Три вороные зверя в мыле,
Кругом охрана и конвой.
Его боятся.
Из-за гроба,
Из государства тишины
И возмущение и злоба
Его, огромные, страшны.
И вот, пока на полустанках
Меняют лошадей спеша,
Стоят жандармы при останках,
Не опуская палаша.
А дальше – может, на столетье —
Лишь тишина монастыря,
Да отделенье это третье —
По повелению царя.
Но по России ходят слухи
Все злей,
Звончее и смелей,
Что не забыть такой разлуки
С потерей совести своей,
Что кровью не залить пожаров.
Пой, Революция!
Пылай!
Об этом не забудь, Уваров,
И знай, Романов Николай…
Какой мороз!
И сколько новых
Теней на землю полегли,
И в розвальни коней почтовых
Другую тройку запрягли.
И мчит от подлого людского
Лихая, свежая она…
Могила тихая у Пскова
К шести часам обнажена.
Все кончено. Устали кони,
Похоронили. Врыли крест.
А бог мерцает на иконе,
Как повелитель здешних мест,
Унылый, сморщенный,
Не зная,
Что эта злая старина,
Что эта робкая, лесная
Прекрасной будет сторона.
<1936>
Пирушка
Сегодня ты сызнова в Царском,
От жженки огонь к потолку,
Гуляешь и плачешь в гусарском
Лихом, забубенном полку.
В рассвете большом, полусонном
Ликует и бредит душа,
Разбужена громом и звоном
Бокала,
Стиха,
Палаша.
Сражений и славы искатель,
И думы всегда об одном —
И пьют за свободу,
И скатерть
Залита кровавым вином.
Не греет бутылка пустая,
Дым трубочный, легкий, змеист,
Пирушка звенит холостая,
Читает стихи лицеист.
Овеянный раннею славой
В рассвете своем дорогом,
Веселый,
Задорный,
Кудрявый…
И все замолчали кругом.
И видят – мечами хранимый,
В полуденном, ясном огне,
Огромною едет равниной
Руслан-богатырь на коне.
И новые, полные мести,
Сверкающие стихи, —
Россия – царево поместье —
Леса,
Пустыри,
Петухи.
И все несравненное это
Врывается в сладкий уют,
Качают гусары поэта
И славу поэту поют.
Запели большую, живую
И радостную от души,
Ликуя, идут вкруговую
Бокалы, стаканы, ковши.
Наполнена зала угаром,
И сон, усмиряющий вновь,
И лошади снятся гусарам,
И снится поэту любовь.
Осыпаны трубок золою,
Заснули они за столом…
А солнце,
Кипящее, злое,
Гуляет над Царским Селом.
<1936>
В селе Михайловском
Зима огромна,
Вечер долог,
И лень пошевелить рукой.
Содружество лохматых елок
Оберегает твой покой.
Порой метели заваруха,
Сугробы встали у реки,
Но вяжет нянюшка-старуха
На спицах мягкие чулки.
На поле ветер ходит вором,
Не греет слабое вино,
И одиночество, в котором
Тебе и тесно, и темно.
Опять виденья встали в ряд.
Закрой глаза.
И вот румяный
Онегин с Лариной Татьяной
Идут,
О чем-то говорят.
Прислушивайся к их беседе,
Они – сознайся, не таи —
Твои хорошие соседи
И собеседники твои.
Ты знаешь ихнюю дорогу,
Ты их придумал,
Вывел в свет.
И пишешь, затая тревогу:
«Роняет молча пистолет».
И сердце полыхает жаром,
Ты ясно чувствуешь: беда!
И скачешь на коне поджаром,
Не разбирая где, куда.
И конь храпит, с ветрами споря,
Темно,
И думы тяжелы,
Не ускакать тебе от горя,
От одиночества и мглы.
Ты вспоминаешь:
Песни были,
Ты позабыт в своей беде,
Одни товарищи в могиле,
Другие – неизвестно где.
Ты окружен зимой суровой,
Она страшна, невесела.
Изгнанник волею царевой,
Отшельник русского села.
Наступит вечер.
Няня вяжет.
И сумрак по углам встает.
Быть может, няня сказку скажет,
А может, песню запоет.
Но это что?
Он встал и слышит
Язык веселый бубенца,
Все ближе,
Перезвоном вышит,
И кони встали у крыльца.
Лихие кони прискакали
С далеким,
Дорогим,
Родным…
Кипит шампанское в бокале,
Сидит товарищ перед ним.
Светло от края и до края
И хорошо.
Погибла тьма,
И Пушкин, руку простирая,
Читает «Горе от ума».
Через пространство тьмы и света,
Через простор,
Через уют
Два Александра,
Два поэта,
Друг другу руки подают.
А ночи занавес опущен,
Воспоминанья встали в ряд.
Сидят два друга,
Пушкин, Пущин,
И свечи полымем горят.
Пугает страхами лесными
Страна, ушедшая во тьму,
Незримый Грибоедов с ними,
И очень хорошо ему;
Но вот шампанское допито…
Какая страшная зима,
Бьет бубенец,
Гремят копыта…
И одиночество…
И тьма.
<1936>
Путешествие в Эрзерум
Это в дым,
Это в гром
Он летит напролом,
Окруженный неведомой сказкой,
На донском жеребце,
На поджаром и злом,
В круглой шляпе
И в бурке кавказской.
И глядят
И не верят донские полки —
Это сила,
И ярость,
И слава,
Ноздри злы и раздуты,
Желтеют белки —
Впереди неприятеля лава.
Кавалерия турок
Визжит вразнобой,
А кругом распростерта долина.
Инжа-Су называется —
Дым голубой, —
Необъятна
И неодолима.
Страшен месяц июнь,
Турки прут на рожон,
Злоба черная движет сердцами,
Песней яростной боя
Поэт окружен
И в атаку уходит с донцами.
Сколько раз,
Уезжая в пустые луга,
В этой жизни, опальной, короткой,
Он, мечтая,
Невидимого врага
Рассекал, словно саблею,
Плеткой.
И казалось ему,
Что летит голова,
И глаза уже полузакрыты,
И упал негодяй,
И примята трава,
И над ним ледяные копыта.
Вот теперь благодарно
Вздохнуть над врагом,
Но проходит мечтанье —
И снова —
Ничего,
Пустыри,
Вечереет кругом
Тишина захолустья лесного.
Он опять одинок,
Сам себя обманул,
Конь былинку забытую гложет.
Он в Тригорское ехал,
Печален,
Понур,
Напивался
И плакал, быть может.
Этот ветер противен,
И вечер угрюм
На просторе равнины и пашен…
Мне понятно теперь,
Почему Эрзерум
И приятен ему
И не страшен.
Он забыл о печали
И песни свои,
Он, на камень
И пламя похожий…
Пьют бойцы при кострах.
Вспоминают бои.
Азиатов
И Пушкина тоже.
<1936>
Алеко
Пожалуй, неплохо
Вставать спозаранок,
Играть в биллиард,
Разбираться в вине,
Веселых любить
Молодых молдаванок
Или гарцевать
На поджаром коне.
Ему называться повесой
Не внове,
Но после вина
Утомителен сон,
И тесно,
И скучно,
Смешно в Кишиневе,
В стране, по которой
Бродяжил Назон.
Такая худая,
Не жизнь, а калека,
Услады одни
И заботы одни —
Сегодня за табором,
Следом, Алеко
Уйдет,
Позабудет минувшие дни.
И тихо и пусто,
Где песня стояла.
И пыль золотая
Дымится у пят,
Кричат ребятишки,
Цветут одеяла,
Таращатся кони,
Повозки скрипят.
Страшны и черны
Лошадиные воры,
И необычайны
Преданья и сны,
И всем хороши
По ночам разговоры,
И песни прекрасны,
И мысли ясны.
Цыганское солнце
Стоит над огнями;
Оно на ущербе,
Но светит легко,
И степь бесконечна…
Запахло конями,
И ты, как Алеко,
Ушел далеко.
Искатель свободы
И лорда потомок,
Но все же цыганский
Закон незнаком.
И строен, и ловок,
И в талии тонок,
Затянутый красным
Большим кушаком.
Ревнивец угрюмый,
Бродяга бездомный,
Ты, кажется, умер,
Тоскуя, любя;
Ты был одинок
В этой жизни огромной,
Но я никогда
Не забуду тебя.
Уже по Молдавии
Песни другие,
И эти по-своему
Песни правы —
Разостланы всюду
Ковры дорогие
Из лучших цветов,
Из пахучей травы.
А ночь надвигается,
Близится час мой,
Моя одинокая лампа горит,
И милый Алеко,
Алеко несчастный приходит
И долго со мной говорит.
<1936>
Пушкин в Кишиневе
1
Дымное, пылающее лето,
Тяжело,
Несносная пора.
Виноградниками разодета
Небольшая «Инзова гора».
Вечереет.
Сколь нарядов девьих!
На гулянье выводок цветной…
Птицы в апельсиновых деревьях
Все расположились до одной.
Скоро ночь слепящая, глухая.
Всюду тихая,
В любой норе…
Скоро сад уснет, благоухая,
Да и дом на «Инзовой горе».
В том дому узорном,
Двухэтажном,
Орденами грозными горя,
Проживал на положенье важном
Генерал —
Наместником царя.
Сколь хлопот!
Поборы и управа.
Так хорош,
А этак нехорош,
Разорвись налево и направо,
А потом кусков не соберешь.
Недовольство,
Подхалимство,
Бредни,
Скука: ни начала, ни конца.
Да еще назначили намедни
К нам из Петербурга сорванца,
С нахлобучкой, видимо, здоровой.
Это вам, конечно, не фавор,
За стихи,
За противоцаревый,
Все же остроумный разговор.
Вот сидит,
Прощенья ожидая,
Пожалеешь юношу не раз —
С норовом,
Сноровка молодая,
Попрыгун
Допрыгался до нас.
Да и здесь ведет себя двояко:
Коль спокоен —
Радостно в груди,
А взовьется —
Бретер, забияка,
Юбочник – господь не приведи.
Но стихи!
Мороз идет по коже —
Лезвие,
Сверкание,
Удар…
И порой глядишь – не веришь:
Боже,
Ну кому доверил божий дар?
Умница, каких не много в мире,
Безобразник, черт его побрал…
И сидит.
Усы свои топыря,
И молчит усталый генерал.
За окном – огромна, неприятна —
Ходит ночь.
Обыден мир, не нов.
Огоньков мигающие пятна —
Это засыпает Кишинев.
2
Пушкин спал.
Ему Нева приснилась.
Он гуляет, радостен и жив.
Государь, сменивший гнев на милость,
Подошел, и страшен, и плешив.
В ласковой, потасканной личине,
Под сияньем царского венца,
В императорском огромном чине,
Сын, убийца своего отца.
Пушкин плюнул.
Экое приснится —
И нелепо,
И мечта не та…
За окном российская темница,
Страшная темнища,
Темнота.
Все порядки, слава и законы
Не сложны.
Короче говоря —
Отделенья третьего шпионы,
Царского двора фельдъегеря.
За границу!
Поиски свободы,
Теплые альпийские луга,
Новые, неведомые воды
И приветливые берега.
А на родине – простору мало.
Боязно.
Угрюмо.
Тяжело…
Он вскочил.
За окнами сверкало,
И переливалось,
И звало.
Выбежал.
В саду, цвести готовом,
Ходит солнце,
Ветер на полях…
Генерал свистит, с ножом садовым,
Столь уютный – заячьих туфлях.
Ползает по клумбиному краю,
Землю топчет старческой ногой…
– Вы куда же, Пушкин?
– Убегаю.
Ах, Иван Никитич, дорогой…
Я туда, где табор за рекою,
А цыганке восемнадцать лет…
Он, скрываясь,
Помахал рукою,
Инзов улыбается вослед.
3
Так и шло.
Заморенное лето,
Вдохновенье.
Петербург далек.
Мякишем стрелял из пистолета,
Лежа на кровати, в потолок.
Не робел перед любым вопросом.
Был влюблен.
И ревновал.
Жара.
В биллиардной в лузу клал клопштосом
Трудного, продольного шара.
И ни сожаленья, ни укора, —
Он махнул рукою на беду,
И цыганка, милая Шекора,
Целовала Пушкина в саду,
Беззаботна, весела, смешлива,
До чего мягка ее рука,
Яблоко чуть видного налива —
Смуглая, пушистая щека.
О Шекоре, о Людмиле этой
Песня сочиненная горит…
Вот она стоит полуодетой,
Что-то, улыбаясь, говорит.
Старый муж,
Рыдая, рвет и мечет,
Милую сажает под замок.
Кто другая
Сызнова залечит
Злого сердца пламенный комок?
В бусах замечательных
И в косах,
Памятью рожденное опять,
Белокурых и черноволосых,
Сколько было их, не сосчитать.
Первая – любовь,
Вторая – эхо,
Пятая – бумажные цветы…
И еще была одна утеха —
Лошадь небывалой красоты.
Гребешком расчесанная грива —
На себя любуясь, так и сяк,
Хорошо идет она,
Игриво
По Харлампиевской на рысях.
Кисти, бляха – конские уборы.
Тонкое на всаднике сукно —
Едет Пушкин.
Шпоры, разговоры,
Девушка любуется в окно.
И поэт,
Нимало не сумняшеся,
Поправляет талисман – кольцо,
Смело заявляет:
«Будет наша», —
И въезжает прямо на крыльцо.
И сады
И луговины в песнях,
Перед ним, румяная, она.
Жалуются Инзову.
Наместник —
Под домашний арест шалуна.
4
Но когда мечтания
И лень их
Или жалко оставлять одних,
Перед ним опять – кавказский пленник.
Блещут горы,
Говорит родник.
Неприступна.
Хороша,
Привольна
Грузия – высокая страна.
И стихи, как молнии,
И больно
И тепло сегодня без вина.
Он идет —
Легка ему дорога,
Где-то уходящая во тьму, —
До чего же все-таки немного
Надобно хорошего ему!
Только той услады и свободы,
Где тропинки узкие у скал,
Где зовут погодой непогоды,
Где любовь, которой не искал.
Пусть бормочет Инзов:
«Молоденек…»
Он забыл бы крышу и кровать…
Ну, еще немного разве денег,
Чтобы можно было банковать.
Вот и все.
И, все позабывая,
Он ушел бы, Уленшпигель мой…
И судьба родная кочевая,
Милая и летом и зимой.
Каждый день иной.
Не потому ли,
Что однообразны дни подряд,
Он ушел за табором в июле,
В августе вернулся, говорят?
– Что (цыгане пели) города нам?
Встану на дороге,
Запою…
Он услышал в таборе гортанном
Песню незабвенную свою.
Знаменитый,
Молодой,
Опальный,
Яростный российский соловей,
По ночам мечтающий о дальней,
О громадной Африке своей.
Но молчало русское болото,
Маковка церковная да клеть,
А туда полгода перелета,
Да, пожалуй, и не долететь.
5
Здесь привольно воронам и совам,
Тяжело от стянутых ярем,
Пахнет душным
Воздухом, грозовым —
Недовольна армия царем.
Скоро загреметь огромной вьюге,
Да на полстолетия подряд, —
Это в Тайном обществе на юге
О цареубийстве говорят.
Заговор, переворот
И эта
Молния, летящая с высот.
Ну кого же,
Если не поэта,
Обожжет, подхватит, понесет?
Где равнинное раздолье волку,
Где темны просторы и глухи, —
Переписывают втихомолку
Запрещенные его стихи.
И они по спискам и по слухам,
От негодования дрожа,
Были песнью,
Совестью
И духом
Славного навеки мятежа.
Это он,
Пораненный судьбою,
Рану собственной рукой зажал.
Никогда не дорожил собою,
Воспевая мстительный кинжал.
Это он
О родине зеленой
Находил любовные слова, —
Львенок молодой, неугомонный,
Как начало пламенного льва.
Злом сопровождаемый
И сплетней —
И дела и думы велики, —
Неустанный,
Двадцатидвухлетний,
Пьет вино
И любит балыки.
Пасынок романовской России.
Дни уходят ровною грядой.
Он рисует на стихах босые
Ноги молдаванки молодой.
Милый Инзов,
Умудренный старец,
Ходит за поэтом по пятам,
Говорит, в нотацию ударясь,
Сообразно старческим летам.
Но стихи, как раньше, наготове,
Подожжен —
Гори и догорай, —
И лавина африканской крови
И кипит
И плещет через край.
Сотню лет не выбросить со счета.
В Ленинграде,
В Харькове,
В Перми
Мы теперь склоняемся —
Почета
Нашего волнение прими.
Мы живем,
Моя страна – громадна,
Светлая и верная навек.
Вам бы через век родиться надо,
Золотой,
Любимый человек.
Вы ходили чащею и пашней.
Ветер выл, пронзителен и лжив…
Пасынок на родине тогдашней,
Вы упали, срока не дожив.
Подлыми увенчаны делами
Люди, прославляющие месть,
Вбили пули в дула шомполами,
И на вашу долю пуля есть.
Чем отвечу?
Отомщу которым,
Ненависти страшной не тая?
Неужели только разговором
Ненависть останется моя?
За окном светло над Ленинградом,
Я сижу за письменным столом.
Ваши книги-сочиненья рядом
Мне напоминают о былом.
День ударит об землю копытом,
Смена на посту сторожевом.
Думаю о вас, не об убитом,
А всегда о светлом,
О живом.
Всё о жизни,
Ничего о смерти,
Всё о слове песен и огня…
Легче мне от этого,
Поверьте,
И простите, дорогой, меня.
<1936>









