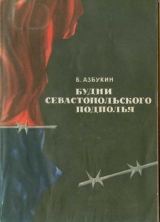
Текст книги "Будни Севастопольского подполья"
Автор книги: Борис Азбукин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 18 страниц)
Борьба продолжается…
Часто, когда наступал вечер, Костя Белоконь выбирался через окошко из халупы Табаковых и бежал к Михеевым проведать Колю, погреться. Коля выздоравливал, температура упала, рана затянулась. Он уже вставал с постели, но не выходил из дому: от потери крови чувствовал слабость.
Степанида Александровна и Николай Андреевич всегда приветливо встречали Костю, выкладывали на стол хлеб, заставляли похлебать варева, попить горячего чая, отогреться. В хатенке было тесно, но всегда уютно. От сытости, человеческого тепла Костя оттаивал.
Разговоры обычно шли о провалах, новых арестах: на железной дороге, Лабораторной, на Пластунской, куда, по слухам, вместе с жандармами приезжал Людвиг. Всех очень тревожила участь Саши и Лиды Ревякиных, Вани Ливанова и Жоры Гузова. Что с ними сталось? Живы ли они? Или фашисты замучили их?
Михеевы боялись, что Людвиг выдаст и их квартиру. Перед тем как поселиться у Ревякиных, он одну ночь провел у них на Лагерной. Они держались начеку. Шурик и Степанида Александровна постоянно следили за тропой, ведущей к их дому, чтобы при появлении жандармов или подозрительном стуке в калитку бежать через соседский двор к родственникам, проживавшим на этой же улице. То, что полиция до сих пор не нагрянула, Михеевы объясняли тем, что Людвиг не знал улицы и номера дома, так как приходил на Лагерную и уходил ночью.
Оставалось загадкой появление Людвига в Севастополе. Что случилось с группой подпольщиков, с которой он уходил в лес? Дошли ли они до партизан? Может, схвачены в лесу карателями или убиты?
Вскоре кое-что прояснилось. В первые дни разгрома подполья не избежала ареста и Петькина мать, Анастасия Павловна Лопачук: у нее проживал Пиванов. Всех арестованных бросили в смрадный сырой подвал на Пушкинской, в котором были сделаны два десятка бетонных одиночных клеток и общих камер, разделенных узеньким коридором. В одном из каменных мешков-одиночек, с мокрыми стенами и истлевшей подстилкой на цементном полу, сидел Ревякин. По соседству с ним, тоже в одиночках, находились Гузов и Пиванов, а напротив в общей камере – Женя Захарова, Люба Мисюта, Нелли Велиева. К ним посадили и Анастасию Павловну. Внутри тюрьмы охраны не было, часовой стоял за дверью, снаружи. Пользуясь этим, арестованные переговаривались. Ревякин подбадривал товарищей, советовал, что говорить, как держаться на допросах у следователя.
Все арестованные отрицали причастность к подполью Анастасии Павловны. Ее выпустили, оштрафовав на триста марок за то, что Пиванов проживал у нее без прописки.
Рассказы Лопачук и Вали Прокопенко, тоже освобожденной «за недоказанностью обвинений», пролили свет на судьбу группы, ушедшей в лес, и на все то, что творилось за тюремной решеткой.
Вторая группа была невелика. На этот раз с Осокиным и Громовым ушли четверо – Людвиг, Кузьма Анзин и бежавшие из концлагеря матросы Горлов и Воронов.
Зимний поход в горах даже проезжей дорогой тяжел. Идти же непроторенными тропами, карабкаться по заснеженным кручам, продираться через лесные заросли, спускаться в обход лавин и ущелья, да еще в густой снегопад, настигший группу в пути, в сто раз трудней.
Такой поход Людвигу, просидевшему год взаперти, оказался не по силам. Спускаясь с кручи, он упал и ушиб ногу, к тому же заболел животом. Его, как при морской качке, выворачивало наизнанку, изо рта шла пена. Корчась от болей, он лег наземь и отказался идти дальше. А задержаться, сделать длительный привал нельзя. Командир партизанской разведки капитан Глухов строго наказал Осокину и Громову, чтобы они со второй группой явились точно в назначенный день и час. Каратели стягивали силы и со всех сторон охватывали занятую партизанами деревню. Промедление могло обернуться для партизан разгромом.
Два дня, утопая в рыхлом, мокром снегу, товарищи по очереди вели Людвига в горы, а потом несли на руках. Силы у всех были на пределе. Годы оккупации, голод, мытарства в концлагере подорвали здоровье. Сильней и крепче всех оказался Василий Горлов, матрос богатырского роста и телосложения. Ему чаще других приходилось втаскивать Людвига на скользкие кручи. Последний переход – подъем на Ай-Петринскую яйлу – измотал всех окончательно. До пещеры, где намечался привал, еле добрели и в изнеможении рухнули наземь. Людвиг заявил, что он больше не тронется с места. Уговоры не действовали. Он истерически кричал, что до партизан ему не дойти, попытался выхватить у Горлова пистолет, чтобы покончить с собой.
Осокин и Громов нервничали. Задерживаться нельзя – надо выполнять приказ, явиться в срок. Оставить Людвига в пещере – отчаянный риск: в горах всюду каратели, но и тащить на руках ни у кого нет сил. Впереди десятичасовой переход, который необходимо одолеть до темноты. Осокин, посоветовавшись с товарищами, собрал последние продукты, отдал Людвигу и сказал: – Жди. Завтра за тобой придем.
Людвиг ждать не стал, а спустился с горы и был арестован байдарскими полицаями.
В сумерки измотанные походом подпольщики наконец спустились с яйлы в долину и, перейдя по бревну горную речку, подошли к партизанской стоянке – деревне Кучук-Узенбаш. И тут случилось непредвиденное. Они напоролись на отряд карателей, которые днем выбили партизан из селения, отбросив их в горы.
Завязалась перестрелка. Под пулеметным и автоматным огнем группа отошла за речку. Матрос Горлов, который прикрывал товарищей, был ранен и схвачен карателями. Осокину с тремя товарищами удалось скрыться. Сутки проплутали они в горах, прежде чем были обнаружены партизанской разведкой.
Людвиг и Горлов были доставлены в контрразведку в Бахчисарай. Горлов давать показания отказался. Когда переводчик хлестнул матроса резиновой плетью, тот одним ударом свалил его на пол. Подоспевшие конвоиры связали матроса и бросили в подвал. Людвиг на первом же допросе, чтобы спасти жизнь, выдал Горлова, признался, что вместе с группой подпольщиков шел к партизанам, рассказал о существовании подпольной типографии, назвал фамилии и клички подпольщиков, их адреса и адреса конспиративных квартир. А через несколько часов офицер, прибывший из Бахчисарая, передал показания Людвига Майеру и вместе с агентами СД приехал с обыском на Лабораторную, 46. Но типография не была найдена. Не удалось ее обнаружить и при втором обыске, ночью, когда Манер арестовал Ревякина.
Александр на допросах отвергал все обвинения. Его повезли в Бахчисарай. Однако и на очной ставке с Людвигом он стоял на своем.
Людвига привезли на Лабораторную. Войдя во двор, он показал Майеру электрический провод, замаскированный под корой акации, тайный ход в подземелье, скрытый под деревянной будкой во дворе, а также лаз, ведущий из кухни в типографию.
Найденные в подземелье шрифты, тискальный станок, бумага, пишущая машинка и радиоприемник явились неопровержимыми уликами. Ревякин решил все взять на себя. Ни одной фамилии подпольщиков он не назвал.
Но следователь Пенер и Майер в этом не нуждались. Из показаний Людвига им было известно все, и они уже составили список с адресами участников подполья. Почти все активисты подполья, связанные с Ревякиным, попали в пасть фашистской машины, уничтожавшей всех, кого захватили ее стальные челюсти.
Приказами фельдмаршала Кейтеля предписывалось «без жалости» подавлять любое сопротивление. Гитлеровской черной гвардии – эсэсовцам – предоставлялось право по своему усмотрению применять любое насилие, пытки, расстрелы, вешать, душить в газовых камерах, сжигать в печах.
В Севастополе Майер и начальник жандармерии обер-лейтенант Шреве ревностно осуществляли этот приказ. У них не было печей Майданека, но у них был «ров смерти». Они доверху заполнили многокилометровый противотанковый ров телами севастопольцев.
Много месяцев Майер и Шреве охотились за «городскими партизанами» – подпольщиками, и теперь преданные Людвигом патриоты оказались в их руках.
Следователь и переводчики Сережка и Ленька избивали арестованных на допросах каучуковыми палками, секли резиновыми треххвостками, били сапогами по лицу, выкручивали руки, расплющивали пальцы дверью, жгли тело паяльной лампой.
Первой жертвой изуверской жестокости стала Лида Ревякина. Она решительно отказалась давать показания и на все вопросы следователя отмалчивалась. Пенер наотмашь ударил ее по лицу. Лида упала. Сережка стал пинать ее сапогом в грудь, в живот. Лида закричала, у нее начались предродовые схватки. Майер, прибежавший на крик, приказал отправить ее под конвоем в родильное отделение.
В городской больнице работали пленные советские врачи, которые заботливо выхаживали больных и раненых матросов и красноармейцев, спасали их от фашистских репрессий, выдавали фиктивные справки о болезни, обеспечивали нелегальных паспортами умерших в больнице.
Хирург Иванов решил помочь Лиде: сделать кесарево сечение, спасти ребенка, а после операции как можно дольше подержать роженицу в палате. Он положил Лиду в отдельную комнатушку и велел медицинской сестре подготовить все к операции.
Но ему помешали: Майер с Пенером прикатили в больницу продолжать допрос.
– О, как вас хорошо тут устроили, – сказал Манер с наигранной улыбкой, переступив порог. – Мы поможем вам спокойно вырастить и воспитать ребенка, если вы дадите следователю необходимые показания.
– Мне нечего говорить, – ответила Лида. – Я ничего не знаю.
– У вас же под кухней найдена типография! Ваш муж во всем сознался, вам нет смысла скрывать.
– О типографии мне ничего не известно.
– Вы продолжаете упорствовать?! – воскликнул Майер. – Пожалеете! Сегодня же вы будете расстреляны вместе с вашим ребенком.
– Стреляйте! – Лида вскрикнула от приступа боли. У нее начались родовые схватки.
Хирург распорядился положить ее на операционный стол, но Майер властно остановил его:
– Не надо! Нам не нужны большевистские выродки. – Повернувшись к стоявшим позади следователю и переводчику, он приказал: – Забрать ее…
Лиду повезли по Балаклавскому шоссе и расстреляли.
Следующими жертвами стали Мила Осипова и Миша Шанько, которые почти месяц томились в одиночках подвала. Их обвиняли в связях и совместных действиях с Володей Баранаевым и Виктором Кочегаровым, у которого были найдены пачки листовок и газет «За Родину». Но «совместные действия» доказать не удалось. Виктор, Миша и Мила объясняли «связи» давним знакомством, с детства, так как жили по соседству, учились в одной школе, а потом все работали на станции. Прямых улик у следователя не оказалось. Но Милу с Мишей не выпустили. Им предъявили другое обвинение – в том, что они снабжали беглых пленных подложными справками и удостоверениями.
На допросах арестованные держались стойко и все отрицали. Следствие затормозилось. Не хватило улик и свидетелей. Такой свидетель вскоре нашелся. Людвиг, привезенный из Бахчисарая, признал свое участие в изготовлении подложных документов и предал Мишу с Милой. Они были расстреляны.
Пенер с Сережкой Совой, подгоняемые Майером, неистовствовали, выколачивая признания у подпольщиков.
Допросы, очные ставки подпольщиков с Людвигом, друг с другом и снова очные ставки и жестокие расправы. Лица Александра Ревякина и Николая Михайлова были так изуродованы побоями, что в первой очной ставке они не сразу узнали друг друга.
Ревякин брал все на себя или молчал. Худой, изможденный, с синим, вспухшим от беспрестанных побоев лицом, с бородой, из которой были вырваны клочья, он стал похож на старика. И все же не надломилась его воля, непреклонна была уверенность в том, что даже перед неизбежной смертью надо продолжать борьбу.
– Крепитесь, друзья! Мы советские патриоты, коммунисты-ленинцы, нам пощады не будет! – доносился голос Ревякина до камер. – Мы должны перенести все и выстоять. Крым скоро освободят. Нам надо выиграть время, усложнить следствие, затянуть его.
Ревякин подбадривал всех, хотя самому было тяжко вдвойне. Сильней страданий от пыток его терзали мысли о Лиде. Ни он и никто из заключенных не знали, где она и что с ней.
Моральная поддержка друг друга придавала заключенным силы, мужества в тяжкие дни испытаний. Они держались сплоченно и стойко. Никто не дрогнул, не проявил малодушия, не просил пощады.
Майеру не удалось добиться требуемых показаний. Арестованные не выдавали друг друга, отрицали причастность товарищей к подполью, всячески выгораживали Виктора Кочегарова, его отца и мать, не называли фамилий и адресов тех, кто избежал провала.
И следствие затянулось…
Это бесило Майера. Но он оттягивал расправу, полагая, что ему еще удастся сломить их упорство, использовать как свидетелей против тех, кто остался на свободе.
Где-то на горе, что нависала над Лабораторной, – припоминал Майер, – проживает партизан Макаров, где-то скрываются Висикирская, Ленюк с женой, гуляют Белоконь, Михеев, Калганов. Эта скотина Людвиг описал приметы ребят, но забыл названия улиц и номера квартир. Кроме них, конечно, есть еще на свободе партизаны-одиночки. Но он, Майер, не из тех, кто останавливается на полпути. Он изловит их всех! Выкопает их из-под земли! Не помешала бы только срочная эвакуация из Крыма. Надо спешить. Спешить!
В начале четвертой недели следствия Ревякина, Гузова и Пиванова перевели в общую камеру. А вечером жандармы, распахнув дверь, втолкнули к ним арестованного матроса. Вспухшее лицо его было залито кровью, на спине и груди под разорванной тельняшкой виднелись рубцы и свежие ссадины, руки были скручены электрическим проводом.
Это оказался Василий Горлов. После того как в Бахчисарае Людвиг выдал матроса, контрразведчики многократно пытали его, тщетно добиваясь сведений о партизанах.
– Они драпают! – сказал Горлов. – И меня с собой привезли из Бахчисарая в Севастополь.
– Драпают?! – воскликнул Ревякин.
– А вы и не знаете? Наши войска вступили в Крым…
Весть эта мгновенно облетела все камеры, вызвав бурное ликование заключенных. И вдруг сквозь гул взбудораженной тюрьмы прорезались звонкие девичьи голоса:
Вставай, страна огромная…
Слова песни прозвучали как боевой клич. Все, точно по взмаху невидимой руки, в едином порыве подхватили:
…Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой…
Яростный гнев, жгучая ненависть, исступленная решимость звенели в голосах поющих. Песня их звучала как призыв к бою, к победе. Даже здесь, в тюремных застенках, эти солдаты Восьмого бастиона не признавали себя побежденными.
Когда утром Ревякина, Гузова и Пиванова повели на допрос, товарищи провожали их той же грозной песней.
Майер заявил, что если они не назовут фамилий и адресов подпольщиков, оставшихся на воле, то ночью будут расстреляны. Но все трое отказались давать показания.
Четвертый бастион
I
Пока заживала рана, Коля сидел дома и целыми днями приглядывался к раскинувшейся внизу станции. Он убедился, что оккупанты, боясь советской авиации, днем не отправляли поездов, а прятали сформированные составы по тупикам. Эшелоны с солдатами, боеприпасами и танками обычно угоняли к тоннелю на самые дальние запасные пути, тянувшиеся по берегу Южной бухты. По ночам, во время бомбардировок, Коля видел, как советские пилоты обрушивали бомбы на поезда с фуражом, стоявшие поблизости от станции. «Эх, не туда целят?» – досадовал он.
Сегодня днем к причалам пришвартовались два больших транспорта с эсэсовцами-карателями. Часть эсэсовцев села в машины и уехала. Другая, большая часть погрузилась в два эшелона, которые маневровая «кукушка» вытащила на боковые ветки у Корабельного спуска.
Коля побежал за хату в убежище, отодвинул шкафчик и, светя фонариком, долго копался в своем тайнике. А когда стемнело, пошел к Косте. На тропе возле дома Табакова он увидел Шурика.
– Кто у Кости? – спросил он.
– Толька и Саня.
Коля пролез через окно в хатенку.
Саня и Костя сидели за столом мрачные, подавленные. За стеной в чуланчике, вздыхая, ворочался Толик, который вот уже несколько дней скрывался у брата.
– Чего это вы приуныли? – спросил Коля и положил на пол саперные ножницы. – Что случилось?
– Страшно сказать, – надломленным голосом ответил Костя. – Нет теперь ни Саши с Лидой, ни Жоры с Ваней, ни Милы с Мишей, ни Жени. Всех на Балаклавском шоссе… на рассвете.
Коля пошатнулся, словно от удара. А Костя, проглотив ком в горле, продолжал:
– Наши прорвали Перекоп, «завоеватели» драпают и перед эвакуацией всех заключенных расстреляли. Только Орлова, сказывают, дня три назад выпустили и еще двух женщин.
Коля сжал кулаки.
– Таких людей уничтожили! А Людвиг, предатель, кровью наших товарищей откупился.
– Просчитался он. Из него выжали все и тоже прикончили. Говорят, Майер со своими палачами нынче сбежал. Фашисты паникуют, не знают, кем заткнуть дыры. Недаром нынче эсэсовцев прямо с корабля погнали на фронт.
– Неужто мы им за товарищей не отомстим? – тихо спросил Коля.
Саня стукнул ладонью по столу и вскочил с табуретки.
– А что я говорил? Бить их надо! Давить как гнид! Руками душить!
– Руками всех не передушишь, – сказал Костя. – Надо что-то придумать.
– Чего тут думать? – горячо возразил Коля. – Мы с ними хоть сейчас можем расквитаться.
– А как? Ты надумал что? – спросил Костя.
– Ты видел, где они поставили эшелоны с эсэсовцами? Неужто мы их на фронт выпустим?
– В самом деле! Разберем пути либо здесь, либо в Ушаковой балке, и они как в мышеловке застрянут, – Саня хлопнул товарища по плечу.
– Зачем? Во, глядите, что я принес. – Коля взял с полу саперные ножницы и положил на стол. – Три штуки! Теперь вам понятно?
– Дело придумал, – согласился Костя. – Справим такие поминки по нашим, что фашисты век Севастополя не забудут.
– Тогда айда! Пошли, а то не успеем, – загорелся Саня.
Он торопил не зря. До прилета советских бомбардировщиков – а появлялись они теперь всегда в один и тот же час – времени оставалось в обрез.
– Погодите, – остановил товарищей Костя. – Мы возьмем на себя зенитки на Историческом и перервем связь батарей со штабом. А кто займется прожекторами?
Из чуланчика вышел Толик.
– Давай мы с Шуриком, – сказал он охрипшим голосом. – Мы знаем все ихние штабные землянки. Знаем, какие провода к прожекторам, а какие к зениткам.
– А что? Пусть пацаны шуруют у прожекторов, а мы у зениток. – Костя снял с пояса финку, протянул брату и дал еще ножницы.
– Смотрите не засыпьтесь. Они теперь во всех аллеях патрулей наставили, – предупредил Саня.
– Не бойсь, не засыпемся! – обрадовался Толик. – Мы во время тревоги резать будем, когда они все в землянках прячутся.
…Спустя час Костя, Саня и Коля лежали возле Костомаровской батареи на Четвертом бастионе. Они сделали свое дело – связь нарушена. Теперь, напрягая слух, они ждали появления советских самолетов над станцией.
Теплая апрельская ночь. Ни огонька. Снизу доносится скользящий шум бесконечной вереницы машин, бегущих из Симферополя, слышны свистки маневрового паровоза на запасных путях и лязг вагонных буферов.
– Эх, мать честная, сейчас бы их тут и накрыть! Ишь как спешат отправить эсэсовские поезда, – прошептал Саня. – А что, если сегодня не прилетят?..
– Да заткнись ты! – цыкнул на него Коля. Некоторое время все трое лежали не шевелясь, слушая приглушенный шум передвигающихся неприятельских войск.
– Только бы наши не опоздали, а то они связь восстановят, – не удержался Саня.
– А ты что, не чуешь? Они уж тут, – прошептал Коля. Где-то за Инкерманом послышался далекий гул.
– Идут, – Костя поглядел на светящиеся стрелки часов. – Минута в минуту.
А гул усиливался и нарастал, подобно неудержимой горной лавине, наполнял уже ревом бездонную тьму над Северным рейдом.
На Северной и Корабельной вспыхнули длинные мечи прожекторов. Они шарили в небе, пронзая его из конца в конец. Где-то над флотским экипажем лучи скрестились, осветив сереброкрылую птицу. И в тот же миг там загромыхали зенитки: зеленые, красные, оранжевые нити прошили небо пунктиром. А на Историческом бульваре прожекторы и зенитки бездействовали.
– Гляди, наши пацаны не растерялись, – заметил Коля. – Ни один прожектор не светит.
Звено бомбардировщиков с ревом пронеслось над берегом бухты, а спустя минуту над станцией взметнулись огненные гейзеры и земля задрожала от взрывов.
– Эх, черт! Не заметили составов с эсэсовцами! – ворчал Коля.
А новая волна самолетов с ревом накатывалась уже от Сапун-горы.
После ярких взрывов тьма казалась еще непроглядней. Неужели опять не заметят составов и бомбы пролетят мимо? Ребята переползли к стене бульвара, возвышавшейся над хатой Коли Михеева.
И тут над берегом бухты и станцией ослепительно вспыхнула «лампада». Она обливала беспощадным, все обнажающим светом и бухту, и развалины города, и косогор Четвертого бастиона, на котором расположились ребята. Послышался вой падающих бомб. Ребята приникли к земле, стараясь поглубже втиснуться между камней.
Казалось, косогор сдвинулся с места и с грохотом разлетается на части. Осколки с визгом проносились над головой и со скрежетом врезались в каменную стену бульвара.
Несколько секунд устрашающей тишины, и снова ахнуло, зашевелилась земля.
– Это вам, гадам, за наших!.. – злорадно крикнул Костя, вставая.
Внизу клубились облака черного дыма, на путях все горело, рвалось и трещало. Под откосами валялись разбитые и опрокинутые вагоны разорванного на части состава, над ними, словно змеи, извивались рельсы. На главном пути несколько вагонов взгромоздились друг на друга, образовав грандиозный пылающий факел. Человеческие фигурки копошились под ними, пачками вываливались из них, метались по путям в дымящейся одежде, бросались в воду. Многие бежали вверх, к флотскому экипажу. Офицеры стреляли по беглецам из револьверов, пытаясь остановить их.
– Гляди, как драпают! – ликовал Саня.
Ребята забыли о том, что стоят на косогоре, освещенные ярким светом «лампады». Над их головами вдруг взвизгнули пули и впились в стену.
– Полундра! Ложись! – крикнул Костя.
Ребята бросились на землю и поползли меж камней за стену…
Ни один поезд в эту ночь не ушел со станции.
Костя и Саня спали с Колей в его убежище. Утром их растолкал Николай Андреевич.
– Ну, хлопцы, что делается в городе – не передать! – рассказывал он. – Фрицы удирают в Стрелецкую. В центр жандармы никого не пускают. Пристань тоже оцеплена. Говорят, наши прорвали Перекоп…
– Перекоп взят?! – Костя вскочил с матраца. – Братва, живей вставай!
Минут через пять Саня спускался уже с горы на станцию, к угольному складу, а Костя с Колей затерялись в толпе, которая скопилась на берегу Южной бухты. Здесь собрались рабочие, которых жандармы не пропускали в город и в порт, несколько женщин с привокзальных улиц и буйная орава быстроногих портовых мальчишек. Среди них, конечно, был Петька.
Машины запрудили Корабельный спуск, Лабораторную, вокзальную площадь, Портовую улицу. В несколько рядов стояли они в ожидании, когда удастся прорваться в город.
– Вот дали напиться так дали! – Петька толкнул локтем Костю и скосил глаза на пристань.
У причалов, накренившись и осев от пробоин, стояли поврежденные транспорты. На воде плавали ящики, бочки, офицерские и солдатские фуражки, доски. Напротив пристани, у стены Корабельного спуска, все железнодорожные пути были загромождены скелетами дымящихся вагонов. По путям сновали солдаты санитарной команды, собирая обгоревшие трупы эсэсовцев.
С вершины горы длинной ломаной цепью спускались вооруженные эсэсовцы, окружая косогор. Коля переглянулся с Костей, ни к кому не обращаясь, спросил:
– Чего это они там ищут?
– Вчерашний день, – пробасил позади рабочий.
– Ищут тех, кто ночью порезал все провода, – уточнил один из мальчишек.
– А правители города уже задали стрекача, – послышался тот же бас. – Новый городской голова и полицмейстер первыми на пароход сиганули. А теперь, вишь, канцелярии жгут.
Снизу хорошо были видны костры, полыхавшие на горе перед зданием полицейской управы, во дворах комендатуры и СД. Ветер взметал бумажный пепел, который, кружа, носился в воздухе и черными хлопьями осыпал развалины домов и синюю гладь бухты.
– А энти тоже драпают? – веснушчатый паренек кивнул на запрудившие площадь машины.
– Сам не видишь? – спросил бас.
– А сколько их там за городом – тьма-тьмущая! – сообщил Петька. – Я на горку взбирался, смотрел. Машины стоят аж до Мекензиевых гор.
Петька не врал. За ночь на Симферопольском и Ялтинском шоссе скопились тысячи автомашин, а с рассветом они неудержимым потоком с двух сторон хлынули в город, забили все улицы. Машины были переполнены ранеными, удиравшими интендантами, чиновниками, гестаповцами и полицаями. Все спешили проскочить через узкую горловину Херсонесского моста к Стрелецкой, Камышовой и Казачьей бухтам, где стояли транспорты и самоходные баржи. У моста образовалась грандиозная пробка.
На берегу появился Саня и, разыскав Костю, Колю и Петьку, поманил их. От моториста дрезины, только что прибывшей из Бахчисарая с железнодорожным начальством, он узнал, что советские войска вчера утром освободили Джанкой, а ночью танкисты ворвались на окраины Симферополя.
– Надо народ оповестить! – сказал Костя.
Саня достал из кармана несколько кусков мела и древесного угля.
– Сегодня же испишем все заборы, стены и мостовые, – подмигнул он.
– Зачем? – воскликнул Петька. – Я шепну своим пацанам, а через час уже все будут знать и на Корабелке, и на Воронцовой, и на Зеленой горке.
– Возьми, возьми уголька. Пригодится, – вставил Коля. – Пусть и фашисты почитают.
Две следующие ночи ребята, как и все севастопольцы, не смыкали глаз. Жители города и слободок вылезали из убежищ, подвалов и часами стояли под звездами, с восторгом слушая гул канонады, которая придвигалась все ближе и вскоре стала явственно доноситься из Качинской долины.
Но многим из тех, кто в эти ночи с радостью ловил гул приближающейся битвы, не суждено было дождаться избавителей. Начались массовые облавы, сперва в центре города, затем на окраинах. Жандармы врывались в дома и убежища, давали двадцать минут на сборы и гнали толпы людей на городскую пристань, в Стрелецкую и Камышовую бухты. В каютах и трюмах пароходов и самоходных барж прятались фашистские солдаты и офицеры, а на палубах под присмотром автоматчиков размещали русских женщин с детьми, которым было приказано в случае появления советских самолетов размахивать руками и платками.
Когда облавы приблизились к Лагерной балке, Костя велел Толику бежать на Лабораторную и скрыться в доме у дяди, а сам с Колей и Саней спрятался в развалинах.







