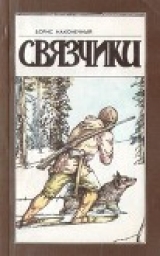
Текст книги "Связчики (Рассказы)"
Автор книги: Борис Наконечный
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 10 страниц)
Борис Наконечный
СВЯЗЧИКИ
Рассказы

Тяжелый снег
С прежним начальником поладить было трудно. Мы расходились во взглядах на жизнь, и. мне выпадало увольняться. Но неожиданно власть на биотехнической станции переменилась: рейсовым самолетиком прилетел новый заведующий. Этот парень имел очень колючие глаза, мохнатенькую бородку и был одет в холодное и щегольское для здешних мест пальто.
– Глеб Евгеньевич! – представился он.
– Ясно!.. – ответил я и пошел с его чемоданчиком по протоптанной в снегу тропинке. Надо было подождать, будут ли новости еще.
Новости пошли довольно странные: на базу станции стали приходить ученики из деревенской школы-интерната. В рабочих комнатах, у шкафов с приборами и нудноватой реферативной литературой их слонялось премного – завзятое, несокрушимое войско нового начальника. С его опытом покорить детей было легко: раньше он преподавал в университете.
Как и прежде, все мы уходили в тайгу добывать материал для исследований, по одному или вдвоем, – надолго.
В июне новый заведующий отправился с егерем ставить датчики температуры в гнезда глухарей – и в тайге заболел. Его увезли на лодке в районный центр, оттуда направили в краевую больницу, из краевой больницы дальше, в Москву, там сделали операцию опухоли под черепом, отверстие закрыли платиновой сеткой, кожу сверху зашили; позже он очень тяжело перенес еще и операцию аппендицита. Теперь здоровье у нового начальника было, мягко говоря, неважное, но жить он старался полной жизнью – любил шутить, рассказывал, как сверлили череп…
До приезда, в университете, он начал заниматься исследованиями по теме «Биология глухаря».
Я просматривал опубликованные работы. Мне понравилась его статья, где сравнивался состав мяса дикой птицы с мясом кур из гастронома. Этот парень делал сложные анализы и выяснил, что в мясе кур не хватает некоторых микроэлементов: лития, бериллия, фтора… Ценность маленького открытия была очевидна, после этого были усовершенствованы рационы на птицефабриках.
Осенью он показал фотографии университетской лаборатории, которой раньше руководил. На фотографиях было видно и современное оборудование, и сотрудники, молоденькие девушки, франтовато и со вкусом одетые, симпатичные, каждая по-своему, – все приятно улыбались. Мы были только вдвоем, когда я их рассматривал.
– Это студентки, – сказал Глеб и, как они, улыбнулся.
– И все они незамужние девушки; такой вид, что ясно: твоя борода им нравится… Какую ты выбрал в подружки?
– Ну не-ет! Шутник! – юн ничуть не рассердился. – Отношения у нас были дружеские, не больше, так я старался поставить.
– Ясное дело. Ты изо всех сил старался…
Он снова улыбнулся.
– В лаборатории их работало много, это верно: девчата добросовестные в делах; я-то был женат, когда преподавал, но, правда, мы разошлись очень скоро. Точнее – она меня бросила. Наш брак был из случайных: ни по любви, ни по расчету, – так, не понять как…
– И что же, у тебя никого больше не было?
Он достал из стола еще одну небольшую фотографию, оттуда на нас смотрела остроносенькая девочка в платочке с цветами.
– Она сама выбрала меня. Подошла спросить о чем-то после лекции, а потом подходила еще. Ну, а вне университета мы встречались только раз, случайно. Вскоре пришло письмо с предложением занять место заведующего (я хотел продолжить исследования на биостанции или в заповеднике, где большая популяция глухарей, и разослал письма в разные места). Встретил ее в коридоре, мы остановились, я сказал, что уезжаю, и попрощался.
– А что она?..
– Ничего. Опустила голову, и, вижу, слезы о паркет разбиваются: кап, кап… Вот, думаю, ну и дела! Кто знал? Мы недолго так стояли, хорошая картинка: молодой преподаватель – и студентка плачет. Я уехал через день… Какая из них тебе больше нравится?
Он хотел увести меня от дальнейших расспросов и показал на фотографии девушек из лаборатории.
– …Та, что тихо плакала. Я бы написал, чтоб приехала она. С учебой – это устроится.
– Да написал уже, – нехотя признался он.
Так мы разговаривали перед отъездом на зимовку.
* * *
Эта лайка помогала много раз: и когда вел промысел, и когда фотографировал, но сейчас мало чем мог ей помочь. Я полулежал под нарами, держал наготове нож, прокаленный в огне железной печки, и ждал. Она стонала, тяжело поднималась, лапами торопливо рыла землю, клыками разрывала корни и выдергивала необрубленный мох из пазов меж бревен. Поспешно укладывалась, тяжело дышала открытой пастью. Рядом стоял керосиновый фонарь – страхом и болью отсвечивали косые глаза. Опять стонала, переходила в другой угол, снова разгребала землю. Все это продолжалось долго; только и смог сделать для нее: разрезал оболочку, когда они начали выходить. Я разрезал – она тут же съедала ее, – еще перерезал пуповину, и щенок начинал шевелиться, пищал. Слепой – он сам поворачивался в сторону ее брюха, полз, загребая мягкими лапками, – отыскивал сосок. Позже, когда она лежала спокойно, я отнимал то одного, то другого, поворачивал несколько раз, откладывал в сторону. Слепые – они находили дорогу к соскам. Было интересно наблюдать, как каждый находил верный путь к соскам.
Рыжий пес Урчик, отец щенков, открыл когтями дверь, прокрался к тазу, хлебал болтушку. Лайка со щенками поднимала голову и прижимала уши. Глеб пошевелился на нарах и свесил вниз ноги.
– Гудят? – спросил он.
– Гудят… Их три, и один родился мертвый.
Я поставил фонарь, показал мертвого щенка и вышел положить его на крышу: если бросить в снег, отец съест труп, когда тот закоченеет, – потом возвратился и прикрыл дверь. На внутренней стороне двери льда, как до этого в жестокие морозы, не было совсем, и на оконном стекле он растаял; подоконник и доски стола были мокрые. За стеной ветер с запада нес снег, было тепло.
– …Очень крупный, – сказал я о мертвом щенке. – Может быть, самый лучший из них, но она могла умереть из-за него…
– Ноги болят, – пробормотал Глеб и поморщился. – Днем ничего, спишь – ноют…
Он принялся растирать коленные чашечки.
– Это не опасно, они будут так болеть до середины лета. Летом надо походить по горячему песку на той стороне Енисея…
Я посоветовал сшить к бродням голенища потеплее; из сукна и высокие, чтоб закрывали колени, иначе от длительного переохлаждения ног станет беспокоить сердце.
Он много говорил во сне, и утром у него было помятое лицо. Ночами иногда вставал, топил печку: нагревал докрасна, кипятил чай. Я тоже вставал и пил чай; ночи тянулись, а днем он торопился. Два месяца мы бродили на лыжах по звериным и птичьим следам. Последнюю неделю нельзя было уйти далеко от избушки: ждали маленький самолет, каждый день перед рассветом одевались и привязывали собак; шел снег, но мы были наготове, надевали лыжи и шли поправлять вехи из кедровых и пихтовых лап по краям посадочной площадки на чистом болоте у избушки. Вслушивались в звуки ветра: где-то там, над верхушками корявых кедров, должен застрекотать мотор маленькой машины на лыжах.
Тяготы ожидания снести было можно, неприятно, что кончился чай, – пить отвар чаги со снеговой водой совсем не то, если привык к одному сорту плиточного чая. Самолет в срок не прилетел, надо было дождаться, когда стихнет западный ветер, что нес снег. Дни тянулись; я мог терпеть – Глеб нервничал. Когда мы рыскали по тайге, неделя бежала за неделей, а теперь ждать на одном месте хуже нет. Я понимал, почему Глеб нервничал. Он торопился в деревню. Кто бы не торопился – вдруг та девушка из университета, его будущая жена, уже там? И, быть может, в это время она заталкивает поленья в жерло печки в его комнате на биостанции, и у огня одной ей неуютно, и то, что она там одна, и то, что ей тоскливо и страшно за будущее, – здесь, в избушке, беспокоило Глеба.
Лететь нам в деревню – совсем немного времени, но погода была нелетная, – Глеб решил выходить на лыжах. Я опасался, что длинный переход ему не по силам, это было видно (мне не нравились его глаза), и время для больших переходов совсем неподходящее: глубокий неслежавшийся снег – рыхлый, широкие камусные лыжи и те проваливаются глубоко.
* * *
Вечером я достал из-под крыши берестяной короб. Постелил на дно немного осоки и лосиной шерсти. Утром мы сложили на карточку весь груз: топоры, тушки птиц и зверьков, целлофановый мешок с фотопленками и дневниками. Лайка накормила щенков, я собрал их в короб, закрыл сверху мешковиной, поставил на карточку сзади. Нарточка была маленькая. Они там гудели. Я сбивал посохом снег с ветвей, прокладывал лыжню и тянул лямку. Лайка озабоченно семенила за коробом, и шел Глеб на длинных, голых, не подклеенных камусом лыжах. Отец щенков был тяжелый, проваливался и отставал – полз на брюхе. Время от времени мы останавливались. Я стряхивал снег со спины, поднимал капюшон, снимал лямку и шел назад, к нарте; расстилал мешковину. Лайка, потоптавшись, укладывалась на ней, лизала соски. Я вынимал щенков из короба, и они переставали гудеть, сосали. Глеб снимал с плеча винтовку и рюкзак, сбрасывал снег с валежины и садился. Задняя собака догоняла нас, укладывалась окусываться. Все мы тогда недолго отдыхали.
Чай кипятили на лыжне во второй половине дня. К вечеру останавливались чаще. Был небольшой мороз, и надо было время от времени оттирать соски ладонью. Лайка тоже проваливалась, соски, голые, касались снега – и замерзали.
Я шел впереди, потому что у Глеба узкие лыжи. Шагать первым было не очень тяжело: до следующей избушки под свежим снегом тянулась наезженная нами тропа – лыжи тонули не очень, и не надо было выбирать путь между деревьями. Глеб отставал иногда: доставал дневник и делал записи, когда попадался какой-нибудь след; один раз он фотографировал глухариную поедь: птица бродила, клевала хвою маленького кедра и тут же под снегом ночевала. Я измерял посохом глубину снега, – в осинниках покров был больше метра, в пихтачах и ельниках немного меньше. На открытых болотах снег был невысокий и плотный.
Сени этой избушки замело, трубу пришлось откапывать; на внутренней стороне двери, в пазах меж бревен и с потолка свисали хлопья куржака. Я отвязал короб со щенками, перенес его в избушку. Собаки протиснулись раньше и улеглись окусываться. Мать щенков скусывала лед с очесов на задних ногах и между ногтями, а щенки сосали: они сосали жадно. Огонь в трубе гудел, но эта избушка была большая, не прогревалась скоро, куржак таял, стоял туман. Здесь у нас оставалось много нарубленных дров, спальные мешки, две половины лосиной шкуры и продукты: немного сливочного масла, вермишель, две банки мясных консервов, половина тушки большого глухаря и чай, – все съестное подвешено от мышей к матице.
В избушке был приемник, и я включил его: шел репортаж из Португалии. Все дела там после революции упирались в межпартийную борьбу. Фамилия нашего журналиста была знакомая, я читал его рассказ о фавелах Рио, о карнавале Рио, и все запомнилось; и там и здесь этот человек хотел рассказать о сложных вещах попроще и донести важные детали, а самое главное – не отходить от правды; голос иногда заглушали звуки эфира и не все можно было разобрать, но мне нравилось, как он рассказывал.
Мы знали, на какой частоте работает радиостанция рыболовного участка, можно было слушать ее. Было время вечерней связи, хотелось узнать, летают ли самолеты к рыбакам. Их переговоры были слышны очень хорошо, ну словно бы они находились рядом. Какой-то рыбак на дальнем озере все требовал у своего начальства вывезти больного напарника. Они были вдвоем уже долго, одного, похоже, тайга доконала, поэтому товарищ кричал в микрофон:
– …Когда пришлете санрейс?! Когда заберете его?.. Надо прилететь: он уже вторую неделю 262-й автобус за озеро искать ходит! Вот каждое утро надевает лыжи и чешет на тот берег, – говорит, что пошел встречать жену и детей!.. Вывезти его надо! Сети высматривать – а я следить должен, как бы он чего не сотворил!.. Заберите его – какой тут автобус, какие дети!..
Рыбак с озера просил с большой настойчивостью. Ему отвечали, что санитарный самолет летал, но их озеро не нашел: видимости нет никакой, но прогноз хороший, самолет вылетит снова и найдет их сразу.
В избушке стало теплее, мы накормили собак болтушкой из горячей воды и вермишели, сняли штормовки и бродни, повесили сушить над печкой, сели пить чай. Чай остался с прошлого посещения, чайный лед растаял быстро. Глеб рассматривал карту и сказал, что по такому снегу нам не дойти за два дня. Я предложил с утра до обеда топтать лыжню налегке и возвратиться, а послезавтра выйти задолго до рассвета. Он сильно-таки устал, но ночь в середине зимы длинная, я просыпался, варил глухаря, и мы ночью ели.
Когда в окошко прокрался серый свет, я поднялся, – Глеба уже не было. Свежая лыжня спускалась на реку и уходила меж лиственниц на том берегу. «Он пошел прокладывать лыжню. Ему неприятно, что я все время должен идти впереди, и сегодня он решил проложить лыжню сам. Плохо, – так думал я, – это его ошибка».
Он хотел промять своими лыжами широкий след и пошел к деревне напрямик, – лыжня будет собирать долины многих ручьев: крутые склоны и густые пихтачи; с нартой по следу не протащиться. Он не знал, что надо сначала пройти вверх по реке два километра, свернуть в устье маленького ручья, подняться по нему к самой вершине – подъем плавный и на водоразделе нет крутых мест, кедры стоят негусто, хорошо идти по компасу. Первый раз я тоже попал в ручьи с крутыми склонами, их несколько, там, где река изгибается; потом удалось найти маленький ручей, по которому хорошо подниматься. Глеб ушел утром молча, и теперь мне надо топтать другую тропу.
Я накормил собак и вышел через полчаса, тянул след по реке, обходил наледи и свернул в тот ручей. Я помнил по нему все приметные места и рад был всем знакомым деревьям.
«Привет, приятели!» – здоровался я с ними. Лыжня встретилась в самой вершине, Глеб держал направление на деревню верно, я скоро его догнал; крикнул, когда увидел спину, – он быстро оглянулся и остановился.
– Ты шел по моей лыжне? – спросил он. Лицо было потное.
– Да нет… Тут моя старая дорога. Ты держал направление правильно, но надо сначала идти по реке…
– А я в ручьи попал, – сказал он. – Иду, думаю: «Как завтра нарту тащить будем?» – круто очень, лыжи снимал и руками за ветви цеплялся…
Он понял, что поторопился сегодня утром. Я рассказал ему о ручье, по которому хорошо подниматься. Он снял винтовку и повесил на сучок тоненькой ели стволом вниз. Была середина дня – самое время повернуть лыжи к избушке.
Мы возвратились и затопили печку. Надо было готовиться к завтрашнему переходу. Один щенок все время скулил, и я пробовал, есть ли в сосках молоко. Молоко из сосков выдавливалось.
Глеб принес лед с реки, чтоб варить еду себе и собакам. Мы легли спать рано, но нельзя было заснуть: скулил щенок. Это напоминало плач ребенка, иногда он умолкал, но ненадолго. Я вставал, укладывал его к соску, он лез к теплому месту на брюхе. Спать нельзя, когда стонет собака.
Он был черный, как волчонок, и нравился больше других. Они все были нужны, отец их старел и с каждым годом рисковал под ногами лосей все больше. От него родились хорошие щенки; я хотел держать всех, чтобы выбрать самого способного. Он успеет научиться у отца, они станут помогать мне, так и будет идти, – всегда можно будет на них надеяться.
Теперь один щенок и не пытался сосать. Я дал ему полтаблетки стрептоцида и феноксиметил-пенициллин. Но он стонал всю ночь, – и потом, когда надо было укладывать их в короб. Я подкладывал дрова и врачевал как мог.
Мы стали собираться до рассвета и скоро вышли в дорогу.
Снег перестал идти, быстрые неплотные облака скользили, было немного светло от прикрытой матовой занавесью луны; лес шумел, луна иногда открывалась, – и резкие тени шевелящихся под ветром деревьев беспокойно качались. Проложенная вчера лыжня смерзлась, нарта катилась хорошо; в одном месте поверх реки выступила наледь, ее пришлось обходить, но не очень далеко. В долине ручья тоже было не слишком темно, к концу лыжни пришли с рассветом, и Глеб снял с дерева винтовку. Теперь идти стало тяжело: лыжи тонули, оставалась колея, и собаки ползли в ней.
Мы должны были пересечь ручей Крутой, долина его очень широкая, вдоль ручья одно за другим идут безлесные болота, и перед этим спуск совсем нетрудный: стоит проложить лыжню наискосок по склону – и с нартой съезжать легко.
Мы решили обедать у спуска в долину. Лучше было оставить нарту, чтоб проложить дорогу дальше. Глеб принялся рубить возле нее сушину для костра. Я чувствовал: он думает, что снег очень тяжелый, что одному все время мять лыжню трудно. Но мне было не слишком тяжело. Я говорил себе, что лучше знаю, куда идти, а раз так, то считаться, кто больше сделает, кто меньше – не время; тот идет первым, кто держит направление лучше, и коль надо не пропасть – это мое дело. «Мять дорогу и тянуть лямку – твой пай работы!» – сказал бы Яша Черных, охотник из народа кето, мой сосед по участку на промысле.
На промысле – там мять тропу тоже важное дело – хорошо было возвращаться в избушку, хотя и устал: избушка теплая, напарник приходил раньше и успевал затопить железную печку, согреть чай; а когда зимовье холодное – это значило, что ты пришел первым и затопишь печь, которая накаляется докрасна сразу, и согреешь чай к его приходу, ему будет приятно. А если не придет – то это ничего, следы увели к другой избушке, и он заночевал там или у костра, у соболиного убежища, окруженного сетью обмета; важно, что ты держишь для него наготове чай и много-много дров сушить одежду, потом он будет делать то же для тебя, и самое главное: каждый у костра знает об этом.
Еще хорошо вдвоем на лосиных охотах: вытаскивать набитый тальником желудок одному тяжело, если бык старый; и возить мерзлые части туши одному долго, а вдвоем веселее и быстрее, особенно в сильные морозы, когда лезвие примерзает к теплому мясу, хоть от злости убейся, – снимать шкуру и разделывать тушу очень утомительно, пальцы прихватывает и надо держать костер и горячий чай.
Я размышлял и тянул лыжню в долину, и встретил следы лосей у самого ручья. Его занесло, везде неровные канавы, которые промяли звери, и их лежки среди тальника, – сохатым хорошо было здесь: тихое место и ручей богатый, тальника было много.
Снег в долине и на той стороне, на подъеме, был очень глубокий. Пообедав, мы перевели собак на сворках через свежие лосиные следы, лайки визжали и рвались, Глеб тащил на поводке одну. Мать щенков тоже хотела ползти по этим следам, но я привязал ее к заднему копылу нарты. Собаки чувствовали, что мы торопимся в деревню, и о лосях скоро забыли. На этом длинном подъеме тоже надо было прокладывать лыжню налегке и возвращаться за нартой; времени уходило много, потом пошли ровные места с редким кедрачом, но попадались чистые березники и осинники, снег в них рыхлый, и я уже не мог идти и говорил себе: «Ну, парень, вперед науку двигать – унылое это дело!» – и останавливался, надо было отдыхать часто.
В конце дня попались три соболиных следа: три зверька шли от Енисея. С осени много их двигалось в пойму реки – искали сытые места, а теперь три шли обратно. Глеб прошел немного по следам, пока я мял дорогу. Я так подумал, что это для него важно, но мы о соболях не говорили. Впереди должна быть просека, каждый просвет казался ею. Открылась она неожиданно после наступления темноты: царапина на теле земли, сделанная когда-то мощным бульдозером геологов, мы потянулись по ней, заглядывая вверх, на вершины деревьев, чтобы на фоне неба разглядеть сушину для костра.
* * *
Я ломал пихтовые лапы, чтоб устроить щенкам лежанку. Мать свернулась и лизала соски. Весь день щенок стонал без перерыва, два других громко чмокали и потихоньку гудели. Лайка вертелась на пихтовых ветках, ложилась и вставала – два щенка, присосавшись к животу, ненадолго повисали. Весь день соски тянулись по снегу, и хотя они болели, молоко не пропало. Черный щенок карабкался на брюхо, где было тепло. Мать рычала: она от него отказалась. Я не хотел убивать его.
Лыжами выгребли в снегу яму для огня и лежанок, разожгли костерок. Надо было подкладывать сучья побольше. Шла работа: валить деревья на кряжи. Тонкие кряжи шли на лежанки. Три-четыре бревна и охапка хвои – это то, что надо. Сушины были кедровые – огонь горел весело. Снег в котелке таял быстро – мы пили чай и ели консервы. Костер стал жарким, хорошо было сушить бродни, портянки, штормовки. Вода из ткани испарялась быстро – несло паленым сукном. Мы шли весь день и все делали молча. Было ясно, что помочь щенку можно будет только в деревне. Если он доживет, конечно. Вот о чем я думал. Мы не говорили, но я знал, что и Глеб так считает.
Коротать ночь у костра не трудно, но отдых плохой: одна сторона тела жарится – другая замерзает. Костер прогорает, и надо подкладывать кряжи. Вставал тот, кому становилось холодно. Я взял щенка на лежанку и поил бульоном. Он задыхался, но пищу не принимал, лез с лежанки, когда я засыпал. Пришлось положить его лайке на брюхо.
Кряжи лизал огонь, я думал о том, что тщедушный человек со вскрытым черепом, который сидел на охапке хвои рядом, наверное, не сможет жить, как другие, долго, и еще о его девушке из университета, которая плакала. Теперь, если она приедет, вдвоем им будет хорошо, очень хорошо. В его комнате на базе все было подготовлено к приезду, она войдет – ей будет приятно, и он спешил, чтобы она не успела почувствовать себя одинокой. Я вспомнил похожую встречу, из которой вышла смешная история, а у них складывалось намного лучше, и я думал и ждал: «Чем все это кончится?»
Глеб пил чай, я спросил:
– Ты написал ей до операции или после?
– А что?.. Это важно?
Я промолчал.
– …После, – ответил он.
Я ничего не сказал. Не хотел, чтобы он переживал, если она не приедет: надеяться можно, а рассчитывать – кто же рассчитывает?
– …Что, ей под силу все бросить?
– Не по силам, но я надеюсь. Думаю, да, – сказал Глеб.
– В деревне долго не продержаться – сначала приедет, потом уедет.
– Если решится – не уедет! – добавил он.
…На следующий день я привязал старого пса к тоненькому кедрику у стана, мы с Глебом пошли назад по лыжне: разбрелись тропить, соболей, что встретились вчера, и сговорились возвратиться, когда чуть стемнеет. Мы взяли по консервной банке кипятить воду, заварку, галеты и немного масла. Мой соболь то плелся, то бежал маленькими прыжками, и следы его припорошило. Он обследовал валежины, где бывали мыши, и проверял глухариные лунки; следы глухарей он не пропускал, даже старые. Я считал пары шагов, отмечал все в полевом дневнике. Зверек был несытый, он никого не поймал. Из-под одного дерева он вытащил кости глухариной ноги, мяса на них давно не было, его давно объели мыши. Рядом было место, где соболь вчера отдыхал: временное убежище в дупле валежины. Он лежал там пару часов, если судить по снегу на следах. Зверек сильно рыскал по тайге, но в общем двигался на восток. Я прошел по следу четырнадцать тысяч шагов, вскипятил чай, и время было поворачивать лыжи в лагерь – соболюшка побежал дальше.
На стане Глеб разжигал костер. Я сказал о соболе, что зверек не местный; Глеб шел по следу самочки, тоже на восток, – оба зверька были мигранты; Глеб посмотрел мой дневник с абрисом. «Встречная миграция», – сказал он об их движении. Он был возбужден, как золотоискатель, который узнал, где проходит жила.
Это было важно для него, раз так – важно для кого-нибудь еще. Он плохо выглядел, но настроение было хорошее: рад был, что нашел нечто малое, что совсем мало может изменить представление о порядке вещей в природе. Так немного, что этого, пожалуй, никто, кроме нескольких таких же как он, и не заметит. Но он готов ползти по следам. Все выглядит так, что это не важно, а потом вдруг оказывается, что очень важно. «Сильно важно! Сильно важно!» – сказал бы мой приятель Яша Черных, охотник-кето. Так рассуждал я, когда мы принялись валить сушины.
Одежда промокла от снега, и нужен был большой костер. Я накормил собаку из котелка сладкой водой с галетами. Старому псу, отцу щенков, я тоже дал одну галету: «Дней пять назад, в то время, как твоя подруга рожала, ты тазик каши съел?..» – спросил я, и сам ответил за него:. «Съел! Тогда была паника, ты воспользовался этим. И теперь нечего смотреть прожорливыми глазами!» Мы с ним беседовали. Глеб сидел на лежанке, клевал носом, двумя руками поджаривал на огне портянку.
Ветер стихал, звезды были чистыми; период ослабления морозов заканчивался.
– Глеб, – решил я поговорить, когда он пытался зажарить подошвы бродней, – такой метод тебе не под силу. Тебя ненадолго хватит. Диссертацию можно написать, не выезжая из биостанции, а тушки, дневники и зобы принесут профессиональные охотники. Нам так бы дойти, а ты пополз по следу. Тебя, парень, хватит на немногое.
– Так-так… Одному, конечно, все не сделать… но, по-твоему, как надо: «Эй, меньшой, скажи меньшому, пусть меньшой меньшому скажет, пусть меньшой козу привяжет!» Дневники-то, конечно, принесут, но это еще не все. Если я не захочу ходить – и у тебя будет мало охоты. Никто не захочет… – Он засмеялся. – Вся наука пойдет вбок… Через двести миллионов лет, когда солнце начнет гаснуть, – все перемрут, как мамонты, потому что не будут готовы…
Он продолжал, но не очень долго. Он вспомнил, что глухари потребляют биомассу, накапливающуюся благодаря солнцу, такую обыкновенную, как хвоя, и они ее перемалывают в желудках камешками с галечниковых россыпей.
– Глеб, – сказал я позже, – если мы задержимся в тайге больше чем на сутки, то о нас скажут: «Наука, ты их уже не бойся. Они тебя больше не тронут…»
Когда лежишь на хвое и в полусне подставляешь один бок горячему огню, а другой – морозу и мозг продолжает работу, – вся научная работа представляется чем-то вроде тяжелой нарты, которую надо тащить наверх, и остановиться тебе нельзя, иначе она поползет назад или вбок, тогда, через тьму лет, когда солнце начнет гаснуть, его дети и мои – все мы перемрем, потому что не будем готовы.
* * *
Утром мы потащились сначала просекой – она уходила влево от направления в деревню, и надо было сворачивать. Ближе к Енисею шли березняки и осинники. Полозья очень часто подрезали лыжню, и нарта валилась набок. Снег уже не шел, во второй половине дня мороз стал забирать. Иногда на ходу я оглядывался и смотрел на собак и на Глеба. Соски у лайки на белом выглядели очень красными, Глеб – очень усталым. Я старался смотреть пореже: опасался, что оглянусь и кого-то из них не увижу. Так я считал, но это было не совсем верно: на собак-то можно было надеяться, а на него? Не очень.
Ноги идут, хоть и устал, а лыжи – свинцовые, и плохо, что отказывает сердце. Мы заваривали на стоянках чай как можно крепче и бросали в кипяток масло. Было ясно, что если с Глебом что-нибудь случится, тогда придется туго: ночью мороз будет опасным. Я брел и, чтоб меньше уставать, вспоминал все приятное, что со мной бывало. Время шло быстро, а останавливаться хотелось все чаще. Глеб хотел взять лямку нарты – на ровном месте он смог бы тянуть ее по следу широких лыж, – но я опасался, что здоровье совсем изменит ему. Потом, когда осталось идти немного, можно было поменяться, он надел лямку, я надел его рюкзак.
Появился и словно проплыл мимо пень под снежной шапкой – мы вышли на лесосеку за деревней. Дорога была накатана трактором, хлыстами, которые он тащил.
Мы запрягли в нарту обеих собак, положили поверх груза рюкзак и лыжи – и ногам стало легко, и нарта скользила легко.
* * *
Я останавливался в избе лесника Василия, – по вечерам лесник уходил в клуб играть на бильярде, – нас встретила его мать. Мы узнали, что рейсовый самолетик в деревню, где у биостанция, полетит завтра, если будет летная погода. Хорошая погода, по всему видать, будет.
Мы подались к врачу со щенком. Глеб ослаб, но захотел идти тоже. Было поздно, девушка-врач была дома, она согласилась полечить малыша, мы втроем пошли в амбулаторию. Щенок не умолкал трое суток, не ел ничего – столько сил в маленьком тельце. Я не хотел убивать его – если сделать это, будешь думать, что убил лучшую из собак. Врач предприняла, что можно: сделала укол и дала таблетки.
Глеб сказал ей, что ему тоже нужна помощь. Он говорил и улыбался – мы втроем улыбались. Я не догадывался, что он не шутит, она тоже ничего не поняла: его слова могли быть нехитрой шуткой. Глеб добавил, что в животе дыра и показал на нижнюю часть живота. Он пояснил, наконец, что разошелся шов аппендицита, и принялся раздеваться. Рана была припухшей, но кровоточила мало. Женщина промыла рану, стянула брюшину и заклеила шов пластырем. Я помогал держать кожу так, чтобы разрез сошелся. «До больницы продержится!» – сказала женщина. Она прокипятила шприц и сделала укол в мякоть сзади.
Я нес щенка за пазухой.
– Что ты молчал? – спросил я у Глеба, он дернул плечами, хотел сказать что-то – и промолчал.
Мать лесника, тетка Шура, насильно поила щенка горячим молоком и говорила, что он выживет. Он стонал совсем тихо, не. хотел остановиться, будто бы мог знать, что не будет жив, если перестанет. И точно: как только затих – умер.
Глеб умылся, разделся и лег на кровать.
Собака лежала со щенками на дорожке возле печки и не шевелилась. Я смазывал соски подсолнечным маслом, два щенка между лап спали; я лечил ее и слушал радио. В это время открылась дверь, с клубами морозного тумана вошел мой приятель-охотник – кето Яша – мужчина маленького роста и веселый человек.
Он ведет промысел с женой, остальная часть семьи в это время в интернате. Остальная часть – это шесть девочек. Ему нужен был сын в напарники на охоту, и они с женой хотели сына, но каждый раз заполучить парня не удавалось, и каждый раз они ругали друг друга, разбирались, кто больше виноват, что идут одни девочки. Так и шло, а пока жена ходила в тайгу вместо напарника.
Я раньше не знал в этой деревне никого, надо было в нее выходить, и один старик из поселка Мирный сказал, что можно переночевать у Черных Яши, его изба в верхнем конце, я пришел усталый. Утром, когда проснулся, увидел, что на другой кровати спят дети и еще на одной кровати – дети, а он с женой – на полу. В следующий раз я остановился у лесника. Всем в деревне надо было говорить, почему я перестал останавливаться у Яши.
Я приходил к ним в гости каждый раз, если было время до рейсового самолетика, который мы с Глебом сейчас ждали. А теперь Яша пришел сам. Он стал звать в гости:
– Айда ельчиков жареных есть?
– Это можно…
Я сказал, что со мной напарник, и показал на кровать.
Яша подошел к кровати и стал теребить одеяло.








