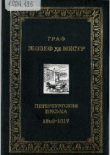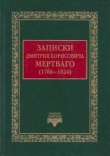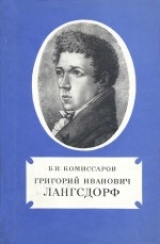
Текст книги "Григорий Иванович Лангсдорф"
Автор книги: Борис Комиссаров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 9 страниц)
За время плавания от Копенгагена Лангсдорф дружески сошелся с Горнером, сблизился и с Левенштерном, но его отношения с Тилезиусом продолжали оставаться весьма натянутыми. Это не мешало, однако, соперникам– натуралистам вместе принимать участие в любительских концертах, которые устраивали на «Надежде». «Верным знаком хорошей погоды является оживление в каюте,– писал Левенштерн. – И какую музыку там можно слышать! Ромберг играет на первой скрипке, Резанов – на второй скрипке, Тилезиус – на басе, Лангсдорф – на альте, Фридерици – на первой флейте, Горнер – на второй флейте. Мы, остальные, являемся слушателями и судьями одновременно.. .».13
8 (20) октября русские корабли подошли к Канарским островам и сделали недельную остановку близ городка Санта-Крус-де-Тенерифе. Пребывание здесь вернуло Лангсдорфа в уже знакомый ему испанский мир. Он сравнивал местные и испанские нравы и находил много общего. Его занимают одежда населения, пища жителей острова и способы ее приготовления, а также виноторговля. Рыбный рынок поразил Лангсдорфа своим богатством. Наблюдал он и различные способы рыбной ловли. Особое внимание Лангсдорфа привлекло геологическое строение острова Тенерифе, носящее следы интенсивной вулканической деятельности. Хотя время года не позволило ему подняться на пик Тейде, возвышающийся более чем на 3700 м, но он предпринял несколько минералогических экскурсий, и его коллекции пополнились пемзой, «роговым камнем», а также найденным в северо-восточной части Тенерифе «мелкозернистым гранитом, перемешанным с шерлом». Окрестные горы были испещрены гротами; в некоторых из них сохранились останки, а иногда и мумии коренных жителей острова – гуанчей. В свое время в Лондоне Джозеф Бэнкс подарил Лангс– дорфу мумию аборигена Тенерифе, а теперь путешественник сам побывал в одной из таких пещер, расположенной в верхней части труднодоступной горы.
2*
19
Купец Армстронг, закупавший провизию для экспедиции, предложил морякам осмотреть остров. Лангсдорф был, разумеется, в числе участников этой поездки. На мулах и небольших местных лошадках путешественники добрались до г. Ла-Лагуна – тогдашнего административного центра о. Тенерифе, наблюдали народный праздник в селении Санта-Урсула и, наконец, достигли городка Ла-Оротава, расположенного в северо-западной части острова. Здесь Лангсдорфа очень заинтересовал ботанический сад, основанный испанцем маркизом де Новой в 1795 г. Идея де Новы была грандиозной. Он хотел выводить на Тенерифе приспособленные к местному климату сорта полезных растений Америки, с тем чтобы затем их можно было выращивать в Испании. Мадридское правительство одобрило начинание маркиза. Последний вложил в него большие личные средства, выписал из Англии садовника и высадил уже около трех тысяч редких растений из Мексики, Перу и Чили. Однако никаких денег из Мадрида он так и не получил. Энтузиазм де Новы был понятен Лангсдорфу, и он с грустью думал о том, что этот удивительный сад скоро будет запущен.
11 (23) октября Лангсдорф вернулся в Санта-Крус и в последние перед отплытием дни закончил две рукописи, в которых кратко изложил свои накопившиеся путевые наблюдения. Одна из них была послана в Петербургскую Академию наук,14 а вторая, по-видимому, Блуменбаху. В 1805 г. последняя появилась в веймарском журнале «Magazin fьr den neuesten Zustand der Naturkunde», открыв там целую серию записок и писем Лангсдорфа, посылавшихся им из экспедиции.15
Переход до острова Санта-Катарина (у берегов Бразилии) , где Крузенштерн решил сделать следующую остановку, длился почти два месяца. Главным занятием Лангсдорфа в ту пору стало исследование причин свечения морской воды. Это явление занимало многих ученых. Гумбольдт, например, полагал, что причиной свечения является «фосфорический газ», выделяющийся при гниении. Академик П. Б. Иноходцев, излагая в 1805 г. в «Технологическом журнале» результаты последних исследований английских ученых по этому вопросу, писал, что «свет морской воды происходит от разрушенных частиц умерших морских рыб».16 В качестве доказательства приводился опыт с подвешенной в подвале свежей
20
сельдью, которая через двенадцать часов начипала светиться. Свечение моря объясняли также наличием в морской воде электричества.
Примерно через неделю после начала исследований Лангсдорфу стало ясно, что светятся не продукты гниения, а живые организмы. В одном из писем с Санта-Катарины он отмечал, что с 23 октября (4 ноября) посвятил себя изучению организмов, вызывающих свечение моря.17 Ежедневно он вылавливал «мелких раков, раков-богомо– лов, гамарусов (разных форм), медуз»18 и тщательно рассматривал их под микроскопом.
Первая попытка Лангсдорфа доказать свою точку зрения не убедила Крузенштерна. «Так как исследование с помощью микроскопа было сделано только на другой день, то еще не ясно, были ли живы тела в тот момент, когда светились, или уже шел процесс их гниения», – писал капитан «Надежды» в своем дневнике.19 Однако 30 октября (11 ноября) ученый продемонстрировал своим спутникам опыты, показавшие его несомненную правоту. «Лангсдорф нашел десять родов микроскопических животных, которые сильно светятся, но не нашел никаких чешуек или мертвых тел, – писал в этот день Левен– штерн. – Если нагревать воду, то свечение прекращается».20 Наблюдая за светящимися организмами под микроскопом, Лангсдорф сделал их многочисленные зарисовки, а также начал собирать уникальную спиртовую коллекцию наиболее крупных из этих представителей морской фауны.
Открытие Лангсдорфа вполне согласуется с современными научными данными, свидетельствующими о том, что свечение моря связано с жизнедеятельностью многих его обитателей, от морских бактерий и простейших (двух подклассов микроскопических жгутиковых – Dino– flagellata и Cystoflagellata) до кишечнополостных (медузы, сифонофоры и др.), оболочниковых (сальны, пирозомы) и ракообразных. «Но почему животные сии в иное время больше светят, нежели в другое? – спрашивал сам себя Лангсдорф в письме из Бразилии Крафту, которое было вскоре опубликовано в переводе на русский язык. – Сие составляет особенный вопрос. Наблюдение ветров, состояния воздуха, скопления в атмосфере электрической материи не достаточествует еще к совершенному объяснению сего достопримечательнейшего явления... может быть,
21
в последствии времени удастся мне заметить такие явления, которые искуснейшему физику доставят предмет дальнейшего исследования».21
Помимо проблемы свечения моря, Лангсдорф совместно с Горнером с середины октября регулярно занимался измерением поверхностной и глубинной температур воды с помощью Гельсовой машины и термометра Сикса,22 а также исследованием солености океана.
Все эти занятия не мешали Лангсдорфу, по наблюдениям Левенштерна, использовать любую возможность для биологических сборов. Он гонялся за бабочкой, вылетевшей из кочна капусты, предназначенного для камбуза, искренне радовался, когда на подходе к Бразилии удалось наловить маленьких ярко-красных рачков, придававших воде кровавый оттенок, непрерывно следил за тем, что кто поймал, и пытался заполучить неизвестные экземпляры для своих коллекций. «К обеду один из наших матросов поймал дельфина длиной в три с половиной фута,–писал Левенштерн 2(14) декабря. – Мы купили его у матроса и вызвали повара, чтобы посоветоваться с ним, как его приготовить, а в это время выставили его на палубе для осмотра. Как пара голодных волков, Лангсдорф и Тилезиус набросились на рыбу. Лангсдорф всеми силами старался набить чучело, но мы, голодные, не допустили этого. Теперь они искали „рыбных вшей“ и насекомых, которые присасываются к рыбам. Лангсдорф наловил свыше дюжины.. .».23
Постоянная занятость отвлекала Лангсдорфа от той подчас весьма тяжелой обстановки, которая сложилась на «Надежде» из-за разногласий Крузенштерна и Резанова и расколола участников экспедиции на отдельные группы. Левенштерн, искренне преданный Крузенштерну, относил Лангсдорфа к группе «колеблющихся». Это положение было для ученого достаточно мучительным, так как он чувствовал себя обязанным и тому и другому. Между тем симпатия к Крузенштерну, который был к Лангсдорфу очень внимателен и нередко брал сторону натуралиста в его спорах с Тилезиусом, начинала преобладать. «Россия должна гордиться Крузенштерном», – писал Лангсдорф на родину с о. Санта-Катарина, отмечая «прекрасный характер» и «глубокие знания» капитана «Надежды».24
Шестинедельное пребывание на Санта-Катарине про¬
22
извело на Лангсдорфа глубокое впечатление и надолго осталось в его памяти. Еще до того, как показались бразильские берега, он с интересом наблюдал за массой ярких южноамериканских бабочек, отнесенных ветром на 60—80 миль в океан и столь непохожих на скромную корабельную капустницу, которой он довольствовался несколько дней назад. «Уже в Португалии я. получил представление о богатстве природы Бразилии, но то, что я здесь увидел, превзошло все мои ожидания. Мне кажется, что я вижу какой-то новый мир. Его великолепие поразило меня», – писал Лангсдорф в те дни.25
Многолетнее пребывание в Португалии, наводненной и людьми, побывавшими в Бразилии, и продуктами ее хозяйства, общение с покровительствовавшим ему министром Пинту де Соузой Коутинью, который во второй половине XVIII в. был губернатором бразильской* капита– нии Мату-Гросу, наконец, свободное владение португальским языком —все это помогло Лангсдорфу больше других его спутников увидеть и понять на незнакомой земле. Бразилия была тогда почти неизвестна ученому миру – Португалия держала свою колонию в строгой изоляции. Даже Гумбольдта португальские колониальные власти не допустили на территорию Бразилии.26 Корабли Крузенштерна доставили туда по существу первых в XIX в. европейски образованных ученых.
Со времени прибытия в Бразилию Лангсдорфом, как никогда, овладело настойчивое стремление больше успеть. «Всегдашняя поспешность этого человека действует мне на нервы», – признавался Левенштерн.27 Одно время Лангсдорф жил на «Надежде», затем вместе с другими путешественниками переселился на остров – в город Носса Сеньора ду Дестерру и, наконец, уже один на некоторое время переехал на континент в дом местного натуралиста Матеуша Кардозу Калдейры, с которым его познакомил глава португальской администрации на Санта-Катарине Жоаким Шавиер Курраду. С упомянутым натуралистом Лангсдорф предпринял поездку в местность Сертан душ пикадуш, а в конце января 1804 г. вместе с лейтенантом М. И. Ратмановым, Е. Е. Левен– штерном и И. Горнером принял участие в экскурсии на лодке вдоль побережья острова. Везде Лангсдорф неутомимо пополнял свой быстро разраставшийся гербарий, коллекции членистоногих (особенно ракообразпых и
23
насекомых) и рыб. «Нет, кажется, ни единой земли, в которой бы в столь короткое время можно было собрать так много редкостей, – писал Лангсдорф Крафту. – В собрании моем есть также разные новые породы мелких морских раков. Набитые жабы, также ящерицы, рыбы, чужеядные и другие растения, морская капуста составляют прочую часть моих редкостей».28 «Лангсдорф неустанно собирал насекомых, – писал Тилезиус лейпцигскому анатому профессору И. X. Розенмюллеру, – и добыл прекрасные экземпляры».29 Найдя паука из семейства пти– цеядов (Avicularidae), Лангсдорф вступил в спор с Тиле– зиусом, утверждавшим, что подобные пауки способны уничтожать мелких тропических птиц и их яйца. В то время они не пришли к единому мнению и, описывая позднее свое путешествие, Лангсдорф придерживался отрицательной точки зрения по этому вопросу. Только в 1863 г. Генри Бейтс в своей знаменитой книге «Натуралист на реке Амазонке» показал, что Лангсдорф ошибался.30
Население и хозяйство Бразилии привлекали Лангс– дорфа ничуть не меньше ее природы. На Санта-Катарине он впервые начал вести планомерные этнографические и страноведческие наблюдения, проявляя при этом основательность и внимание к деталям, достойные представителя школы Блуменбаха. Прежде всего ему бросились в глаза одежда населения острова, пища и напитки жителей, обычаи гостеприимства, манера общения, танцы, особенно своеобразные негритянские, пение, музыкальные инструменты. Многое он сравнивал с виденным в Португалии, отмечая совпадения и различия. Его заинтересовало употребление йерба-мате31 вместо чая, и он разузнал о различных способах заварки этой травы и о том, как пили столь странный для европейца напиток. Лангсдорф стремился найти объяснение каждому неизвестному ему обычаю и, как правило, находил его. Так, обязательное мытье ног теплой водой было, как он выяснил, связано с существованием вредных насекомых, впивавшихся в кожу стопы; использование специальных луков, из которых стреляли камнями и закаленными глиняными шариками, вызывалось дороговизной ружей и малым количеством пороха, а ношение длинных ногтей на пальцах рук должно было показать, что этот человек не занимается тяжелой домашней работой.
24
Не ускользнули от внимательного взгляда путешественника и планировка улиц Носса Сеньора ду Дестерру, и материалы, из которых строились дома, и товары в лавках. Кое-что он явно узнал от местной администрации и жителей: численность населения на острове и в городе, число городских строений, сведения о бегстве негров-ра– бов, о нападениях индейцев в глубинных районах страны и т. д.; другие данные собрал сам – например, о ценах на продукты питания, скот, поместья. Рабство, работорговля, жестокое, обращение с невольниками вызвали у Лангсдорфа, как он писал впоследствии, «совсем новое чувство глубокого возмущения».32 И он выясняет мельчайшие подробности о торговле африканскими неграми, например о разнице в цене раба, перенесшего оспу и еще не болевшего ею, знавшего и не знавшего какое-либо ремесло, владевшего и не владевшего португальским языком.
Познакомившись с состоянием местного земледелия, скотоводства, рыболовства, ремесленного производства, торговли, Лангсдорф пришел к выводу, что экономический упадок в значительной мере связан с колониальным статусом Бразилии. Этим, по его мнению, объяснялась малочисленность населения, а также отсутствие просвещения и медицинской помощи.
На Санта-Катарине Лангсдорф не только собирал коллекции и делал записи в дневнике. К этому времени относится и его первый дошедший до нас рисунок «Внутренний вид жилища в Бразилии», обнаруживший у путешественника незаурядные способности художника.33
23 января (4 февраля) 1804 г. «Надежда» и «Нева» ушли с Санта-Катарины. Начиналась наиболее сложная часть плавания. Кораблям предстоял самый длительный переход, в течение которого они должны были обогнуть мыс Горн. Лангсдорф продолжал свои гидрологические наблюдения, занимался размещением и обработкой коллекций, собранных в Бразилии. Вскоре после отплытия к нему обратились за помощью и как к опытному хи– рургу. «В Бразилии графу Толстому в стопы попали песочные черви, – писал Левенштерн. – Они так малы, что проникают в поры человека, откладывают множество мелких яиц, которые, если их вовремя не вырезать, вызывают язвы на стопе, причиняя сильную боль...»; Лангсдорф успешно оперировал Толстого.34
25
После ухода с Санта-Катарины на «Надежде» стали строго регламентировать потребление воды. Левенштерн, служивший во флоте уже больше десяти лет, еще до плавания с Крузенштерном побывавший в северных и южных морях и привычный к превратностям морской жизни, не без иронии, а иногда и с плохо скрываемым раздражением писал о поведении штатских участников плавания, нередко стремившихся получить какие-либо прибавки к своему дневному рациону. Трудно в это время было и Лангсдорфу, еще никогда не пускавшемуся в столь серьезные морские путешествия.
Тем не менее молодой ученый принялся еще за одну достаточно сложную работу. В апреле, когда корабли должны были пересечь тропик Козерога, Крузенштерн попросил Горнера и Лангсдорфа взять на себя ежечасные наблюдения за атмосферным давлением, температурой и влажностью воздуха. Предстояло, в частности, выяснить зависимость давления и вообще погодных явлений от положения Луны по отношению к Земле. В европейской науке конца XVIII в. этот фактор считался одним из определяющих климатические изменения. Ученые начали работу совместно, но вскоре, как вспоминал позднее Лангсдорф, «Горнер из-за зубной боли ревматического характера прекратил наблюдения».35 «Высоты барометра замечаемы были почти три месяца сряду, т. е. с 16 апреля до 5 июля, в каждый час днем и ночью, – писал впоследствии Горнер.– Таковой труд тягостен и в Европе, но утомительный жар между тропиками и продолжительное плавание требовали сугубого напряжения».36
Часто Лангсдорф вообще не ложился спать, а если и ложился, то ежечасно прерывал сон, чтобы записать показания приборов. Не зная характера ученого, трудно поверить, что он вообще способен был выдержать столь большие и длительные физические и нервные нагрузки. Свои ночные бдения Лангсдорф использовал и для дальнейших изысканий, связанных со свечением моря. Самоотверженность ученого завоевала ему большой авторитет и уважение всех участников плавания. «Лангсдорф неутомимо обогащал естественную историю сведениями о светящихся в воде животных, – писал Левенштерн 22 апреля (4 мая). – Целые ночи он сидел со своими сетями... и ловил в кильватере... Лангсдорф взял на себя и наблюдение за барометром, и благодаря ,его наблюдениям
26
(по совету Горнера) с помощью барометра, термометра, электрометра, гигрометра и флюгера, мы нашли, что свечение воды не имеет в себе ничего электрического».37
Через три дня «Надежда» бросила якорь у острова Нукухива, входящего в группу Маркизских островов, и простояла там десять дней. После тяжелого морского перехода, длившегося больше трех месяцев, Лангсдорф, не прерывая свои метеорологические наблюдения, приступил к исследованию Нукухивы. В письмах Крафту и Блумен– баху, написанных позднее из Петропавловска, он отмечал, что в окрестностях Маркизских островов его собрание «по натуральной истории умножилось особенно прекрасными новой породы морскими раками» и значительным количеством растений.38 И все же основное внимание во время этой короткой стоянки ученый уделил сбору материалов по этнографии, антропологии и лингвистике. Это легко объяснить. Лангсдорф впервые попал в «нецивилизованный» мир. Несмотря на то что в последней четверти XVIII в. в этой части Океании побывали Дж. Кук,
Э. Маршан, Д. Вильсон и другие европейские путешественники, нравы, обычаи, хозяйственный уклад островитян были почти неизвестны или, как убедился Лангсдорф, часто описывались неверно.
За несколько дней Лангсдорф собрал о жителях Нукухивы столько самых разнообразных сведений, что изложение их в описании его путешествия по своему объему в два с половиной раза превосходит главу, посвященную Бразилии. Большую часть этих сведений сообщили ученому два европейца, осевшие на Нукухиве, – француз Жан Батист Кабри и англичанин Эдуард Робертс. Результаты расспросов этих людей, перенявших обычаи островитян, Лангсдорф непременно сопоставлял и, помня наставления Блуменбаха, считал достоверным лишь то, что подтверждалось обоими. Много важных наблюдений сделал путешественник и сам, когда съезжал на берег. Так, 3 (15) мая Лангсдорф был участником небольшой лодочной экскурсии, предпринятой с целью осмотра близлежащей бухты. Возвратиться Лангсдорф и Тилезиус решили по суше, однако на обратном пути последний при падении ушибся, и натуралисты провели ночь у местного вождя, к которому их проводили островитяне.
27
Сведения, собранные Лангсдорфом о жителях Нуку– хивы, были не только обширны, но и очень разносторонни. В дневнике путешественника появились заметки, касающиеся общественного устройства, одежды, пищи, жилищ, лодок, утвари, украшений, обычаев, обрядов, религиозных представлений, элементов искусства нукухивцев. С особой тщательностью Лангсдорф изучил татуировку островитян. Он произвел также антропометрические измерения, составил словарь языка жителей Нукухивы, сделал несколько зарисовок.
Изучение народов Океании Лангсдорф продолжал и во время кратковременной стоянки близ острова Гавайи в конце мая (начале июня). Правда, на берег он не съезжал, но описал физический облик гавайцев, подплывавших к кораблю, их татуировку, лодки, замеченные у них болезни и т. д.
Расставшись у Гавайских островов с «Невой», которая пошла на о. Кадьяк, «Надежда» взяла курс на Камчатку. 10 (22) июня она попала в полосу штиля. Погода была жаркой. Борт корабля был раскален так-, что к нему нельзя было притронуться. Занимаясь в это время с лодки гидрологическими наблюдениями, Лангсдорф получил сильный ожог руки, причинявший ему мучительную боль. Между тем в последующие дни он продолжал все начатые ранее изыскания и установил, в частности, что и на южных и на более северных широтах светятся часто одни и те же представители морской фауны. Лангсдорф и Горнер заметили также, что при сотрясении светящихся организмов интенсивность свечения увеличивается. Этот вывод подтвердили последующие исследования. Они показали, что если свечение бактерий не зависит от движения воды, то свечение многих других организмов происходит лишь при неспокойном море.
Важное научное значение имели и законченные к приходу на Камчатку метеорологические наблюдения Лангс– дорфа. Уникальные в то время по своему масштабу и тщательности, они позволили, например, доказать, что колебания барометра не зависят от расстояния между Землей и Луной. Измерения температур воды на разных глубинах, проводившиеся Горнером и Лангсдорфом, были впоследствии использованы адмиралом С. О. Макаровым в его работе, посвященной исследованию Тихого океана.39 Благодаря наблюдениям, в которых принимал участие
28
Лангсдорф, было замечено, что соленость Атлантического океана больше, чем Тихого. В дальнейшем на это явление обратил внимание выдающийся русский географ А. И. Воейков и дал ему правильное объяснение.40
3 (15) июля «Надежда» пришла в Петропавловск, и Крузенштерн стал готовить судно к плаванию в Японию. С Камчатки Лангсдорф сухим путем отослал в Академию наук результаты своих метеорологических наблюдений и исследований светящихся морских организмов,41 а также словарь языка жителей Нукухивы.42 В Петербург были посланы также шкурки птиц и чучела животных, а заспиртованные рептилии и энтомологические коллекции были пока оставлены в Петропавловске с тем, чтобы отправить их в столицу на «Надежде» после ее возвращения из Японии.
На Камчатке положение Лангсдорфа как участника экспедиции существенно изменилось. Сравнивая деятельность Тилезиуса и Лангсдорфа, Резанов писал 20 августа президенту Академии наук H. Н. Новосильцеву: «Я не смею ценить таланты их, но сколько позволено каждому по наружности людей обсуживать, то основательность в заключениях последнего мне более нравится и, кажется, Академия в записках Лангсдорфа не найдет столько знакомого, как в записках другого. Он в трудах неутомим... Предприимчивость и деятельность сего человека, – продолжал камергер, – позволяют мне иметь и другие на него виды. Кроме природного немецкого языка, знает он латинский, французский, английский и португальский; при многих талантах его он и медик практикованный, и надеюсь, что японцам через то приятен будет; ежели торг с ними открыт будет, оставлю я его там с несколькими людьми, чтоб поставить твердую российскую ногу, доколе настоящего агента от двора учреждено не будет».43
За некоторое время до того, как было написано это письмо, Резанов принял Лангсдорфа в состав вверенного ему посольства и своей властью произвел его в надворные советники. Таким образом, Лангсдорф из вольнонаемного натуралиста, принятого на «Надежду» благодаря любезности руководителей экспедиции, превратился в члена весьма ответственной дипломатической миссии и – пока полуофициально – получил чин, соответствовавший капитану второго ранга. В состав посольства Резанова, кроме
29
Лангсдорфа, входили надворный советник Ф. Фоссе, майор Е. Фридерици, комиссионер Российско-американской компании Ф. Шемелин, а также поручик Д. И. Кошелев (брат губернатора Камчатки П. И. Кошелева) и офицер местного гарнизона капитан Федоров, принятые на борт в Петропавловске.
«Надежда» простояла в Петропавловске около двух месяцев. В это время Лангсдорф, впервые ступивший на землю России и имевший теперь все основания связывать свое будущее с русской службой, проявил особую заинтересованность в изучении Камчатки. Хозяйство полуострова, его люди надолго стали предметом размышлений путешественника и нашли серьезное отражение в его научном творчестве. Главной мыслью Лангсдорфа было предложить какие-либо улучшения, усовершенствования, реформы, причем в планах предусматривавшихся ученым преобразований уже в эту раннюю пору его деятельности можно было подчас отметить прогрессивные для тогдашней России буржуазные тенденции. «С отменным удовольствием устремил я в сие время первые мои взоры на сельские страны Камчатки... – сообщал Лангсдорф Крафту в письме, отрывок из которого был вскоре опубликован в переводе с немецкого. – Первая потребность для сей страны состоит в том, чтобы более заселить оную и иметь добрых землепашцев, ремесленников и промышленников. Здесь вовсе не достает тех познаний, которые в просвещенном государстве служат к удовлетворению первых необходимостей; как например: весьма бы нужно завести здесь гончарную работу, кирпичные заводы, варение мыла и соли и иметь искусных людей в ловлении китов, в солении и сушении рыб и пр.; так же весьма полезно бы устроить мельницы, обсушить болотистые места и проч. По изобилию различных физичёских предметов, здесь найденных, делаю уже я вообще заключение, что земля сия способна к большему усовершенствованию и заслуживает особенное внимание».44 В письме Блуменбаху, датированном 23 августа, Лангсдорф описывал физико-географические особенности Камчатки и подробно развивал мысль о том, что полуостров следует снабжать всем необходимым, наладив торговлю с Японией и Китаем, а не везти товары из Европейской России через Сибирь.45
25 августа «Надежда» покинула Камчатку. 19 сентября
30
(1 октября) у берегов Японии она претерпела жесточайший, но, к счастью, продолжавшийся недолго шторм. Сильно потрепанная бурей, «Надежда» 26 сентября (8 октября) появилась близ Нагасаки.
История посольства Резанова достаточно известна.46 Все его попытки установить какие-либо отношения с Японией окончились безрезультатно. Более шести месяцев посольство и экипаж «Надежды» находились под строгим, почти тюремным, надзором. До начала декабря путешественники жили на корабле. Им разрешалось прогуливаться лишь на маленьком, площадью сто на сорок шагов, участке земли, ограниченном с одной стороны морем, а с другой забором. Это огороженное пространство тщательно охранялось. Вся растительность, кроме трех деревьев, была с него удалена, а земля засыпана песком. В распоряжении путешественников был только небольшой домик, где можно было укрыться от дождя.
Затем посольство было переселено в расположенное неподалеку от Нагасаки селение Мегасаки, где ему была предоставлена особая резиденция. Окруженный с трех сторон водой, дом Резанова и его спутников47 был отделен от суши высоким двойным бамбуковым забором. Площадь двора составляла около сорока шагов в длину и тридцати в ширину. Резиденция строго охранялась. Переводчики посещали ее только с ведома местного губернатора и каждый раз придирчиво обыскивались. Общение посольства с моряками «Надежды» было регламентировано. Все другие контакты с внешним миром, в том числе самовольный выход за пределы упомянутого двора, установление каких-либо знакомств, покупки через третьих лиц, обмен вещами, а также использование инструментов и приборов для научных наблюдений были категорически запрещены. Когда в феврале 1805 г. было замечено, что Лангсдорф пытается заглянуть в просветы бамбуковой ограды, ее обшили досками.
Лангсдорф, знакомый с Японией по сочинениям Э. Кемпфера, К.-П. Тунберга и других путешественников XVII—XVIII вв., не оставлял, однако, попыток получить собственное представление об этой стране и ее людях. Во время посещения «Надежды», а затем резиденции посольства представителями японской администрации и выездов для ведения переговоров Лангсдорф внимательно наблюдал, а затем описывал внешний облик японцев раз¬
31
личного общественного положения, их обычаи и нравы, сложный дипломатический церемониал, японские корабли, лодки и т. д. В его записках была изложена вплоть до мельчайших подробностей история неудачной русской миссии. Делал путешественник и зарисовки этнографического характера.
Другим занятием Лангсдорфа была ихтиология. Ученый попросил японца, доставлявшего в резиденцию провизию, приносить больше разнообразных рыб и позднее сообщал в письме к своему геттингенскому коллеге доктору Нохдену, что в течение последних трех месяцев пребывания в Мегасаки получил таким образом около 400 экземпляров, принадлежащих к 150 различным родам.48 Лангс– дорф рисовал и описывал получаемых рыб, и эта работа очень скрашивала для него дни вынужденного затворничества. Благодаря тайной договоренности с переводчиками, ученому удалось приобрести несколько рисунков местных животных.
Вскоре после переезда с «Надежды» в Мегасаки у Лангсдорфа появилось еще одно увлечение. С большим трудом раздобыв необходимые материалы, он стал строить небольшой воздушный шар. Возможно, что эта мысль появилась у ученого в связи с японским обычаем запускать в новогодний праздник бумажные змеи. К 5 (17) января шар, склеенный из тонкой, но прочной местной бумаги и имевший в диаметре около трех метров, был готов к полету. «Лангсдорф, работавший несколько недель над воздушным шаром, сделал сегодня первую попытку запустить его на нити над домами,—писал Левенштерн.– Шар с нарисованным русским двуглавым орлом выглядел довольно красиво».49 Между тем осуществление этой затеи потребовало от Лангсдорфа большой силы воли и выдержки. «Когда Лангсдорф вчера запускал свой воздушный шар, – вспоминал Левенштерн на следующий день,– его превосходительство [Резанов, – Б. /Г.] ужасно боялся и бранил его, как выпь. Лангсдорф стоически дал ему высказаться и продолжал наполнять шар. Шар поднялся и с помощью привязанной нити был возвращен в Мегасаки. Теперь Резанов был вне себя от радости. Он без конца хвалил терпение и настойчивость Лангсдорфа. „Я рад за вас“, – заявил он ему. – Короче говоря, Лангсдорф, только что бывший самым подлым и низким и выслушавший обидные слова, вдруг стал бесценным».50
32
6 (18) января Лангсдорф снова запустил свой шар, но вернуть его назад не смог. Шар упал в воду и был доставлен в Мегасаки японцами. В свое время на Санта– Катарине некоторые офицеры «Надежды», глядя на погоню Лангсдорфа за бабочками, сами увлеклись их коллекционированием. Теперь, с легкой руки Лангсдорфа, многими овладело желание запускать воздушные шары. Свои шары мастерили Ермолай Фридерици, кадеты братья Мориц и Отто Коцебу, подштурман Василий Сполохов и другие.