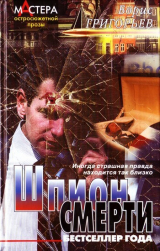
Текст книги "Шпион смерти"
Автор книги: Борис Григорьев
Жанр:
Шпионские детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 13 страниц)
– Это что… такое? – изобразил мистер Лукач вполне искреннее возмущение.
– Это мой взнос в пользу бедных сирот города Белфаста, оставшихся без родителей.
– Но я не занимаюсь благотворительством! Уберите ваши деньги! Повторяю, я ничем не могу вам помочь и… прощайте.
Улыбка на лице мистера Брайанта, или как там его звать, исчезла. Он приподнялся со стула, вынул из кармана пальто пачку «уинстона», ловко бросил сигарету в рот и чиркнул зажигалкой перед самым носом вице-консула. Мистер Лукач оторопел и упал в кресло.
– Что это значит? – охрипшим голосом спросил он.
– Это значит, мистер Лукач, что без паспорта я не покину этого кабинета, – так же негромко и с неприкрытой угрозой в голосе ответил Брайант.
– Я сейчас вызову полицию! – Дрожащая рука Лукача протянулась было к телефону, но на нее тут же легла твердая ладонь Брайанта:
– Не советую. Я не думаю, что встреча с полицией будет в ваших интересах.
– Позвольте, как вы смеете!
– Я смею, потому что знаю, мистер Лукач. Я знаю, что вы торгуете паспортами, знаю кому и за сколько вы их продаете, но у меня десяти тысяч долларов нет, да я бы никогда вам их и не выложил. Но я придерживаюсь того принципа в жизни, что каждый труд должен быть вознагражден. Ваши труды и молчание тоже имеют цену. Так что довольствуйтесь пятьюстами и давайте мне быстренько паспорт.
– Это… это ложь! Это наглая, чудовищная ложь!
– Оставим наши споры по этому поводу, мистер Лукач. Вы читаете местные газеты?
– Да, иногда.
– Я советую вам читать их регулярно – ведь вы же хоть и хреновый, но дипломат. Так вот, вы читали на днях, что в Мадриде в заложники взят американский консул?
– Да, читал.
– И вы знаете, кто это сделал?
– Нет, не знаю.
– И не догадываетесь?
– Нет. Как я могу знать?
– Ну так я вам подскажу. Это организовал и осуществил ваш покорный слуга. Надеюсь, вы не захотите разделить участь вашего американского коллеги?
Мистера Лукача прошиб пот, и он полез за платком в карман брюк.
– Так вот, доставайте скорей бланк паспорта и заполняйте. Вот мои паспортные данные. – Мистер Брайант бросил на стол листок бумаги с напечатанным на машинке текстом.
Вице-консул достал из кармана ключи и полез в сейф. Пока он заполнял бланк паспорта, мистер Брайант ходил по кабинету и фальшиво напевал песню Фрэнка Синатра «Чужой в ночи».
Через семь минут мистер Лукач протянул ему паспорт:
– Держите мистер Брайант, желаю вам удачи. Надеюсь, вы не имеете больше ко мне претензий?
Новоиспеченный мистер Брайант внимательно пролистал документ и удовлетворенно кивнул:
– Все в порядке. Не забудьте провести выдачу по всем своим журналам и сообщить о ней в консульский департамент МИД Канады в Оттаве.
– Да, да. Непременно.
– Я закрываю глаза на ваши маленькие проделки, мистер Лукашенко. Очень хочу, чтобы все происшедшее осталось между нами. До свидания.
– До свидания, мистер Брайант.
Человек ушел, а мистер Лукач еще долю оставался в кресле, вытирая пот и шепча проклятия. Минут через десять в двери показалась черная голова О'Нила. К такой фамильярности своего подчиненного мистер Лукач давно уже привык, но на сей раз реакция шефа была самой непредсказуемой:
– Закрой за собой дверь, черная образина! И без стука чтобы больше ко мне не входил!
Патрик О'Нил удивленно поднял брови и с достоинством удалился.
Такого мистера Лукача он видел первый раз. О господи, как меняются люди. Вот и делай им добро.
После этого инцидента цены на канадские паспорта в Белфасте резко пошли вверх. Оскорбленное самолюбие вице-консула Питера Лукача не могло смириться с тем, что на последней выдаче он потерял аж девяносто пять процентов причитающегося вознаграждения.
Часть четвертая
Первопрестольная
Москва стоит под лаком.
Кто в ней не был, тот не плакал.
Кунаковская поговорка.
– Ти, ти и ти будити учитися на машинном переводе!
Хосе Мария Браво, сын испанского коммуниста-республиканца, вывезенный в СССР после прихода в Испании к власти Франко, по-русски говорил бойко и темпераментно, но с сильным акцентом. Русский звук «ы» ему никак не давался. Впрочем, это не мешало ему занимать престижную должность декана переводческого факультета, готовившего кадры для многих центральных ведомств Союза.
Группа бывших абитуриентов, а ныне уже полноправных студентов переводческого факультета Первого Московского педагогического института иностранных языков имени Мориса Тореза безмолвно сгрудилась в небольшом «предбаннике» деканата и смотрела, как перед ними брызгал слюной и суетился, словно уговаривал поехать на целину или на Магнитку, лысенький, маленький, пузатенький Санчо Панса.
Что такое машинный перевод, никто из них и понятия не имел, но они были счастливы и на все согласны. Их было двадцать четыре: восемь «немцев», среди которых оказался и Борис, восемь «англичан» и восемь «французов» – все пришли со школьной скамьи и, по предположениям деканата, еще не забыли алгебру, геометрию и тригонометрию, которая вдруг понадобилась в стенах иняза. Борису такой поворот событий не понравился, но все молчали, не возражали, молчал и он. Было только ясно, что отделение машинного перевода готовило специалистов для науки, прикладной лингвистики, а к науке его что-то не очень тянуло.
Опасения Бориса скоро оправдались: чем дальше продвигался учебный процесс, тем глубже они врезались в дебри новых научных и псевдонаучных теорий, тем дальше они отходили от стандартной программы переводчиков. Учиться было не интересно, сложно и хлопотно, и если бы не традиционные занятия по освоению немецкого языка, можно было бы вообще пожалеть, что он оказался в стенах иняза.
Он все больше и больше понимал, что «машинисты», как их все называли на факультете, стали заложниками небольшой группки лингвистов-авангардистов, восторженно воспринявших модные постулаты американцев и западных европейцев о возможности осуществления переводов с языка на язык с помощью стандартных компьютерных программ. Уже на втором курсе Борис пришел к выводу о бесперспективности этого направления. Ему, как и многим сокурсникам, стало очевидно, что язык не может быть уложен в прокрустово ложе алгоритма. Вряд ли такой вывод не посещал умные головы маститых языковедов, но они продолжали тянуть отделение в «светлое будущее», потому что в это будущее въезжали на собственной кафедре, на профессорских и доцентских должностях, на солидных зарплатах и гонорарах.
К подготовке «элитной» прослойки машинных лингвистов привлекли весь цвет московской науки. Запомнились сын известного советского писателя В. В. Иванов, читавший обзорные лекции по общему языкознанию, программист Ляпунова, физик Ливанов, вдалбливающий понятия дисперсии и энтропии, так необходимые для лингвистов, профессоры Розенцвейг – организатор всей затеи – и Ревзин, старший преподаватель МГУ математик А. Шиханович, сотрудники института русского языка И. Мельчук и К. Бабицкий. А. Шиханович, тщедушный человечек в возрасте Иисуса Христа, отличался диктаторскими замашками и навел на всех страха тем, что принимал экзамены по математической логике и математическому анализу по десять-двенадцать часов. Кроме набора формул, в его голове ничего не было. Вершиной математических достижений по этому предмету явилось доказательство того, что дважды два будет четыре.
Учебных пособий по математической лингвистике не было, приходилось полагаться на свои записи и библиотеку иностранной литературы, где шедевры западной научной мысли хранились в единственном экземпляре и, как правило, на английском языке. Их, естественно, не хватало, поэтому нервотрепка перед каждой сессией царила невообразимая.
Борис вместе со своими однокашниками Геной Гуляевым и Сережкой Чукановым давно уже для себя решил, сосредоточиться на практическом изучении языков, благо такой возможности несчастных «машинистов» не лишили. Приходилось в течение шести лет делать вид и притворяться, что они являются добропорядочными «структуралистами», а в душе проклинали каждый день, каждую лекцию, прочитанную очередным эпигоном от науки. Более дальновидные, сославшись на неспособность к математике, «сошли с дистанции» еще на втором курсе, но бывшие школьные отличники, привыкшие к тяглу, добросовестно и до конца несли свой чемодан. Лицемерию можно было не учиться, потому что им был пронизан весь воздух столицы, оно вошло в поры каждого советского гражданина и считалось непременным атрибутом образа жизни.
…А Москва встретила Бориса прохладно.
На время сдачи вступительных экзаменов он остановился в Тарасовке у своего дяди Николая и вместе со своей кузиной, младшей дочерью дяди, все дни проводил на берегу мелководной, но тогда еще чистой Клязьмы. Кузина держала экзамен на географическое отделение пединститута им. Ленина, поэтому часть сдаваемых предметов у них совпадала. К своему удивлению, он убедился, что уровень его «деревенских» знаний в целом не уступал «московским».
Июль-август 1959-го окончательно сделали Бориса взрослым. Речь шла о будущем, а проклятая неизвестность экзаменационной лотереи неотступно висела над ним мрачной тучей. Он не представлял, что будет делать, если провалится на экзаменах.
Среди абитуриентов были в основном москвичи и дети обеспеченных родителей. Хорошо одетые, крикливые и самоуверенные, они держались обособленно, всюду задавали тон, бесцеремонно расталкивали «провинциалов» и лезли везде без очереди. Было много суворовцев из Закавказья, а также демобилизованных солдат, которые шли вне конкурса. Тем было достаточно сдать все экзамены на «тройки». Борис в застиранной рубашонке и полотняных брючках казался себе самому настоящей деревенщиной, робел при виде столичных «штучек» в юбках-колоколах и взбитых «бабетах», держался от всех в стороне, присматривался ко всему с благоговением и страшно переживал.
Перед огромной анкетой, в которой содержались странные вопросы о членстве в других, кроме КПСС, партиях, о смене фамилий, нахождении на территории, занятой немцами, о пребывании в плену, а также о родственниках за границей, он совсем спасовал и долго думал над формулировками, чтобы не ошибиться. Особенно пришлось попотеть над вопросом, касающимся отца. Мать его проинструктировала, чтобы он указал, что с отцом никогда не жил (что соответствовало действительности), потому что тот развелся с матерью в 1954 году, и адрес его не известен (что не соответствовало действительности: мать рассказала Борису, что он проживает теперь в Москве с другой женщиной). О том, что отец был в плену, лучше умолчать. Ведь укажи он, что отец четыре года кормил вшей в Норвегии на каменоломне, и прощай иняз, прощай мечты об интересной работе! Ни один приличный вуз не примет у такого гражданина документы, а если и примет, то на приличное распределение после окончания рассчитывать будет трудно.
Среди абитуриентов ходили всевозможные страшные слухи о том, что конкурс в этом году составлял пять человек на место, что преподаватели безбожно «резали» на экзаменах по языку, что к знанию истории страны и партии предъявляли непомерные требования, что по русскому языку и литературе предлагали странные «вольные» темы. Борис боялся в основном за немецкий, потому что обнаружил, что, при всем знании лексики и грамматики, произношением блеснуть никак не мог. Он с трудом понимал речь молоденьких преподавательниц иняза, проводивших консультации, и приходил в ужас при мысли о том, чтобы открыть рот в их присутствии.
Хорошо, что первый экзамен был письменный русский, и Борис за сочинение на вольную тему получил «четверку». Устный русский и литературу, а потом и историю сдал на «отлично», и это, вероятно, решило все дело. Отсев на трех экзаменах был такой большой, что на иностранном языке приемная комиссия решила самых лучших пощадить, поэтому он легко сдал немецкий на «хорошо» и даже без учета золотой медали свободно прошел по конкурсу. Трудно было предугадать исход сессии, если бы первым пришлось сдавать немецкий.
Как бы то ни было, в середине августа Борис смог прочесть свою фамилию в списках принятых и тут же стал устраиваться в общежитие в Петроверигском переулке. Всех новеньких студентов мобилизовали на стройку. Они где-то с неделю рыли какие-то траншеи в конце только что отстроенного Комсомольского проспекта, и он еле успел съездить в Кунаково, чтобы забрать вещи.
…Первые два года учебы в институте потребовали от него максимального напряжения, особенно по немецкому языку. Полученные в школе знания все-таки были недостаточными для иняза, и приходилось «нажимать» во всю силу. Зато в эти годы им была заложена солидная база, и скоро он оказался в передовых. Сокурсники, блиставшие отличным знанием языка при поступлении, почили на лаврах и увлеклись соблазнами, в обилии предлагавшимися столицей и самостоятельной жизнью, за что скоро были наказаны. «Салаги» из провинции – Сережка Чуканов из Благовещенска, Генка Гуляев из Магнитогорска и Борис Зайцев из Липецкой области – догнали и перегнали их на третьем курсе и, набрав скорость, мощно финишировали на шестом. Абитуриентам 1959-го года не повезло: иняз по каким-то соображениям предложил им шестигодичную программу обучения, но уже на следующий год опять вернулся к пятигодичной.
Общежитие в глухом Петроверигском переулке – в двух шагах от улицы Богдана Хмельницкого – Борису понравилось. Кастелянша Маша и дежурный комендант тетя Варя тепло относились к иногородним, потому что сами были из подмосковных деревень и всей душой разделяли со студентами их академические треволнения, строго следили за их нравственностью, выручали деньгами, когда было совсем туго.
Общежитие размещалось в одном здании с училищем медсестер и поликлиникой Министерства высшего образования. Молоденькие медики хорошо знали, какие перспективные женихи поселились рядом и с удовольствием принимали приглашения на танцы в «голубом» зале – на лестничной площадке седьмого этажа. Переводчики, побывавшие на практике за «бугром», ходили гоголями по общежитию и под песни Пэта Буна, Элвиса Пресли, а потом и «битлов» отплясывали буги-вуги и рок-н-ролл с таким акробатическим артистизмом, что Борису временами было страшно за их партнерш. Председатель студсовета Генка Анчифоров каждую субботу надевал белую рубашку с «бабочкой» и выносил на площадку огромный отечественный магнитофон «Днепр». Скоро под сень лампочки Ильича, окрашенной в синий цвет, из комнат выходили будущие переводчики с дамами, и начинался праздник молодости. Скоро места на площадке для танцующих становилось мало, но это абсолютно никого не смущало – теснота считалась большим преимуществом для разгоряченных тел.
На бирже московских общежитий «голубой» зал на Петроверигском котировался весьма высоко, и тете Варе приходилось стоять грудью на проходной, чтобы преградить нескончаемый поток желающих попасть внутрь. Борис с Генкой участвовали в праздниках в основном в качестве зрителей, зато их кореш Чуканов, постоянно влюбляющийся то в одну девицу, то в другую, уже на первом курсе обзавелся подружками и активно приглашал их к себе в гости. В такие вечера Генка с Борисом уходили либо в кино, либо в библиотеку, либо коротали время у соседей, если, конечно, и соседи не пригласили к себе студентку медучилища.
Свобода – понятие диалектическое. Классики марксизма-ленинизма исписали кучу бумаги на эту тему, но как-то никто из них не заметил разницы между свободой мужской и женской. Свобода выбора, как правило, остается за слабой половиной человечества, сильная же ее половина только тешит себя иллюзией обладания таковой. Для нее это завоевание человеческой цивилизации на практике оборачивалось выбором между вступлением в брачный союз со случайной подружкой или участием в партийно-комсомольской разборке. Физическая акселерация значительно опережала социальную зрелость современных Адамов, в то время как ни родители, ни общество не было в состоянии хоть как-то скорректировать эти «роковые» ножницы. На третьем и четвертом курсах многие ребята переженились, и если жена была тоже иногородняя, то молодоженам в общежитии выделялась отдельная комната. До окончания института все или почти все эти матримониальные союзы разрушились.
Нагрянула первая – зимняя – сессия, на которой следовало подтвердить высокое звание студента переводческого факультета иняза, и Борис с утра до вечера занимался фонетикой, грамматикой, пропадал в читальных залах, бегал на консультации. Он одновременно с Сережкой сдал последний экзамен, и они на радостях решили отметить это событие торжественным обедом-ужином.
В этот день, как и в другие, они шли по графику двухразового питания: заставив пролежать себя в постели аж до полудня (занятия в институте начинались после обеда), они перед экзаменом «позавтракали» в пельменной, чтобы потом оставить на вечернюю трапезу целых шестьдесят копеек! Нужно было с наибольшей отдачей для голодных желудков распорядиться выделенным на сутки рублем. Опыт подтвердил, что лучше дважды наесться досыта, чем при трехразовом питании оставаться полуголодным.
По пути Борис и Сергей зашли в магазин и в складчину разорились на бутылку водки и полкилограмма «отдельной». Придя к себе в комнату, они тут же приняли по полстакана «московской», закусили любительской и тут же от тепла, сытости и полного освобождения от предэкзаменационного стресса сомлели и повалились на кровати. Когда состоявшийся же студент и сосед по «нарам» Генка Гуляев вернулся с экзамена в общежитие, то обнаружил, что дверь комнаты заперта изнутри. Он постучал раз, два, но никто на стук не отреагировал. Тогда он замолотил по двери сильнее, но в ответ лишь раздавался мощный храп двух состоявшихся студенческих носоглоток. Он долго стучал, кричал, просил и взывал к совести, но результат был тот же. Тогда он решился на крайнюю меру и сходил к тете Варе за резервным ключом. Тетя Варя при виде двух богатырей укоризненно покачала головой, но будить их не стала, оставив за собой возможность устроить им разнос на следующее утро. Разнос был устроен по всем правилам жанра, тетя Варя обещала написать письмо и пожаловаться родителям, но делать этого по доброте своей не стала.
Так трое друзей встретили известный на Западе студенческий праздник Валентина, о существовании которого они тогда и не подозревали.
Столичная и институтская жизнь постепенно затягивала в свой кипучий водоворот Бориса. Он пообвыкся, пообтерся и напропалую ушел с головой в художественную самодеятельность, занятия плаванием и бегом на коньках. Афиши театров приглашали на новые спектакли, на площади Маяковского заработал «Современник», молодежь толпами валила в лекторий Политехнического музея на Рождественского, Вознесенского, Евтушенко и Окуджаву, радио и газеты каждый день приносили сообщение о победах в космосе, на улицах Москвы в розлив продавали шампанское, в магазинах свободно лежали икра, балыки, миноги и копченые угри, Никита Хрущев провозгласил курс на достижение уже через двадцать лет вожделенного коммунистического рая, и вся страна побежала догонять Америку.
Наступили знаменитые шестидесятые годы. Казалось, светлое и беззаботное будущее безмятежно улыбалось всем, и люди, в первую очередь студенчество, ринулись ему навстречу.
Ничего, что не хватает денег на приличную еду и одежду. Надо только преодолеть поставленный перед собой барьер знаний, и интересная, полноценная, наполненная свершениями жизнь будет обеспечена. Страна предоставила им возможность учиться, и они не останутся у нее в долгу!
Между тем первая юношеская любовь Бориса не выдержала первого испытания разлукой. Он регулярно переписывался с Надей, но с каждым днем все сильнее ощущал, что их связь становилась для него обременительной. Он пытался гнать от себя мысль о том, что дело неминуемо идет к расставанию, но она навязчиво преследовала его, как только он оставался наедине с самим собой. Столичная жизнь все дальше уводила его от первого восторженного чувства к Наде, пока, наконец, в один прекрасный день их отношения не прервались окончательно. Они встретились в деревне во время первых летних каникул и обнаружили, что в их отношениях исчезла былая непосредственность. Они как бы снова посмотрели друг на друга со стороны и увидели, что стали чужими. При этом ни у него, ни у нее никаких других привязанностей за прошедший год не появилось.
Возвратившись в Москву, он почувствовал огромное облегчение от произошедшего в последний день каникул объяснения. Он больше никогда не видел Надю; не писал ей и надолго забыл о ее существовании. Жизнь резвым скакуном мчала его вперед, не оставляя времени на раздумья, сожаления, воспоминания.
…В «голубом» зале Борис как-то познакомился с одним парнем, студентом пединститута имени Ленина, и тот пригласил его к себе домой на вечеринку. Лебедев – так звали будущего педагога – жил вместе со своей теткой, профессором того же института, поддерживавшей какие-то связи с английскими учебными заведениями. Лебедев был страшным лентяем и типичным прожигателем жизни, которого давно бы выперли за неуспеваемость из института, если бы не сильная рука тетушки. Его интересовал только английский язык, поскольку он давал ему возможность «клеиться» к иностранцам и покупать у них пластинки с записями Пресли, Синатры и прочих популярных на Западе певцов.
Впрочем, о том, что из себя представлял новый знакомый, Борис поймет попозже, а пока он с энтузиазмом принял первое в своей жизни приглашение в московскую квартиру и без опозданий явился по адресу с оттопыренным от бутылки вина карманом.
Квартира поразила Бориса высокими лепными потолками, блестящей мебелью и развешанными по стенам картинами. Лебедев, уже облысевший к двадцати годам блондин, встретил его с распростертыми объятиями и провел в комнату, где уже было несколько гостей. Среди них бросились в глаза развязная девица в мини-юбке и какой-то хлыщ при ней, одетый явно не по-нашему. Посредине комнаты был накрыт фуршет – первый фуршет в жизни Бориса! В углу стояло пианино, за которым длинный и нескладный молодой человек наигрывал буги-вуги и упоенно, словно кот после съеденной сметаны, завывал нечто английское и очень буржуазное.
– Что будем пить? – Лебедев подвел Бориса к столу. – Вот виски, вот джин, а это – молочный ликер.
– Не знаю, может, попробовать виски? – неуверенно произнес он.
– Нет проблем. Держи стакан. Вот так. Содовой добавить?
Борис видел фильм с участием Богарта Хэмфри, в котором герой употреблял виски исключительно в чистом виде. Так должны были пить настоящие мужчины.
– Нет, давай «стрэйт».
– Вот это по-нашему! – К столу подошел пианист, он тоже налил себе виски и протянул руку: – Соколов. Владимир Соколов.
– Борис Зайцев.
– Очень приятно. Я гляжу, у нас тут собралась вся российская фауна. Из каких краев?
– Из иняза. А ты?
– Я обретаюсь тут вместе с Лебедевым. Ну будь здоров.
Соколов ловко опрокинул в рот содержимое стакана, взял с тарелки бутерброд с ветчиной и поспешил опять к пианино. Хозяин с джином в руке подошел к Соколову и стал мурлыкать вместе с ним, задрав ослиную «морду лица» к потолку. Теперь это было похоже на хор бременских музыкантов или, если закрыть глаза, сборище котов в мартовскую оттепель. Девица в мини-юбке задрыгала в такт ножкой на высоченной «платформе», а ее кавалер плотоядно улыбался и благосклонно наблюдал за всем происходящим, словно французский танцмейстер на первой ассамблее Петра Первого.
В проеме двери появилась позднего бальзаковского возраста дама в черном, с длинной дымящейся сигаретой в руке. Ее томный взгляд слишком красноречиво свидетельствовал о неудовлетворенной молодости и бессонных ночах, и потому ее слова самым наглым образом диссонировали с тем слащаво-приветливым тоном, с которым она проворковала свое приветствие:
– Мальчики! Ну как вы тут устроились?
Лебедев с Соколовым продолжали завывать какой-то невероятный блюз «водосточных труб» и не обращали на даму никакого внимания. Впрочем, и сама дама под мальчиками подразумевала, вероятно, только одного из всех присутствующих. Она врубелевской павой подплыла к одетому во все иностранное и, небрежно артикулируя слова, с нарочитым американским прононсом обратилась к нему по-английски:
– Питер, ты, надеюсь, не скучаешь?
– О нет, мэдэм, ни в коем случае! Мне жутко интересно! – Хлыщ бросился навстречу профессорше – а это, несомненно, была влиятельная профессорша главной кузницы педагогических кадров одной шестой земного шара – и поспешил засвидетельствовать ей свое искреннее почтение. Почтение выразилось в подобострастном прикладывании к ее еще пухлой ручке.
– Ах, Питер, ты такой галантный кавалер… – Губки мадам Лебедевой чувственно вздрогнули, весь ее величественный стан колыхнулся, но она подавила клокотавший внутри вулкан переполнявших ее эмоций и рассеянным взглядом обвела общество:
– Валерий, что же ты бросил гостей и не забавляешь их?
Лебедев оторвался от кошачьего дуэта и недовольно буркнул:
– Ма шер тант, ну не мешай же нам с Вольдемаром музицировать!
Девица в мини-юбке захихикала, Соколов прекратил играть и вопросительно поглядел на всех, но увидев хозяйку дома, вскочил, расплылся в улыбке и тоже поспешил приложиться к ручке:
– Карелия Яковлевна! Извините, мы тут и не заметили, что вы…
– Не обращай на меня внимания, Вольдемар, продолжай! Я так люблю, когда вы импровизируете! Что это было?
– Каунт Бэйси, Карелия Яковлевна.
– Ах, вы тут с ума посходили по всем этим графьям и королям[9]9
Имена К. Бэйси и Н. К. Коула в дословном переводе с английского означают «граф» и «король».
[Закрыть]. Мы в свое время любили Утесова, Шульженко… Впрочем, мне очень нравится Нэт Кинг Коул, особенно его очаровательная «Мона Лиза».
Профессорша явно желала показать, что идет в ногу со временем и знает, чем увлекается вверенная ей в обучение студенческая поросль.
Соколов тут же стал наигрывать мелодию, а Лебедев с готовностью подхватил слова песни. Профессорша пошепталась с минутку с Питером и торжественно объявила:
– Ну, я не буду вам мешать, мальчики! – Девицу в мини-юбке она явно игнорировала. – Мне нужно еще прочитать парочку диссертаций перед сном, а вы тут веселитесь на здоровье.
Мадам Лебедева чинно удалилась. Соколов тут же прекратил играть и вместе с Лебедевым подошел к Борису:
– Хозяйка борделя поприветствовала гостей и удалилась в свои покои, – громко прокомментировал он ее уход со сцены. Борис не знал, как реагировать на такое циничное замечание, сделанное к тому же в присутствии ближайшего родственника. Родственник разразился громким смехом и добавил:
– Вечно она лезет туда, куда ее не просят!
В это время раздался звонок в прихожей. Лебедев пошел открывать и через пару минут привел с собой двух девушек. Обе брюнетки, не худые, пышущие здоровьем и то ли армянской, то ли еврейской красотой.
– Знакомьтесь: это Джульетта, а это…
– …Бэлла, – помогла хозяину сама девушка.
Соколов тут же увел Джульетту в угол и стал наседать на нее с вопросами относительно причин ее опоздания. Он весь вечер не отпускал ее от себя, и очень нервничал, когда Лебедев, явно не равнодушный к ней, приглашал ее танцевать. Владимир вообще всем свои видом показывал свое пренебрежительное отношение к Валерию, высказывал в его адрес довольно оскорбительные вещи, но тот только похохатывал и делал вид, что его это ничуть не задевает.
Борис не заметил, как Питер, бросавший на него весь вечер оценивающие взгляды, подошел и представился:
– Питер Реддауэй. Английский аспирант.
Борису было интересно поговорить с первым в своей жизни «песиголовцем», и хотя только начал изучать английский, предложил ему перейти на его родной язык. Но инициативу перехватил английский аспирант:
– Откуда приехал в Москву? Кто родители? Какие предметы изучает? Где будет работать по окончании института? Как относится к Кубинскому кризису? Что знает о Великобритании? Любит ли Галича?
Вопросы сыпались один за другим, и Борис не успевал на них отвечать. Он несколько раз попытался задать такие же вопросы собеседнику, но тот старался их не замечать и продолжал допрашивать по всем правилам искусства. То, что разговор носил характер допроса, Борис нисколько не сомневался.
Хорошо, что во время подошел Соколов и бесцеремонно прервал Реддауэя:
– Питер, оставь парня в покое! Мало тебе студентов Ленинского, так ты еще набрасываешься на иняз.
Реддауэй зло стрельнул бледно-голубыми глазами в сторону Соколова, но сделал над собой усилие, улыбнулся и отошел к своей девице. В течение всего вечера он не разговаривал ни с Борисом, ни с Владимиром и ушел по-английски, ни с кем не попрощавшись.
– А ты что потакаешь этому альбионцу? – возмущался Соколов. – На нем пробы ставить негде. Пригрели его тут Лебедевы, а его гнать надо из института и из страны.
– За что ты так на него? – поинтересовался Борис.
– А за то. Сдается, не зря он тут у нас вертится. Заслала его к нам СИС.
– СИС? Это что такое?
– Ну, Боб, ты даешь! Ты что, с луны свалился? А еще в инязе учишься. СИС – это Сикрет Интеллидженс Сервис, то бишь разведка.
– Что ты говоришь!
– Раз говорю, значит, знаю. Мой папахен мне много о них рассказывал.
И Соколов рассказал, что его отец – сотрудник МИД, специализирующийся по странам Скандинавии, что на летние каникулы он выезжал к нему в Стокгольм, Копенгаген и Осло.
– Так ты говоришь на шведском или датском?
– Немного на шведском. Сейчас изучаю в качестве второго языка. Клевый язык, я тебе скажу. А с Лебедевым ты тоже будь поосторожней. Нечистоплотная личность.
Борис хотел было спросить, почему же тогда он ходит к нему в гости, но постеснялся, отложив вопрос на потом. Соколов тем не менее понравился Борису, и, кажется, его симпатия была взаимной. Они обменялись координатами, и Владимир просил звонить.
Когда он на следующий день сидел на семинаре по истории КПСС, в аудиторию заглянула секретарша из деканата и спросила:
– Зайцев здесь?
– Здесь.
– На перерыве зайди к Олегу Николаевичу.
Олег Николаевич Николаев, известный в студенческих кругах под прозвищем Краб, был заместителем декана по учебной части и иностранным студентам. Прозвище он получил за то, что при ходьбе приволакивал правую ногу, раненную во время войны, и действительно был очень похож на ползущего краба. Впрочем, студенты его любили и прозвище употребляли беззлобно – больше по привычке. Почти всех преподавателей и сотрудников деканата было принято за глаза называть не по именам и фамилиям, а по кличкам.
– Ты что там натворил? – был первый вопрос, с которым Краб обратился к Борису?
– Я? Где? Когда?
– А где ты был вчера вечером?
– В гостях у одного знакомого москвича.
– Надо быть осмотрительней при выборе знакомых. Ну да ладно, я, надеюсь, ты ничего особенного не говорил в гостях?
– Да нет, Олег Николаевич, не говорил.







