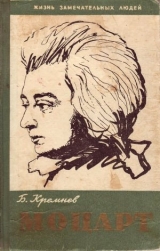
Текст книги "Моцарт"
Автор книги: Борис Кремнев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 19 страниц)
СНОВА ДОМА
Неудачи не сломили Леопольда. Не из того материала был он сделан, чтобы покорно мириться с тем, что приносит нещедрая на милости жизнь. Леопольд продолжал разыскивать средства, с помощью которых можно было бы вырваться из Зальцбурга. Наконец удалось разузнать, что венский придворный капельмейстер, престарелый композитор Флориан Гассман тяжело заболел. И у Леопольда сразу же родился проект – отправиться в Вену и добиться того, чтобы Вольфганг после смерти старика занял его почетное и выгодное место. Воспользовавшись тем, что архиепископ отлучился из Зальцбурга, Леопольд с сыном выехал в Вену.
Однако очень скоро выяснилось, что план этот оказался далеким от осуществления. Гассман, вопреки надеждам Леопольда, не умер. Впрочем, если бы тогда и последовала его смерть, она ничего не изменила бы: все равно должность придворного капельмейстера досталась бы не Вольфгангу, а кому-нибудь другому, пусть и неважному сочинителю музыки, зато ловкому пройдохе, понаторевшему в искусстве интриг. Такими людьми Вена кишела. Вокруг габсбургского трона роились заезжие, главным образом итальянские, музыканты, композиторы, певцы, а нередко просто авантюристы и проходимцы, жадно набрасывающиеся на лакомый пирог императорских пожалований. Чтобы пробиться сквозь их стену, надо было обладать локтями покрепче, чем локти Вольфганга, и быть куда пронырливей, чем Леопольд. Самое главное – Моцарты не имели при дворе сильных покровителей. Те же вельможи и сановники, которые в свое время без удержу восторгались искусством карапуза, а несколькими годами позже снисходительно аплодировали подростку, проигрывавшему отрывки из своей первой оперы, теперь с холодным равнодушием отвернулись от невзрачного, худого и некрасивого юноши, не умеющего и не желающего угождать императору, напрямик выпаливающего все, что он думает, даже тогда, когда его мнение идет вразрез с мнением сильных мира сего.
И потекли зальцбургские будни… Вольфганг впервые по-настоящему познал зальцбургскую жизнь во всем ее томительном однообразии. До сих пор он, если не считать раннего детства, бывал в родном городе лишь наездами: знаменитость на короткое время заглядывала домой, а затем снова укатывала в чужие края. Теперь же он стал зальцбуржцем, таким, как все прочие. Во всяком случае, и архиепископ, и окружающая его челядь, и городские обыватели делали все возможное для того, чтобы он себя таковым чувствовал.
Вольфганг служил концертмейстером придворной капеллы и должен был за небольшое жалованье, которое ему выплачивал архиепископский казначей, исполнять всякую прихоть князя: ежедневно являться ко двору, по многу часов репетировать, вместе с другими музыкантами капеллы услаждать слух его преосвященства во время трапезы, выступать во дворце и на празднествах, играть на органе в церкви, сочинять духовную и бытовую музыку.
Тягучую и тусклую жизнь скрашивало лишь одно – творчество. Поздно ночью, когда все в доме засыпали и слышалось лишь поскрипывание старой половицы да стрекотня сверчка, начиналась настоящая жизнь Вольфганга. Она ничуть не походила на неприглядную повседневность с хамскими окриками архиепископа, с грубым вмешательством в музыкальные дела всяких камергеров и обер-гофмейстеров, с унизительной для человека снисходительностью невежественных и наглых толстосумов, с непрестанной, иссушающей душу борьбой между страстным желанием поддаться вспышке чувств и высказать всем этим жалким людишкам все, что о них думаешь, и необходимостью повиноваться отцу, который угодничает и учтиво расшаркивается перед этими невеждами.
Стремясь излить все, что накопилось в душе, Вольфганг писал. Писал с лихорадочной быстротой, взахлеб, едва поспевая макать в чернильницу притупившееся, разбрызгивающее кляксы перо: заботливая мать с вечера затачивала целую связку гусиных перьев, но их хватало лишь на два-три часа.
Слякотное зальцбургское лето, зябкая, сырая зима будили воспоминания об Италии с ее ласково-голубым небом, ярким солнцем, радостной зеленью садов, над которыми в знойной тишине дня радостно звенят песни.
Воспоминания об Италии оживают в симфониях, сочиненных Вольфгангом в это время. Светлые, благоуханные, они как бы сотканы из солнечных лучей. Лишь порой в них нет-нет да прозвучит грустноватая нотка, словно мысль о чем-то горьком нахлынула на человека и легкой морщинкой легла на светлое его чело, а потом вновь улетела прочь, уступив место безмятежному, грациозному веселью.
Однако чем дольше затягивалось пребывание в Зальцбурге, тем чаще звучали эти горькие нотки. Одно из значительнейших произведений этого периода, вполне зрелое творение моцартовского гения – симфония соль-минор, отдаленная предтеча бессмертной соль-минорной симфонии 1787 года – преисполнена кипучей страсти, горечи и драматизма.
В произведениях этой поры классическая уравновешенность и мудрое спокойствие все чаще перемежаются с романтической взволнованностью и страстностью. Все настойчивей обуревают человека страсти, все сильней теснит грудь томление – и горестное и сладостное, – все чаще, замирая, бьется сердце, все неукротимей становится тяга к неизведанному, новому, несказанно прекрасному именно потому, что оно окутано романтической дымкой таинственного.
В Вольфганге происходит перелом, почти невидимый стороннему взгляду. Ни мать, такая удивительно чуткая, ни тем более отец поначалу не замечали этого. Внешне все оставалось по-прежнему: Вольфганг, как и раньше, был приветлив, ласков, внимателен, горячо сочувствовал и помогал, чем мог, людям, попавшим в беду; весело хохотал над удачной шуткой матери, сам любил пошутить; по-детски непосредственно, от души предавался разным забавам – катанью с гор на санках, стрельбе в тире, маскарадам с шутовским переодеванием, танцам; мигом вспыхивал и ругал архиепископа и его подручных и так же мгновенно отходил. Но внутренне он стал совсем другим, не похожим на того восторженного юнца, который приехал из Италии.
За внешней общительностью скрывалась замкнутость. Его внутренний мир был закрыт для посторонних глаз. Только Наннерл удавалось иногда заглянуть в сокровенный уголок его сердца. Ей он поверял свои сердечные тайны. С некоторых пор их появилось немало. Сначала он и от нее – самого близкого и верного друга детства – пытался их скрыть. Но слишком хорошо знала Наннерл брата, чтобы не заметить, как он становится то неловким и угрюмо-молчаливым, то не в меру разговорчивым и преувеличенно оживленным в обществе ее подруг; как ревностно следит за своей внешностью и подолгу простаивает перед зеркалом, примеряя новое жабо; как во время танцев его ясно-синие глаза вспыхивают огоньками, а тонкие пальцы руки, обнимающей талию девушки, чуть приметно мелко-мелко вздрагивают; как после службы в церкви он торопливо сбегает с хоров, где играл на органе, чтобы поспеть к выходу вместе с сестрой и ее подругами, а потом, уже на улице, предложив прогуляться, требовательно и умоляюще поглядывает на нее в ожидании поддержки.
Близость с сестрой объяснялась и тем, что в Вольфганге все сильней росло теплое и благодарное чувство к Наннерл. Он жалел сестру. Жизнь у нее складывалась нелегкая. Наннерл любила молодого зальцбургского аристократа. Он тоже любил ее. Но счастья не было. Родители не позволяли сыну жениться на небогатой и незнатной. У него не хватало смелости пойти против родителей, у нее не хватало сил порвать с ним. И вот тянулась эта безысходная любовь, изматывая девушку. И казалось, не будет конца этой грустной истории.
Кроме того, не по годам проницательный Вольфганг ясно понимал (хотя домашние всячески старались от него это скрыть), что Наннерл принесена отцом в жертву брату. Леопольд однажды решил, а Анна Мария безропотно с ним согласилась, что все будет отдаваться Вольфгангу. Ему – лучший кусок за столом, ему – лучшее платье, ему – поездки в Италию. А Наннерл? Простая и чистая душа, она ни разу даже не подумала, что может быть иначе. Самоотверженно любя брата, Наннерл, не колеблясь, пожертвовала ради него своим будущим и отдала юные, лучшие годы жизни обучению музыке малоспособных дочек богатых зальцбургских бюргеров.
Сильное, с каждым годом крепнущее чувство дружбы связывало брата с сестрой. В одном лишь не находил он у нее полного понимания: в творчестве. Прослушав новое произведение, Наннерл говорила: хорошо, отлично, великолепно. Но посоветоваться с ней, каким путем идти дальше (а как раз в это время он настойчиво ищет новых путей), Вольфганг не мог. Впрочем, не только с ней. В Зальцбурге вообще не с кем было поговорить об этом. Отец был приверженцем старых образцов и большей частью ужасался, когда слышал что-то новое, смелое, дерзко не похожее на уже существовавшее. Правда, привыкнув, он хвалил написанное Вольфгангом и даже восторгался им. Но в выборе путей советоваться с ним не стоило, это Вольфганг хорошо понимал. Иосиф Гайдн, встречи с которым оставили неизгладимый след в сознании и творчестве Вольфганга, был далеко. В заштатном городишке Эйзенштадте, в поместье князя Эстергази, влачил он подневольное существование княжеского капельмейстера. Добрейший и высокочтимый падре Мартини, перед которым Вольфганг благоговел, находился в Италии. К нему можно было писать, но разве на бумаге выразишь то, что накопилось в уме и на сердце? Правда, был в Зальцбурге человек, которому мог бы Вольфганг излить свои думы о творчестве – Михаэль Гайдн. Но он все чаще и чаще отдавал досуг вину и все реже беседам о музыке.
Оставалось одно – искать в одиночку, советуясь лишь с самим собой.
Именно это и делал Вольфганг.
Как ни покажется странным с первого взгляда, жизнь в Зальцбурге способствовала творческому созреванию Моцарта. Годы, проведенные здесь, явились благодатной порой, когда он окончательно сформировался как самостоятельный художник. Четыре с половиной года (за исключением коротких отлучек в Вену и Мюнхен) прожил Моцарт безвыездно в Зальцбурге. Это время как будто бедно событиями, внешне – это монотонно-нудное существование. Но если вглядеться во внутреннюю жизнь Моцарта, нетрудно увидеть, что она сказочно богата событиями. Серые годы зальцбургского житья явились порой изумительно яркого расцвета моцартовского гения. Прикованный службой к захолустному Зальцбургу, он был лишен широчайшего поля жизненных наблюдений, яркой смены разнообразных впечатлений, творческого общения с выдающимися людьми искусства. Но в зальцбургском уединении было другое, чего прежде так недоставало Вольфгангу – покой. Жизнь на какое-то время стала оседлой, без гонки бесконечных переездов, без шумных выступлений, без любопытствующей толпы. Появилась возможность писать не урывками, а ежедневно, в свободное от службы время. Теперь Вольфганг мог на досуге не спеша разобраться во всем, что было ранее накоплено, всесторонне осмыслить его и творчески переплавить в новое, свое, истинно моцартовское, и затем уверенно двинуться по найденному пути.
Именно потому годы, проведенные дома, отмечены исключительной, неслыханной даже для Моцарта продуктивностью. В эту пору он создал множество произведений самого разнообразного жанра. Тут и симфонии, и серенады, и дивертисменты, и духовные мессы, и квартеты, и танцы, и клавирные сонаты, и скрипичные концерты, и концерты для клавира.
Не мог он писать лишь оперы: в Зальцбурге не было оперного театра. Между тем сочинять оперы было самой заветной мечтой Моцарта. В опере видел он истинное призвание своей жизни.
А потому с такой радостью и принял предложение, пришедшее от баварского курфюрста, – написать для мюнхенского карнавала итальянскую комическую оперу. И Леопольд и его влиятельные друзья вне Зальцбурга сделали все возможное, чтобы архиепископ не чинил никаких препон и отпустил своего концертмейстера в Мюнхен на постановку оперы. Архиепископ уступил. Сделал он это, конечно, не ради Моцарта, чьи творческие устремления были ему абсолютно безразличны. Архиепископ просто не хотел портить отношений со своим владетельным соседом – баварским курфюрстом.
Уже в начале января 1775 года новая опера – «Мнимая садовница» – была поставлена в Мюнхене. И Леопольд и Наннерл, специально приехавшая вслед за отцом и братом на премьеру, стали свидетелями нового триумфа Вольфганга. А сам он вновь пережил то, что так мило было его сердцу, о чем безуспешно мечтал все эти годы, без чего не мог жить.
Гулкая тьма пустого зала; полуосвещенная сцена, откуда несет особым, непередаваемо своеобразным запахом клея, слежавшейся пыли, пудры и духов; певцы, капризно недовольные своими партиями; певицы, одолевающие просьбами дописать к арии пару-другую эффектных колоратурных рулад; стоящий в оркестре клавир, за пультом которого тут же, на репетиции, перерабатывается партитура, дописываются арии и целые сцены; музыканты, сперва ворчливые, недовольные тем, что юный маэстро заставляет без конца повторять одно и то же трудное место, потом, когда уже можно кончать репетицию, не расходящиеся по домам и стуком смычков о деки скрипок, шумными аплодисментами выражающие свой восторг юным маэстро.
Радостью и счастьем веет от каждой строки письма Вольфганга к матери, написанного на другой день после премьеры «Мнимой садовницы».
«Слава богу! Вчера, 13-го, моя опера была представлена и так понравилась, что я, мамочка, не могу тебе описать весь шум, какой поднялся вокруг нее. Первое, театр был настолько набит, что многие вынуждены были отправиться обратно. После каждой арии всякий раз поднимался жуткий вой с аплодисментами и криками: «Viva, Maestro!..» После окончания оперы, то есть в тот промежуток времени, пока не начнется балет, обычно бывает тихо. А тут – ничего другого, кроме аплодисментов и криков «браво». И то прекратятся, то снова начнутся».
Вот что писал об этой опере знаменитый поэт того времени Христиан Даниэль Шубарт: «…я слышал «оперу-буффа», написанную чудесным гением – Моцартом. Она называется «La finta gardiniera». Пламя гения вспыхивает то здесь, то там, но это еще не тихий, спокойный огонь алтаря, возносящийся к небу клубами фимиама». И дальше, на основании лишь этой юношеской оперы девятнадцатилетнего композитора, прозорливый Шубарт воистину пророчески восклицает: «Если Моцарт не растение, искусственно выведенное в оранжерее, он станет одним из величайших композиторов, когда-либо живших на земле».
Весь Мюнхен славил молодого Моцарта. И лишь один человек презрительно пожимал плечами и хмуро поглядывал на ликующих людей. Это был архиепископ зальцбургский – граф Иероним Колоредо. Приехав на карнавал в Мюнхен, он был неприятно поражен тем, что его концертмейстеру – и без того, по его мнению, заносчивому и дерзкому – оказываются такие неумеренные почести. Похвалы лишь портят слуг, считал он. Вольфганг же в глазах графа Колоредо был всего-навсего слугой. И архиепископу претило, что его слуге расточает щедрые похвалы сам баварский курфюрст. Успех «Мнимой садовницы» настолько озлобил Иеронима Колоредо, что он уехал из Мюнхена, так и не послушав оперы.
А Вольфганг? Ему не было никакого дела до архиепископа. Вырвавшись, наконец, на свободу, он постарался забыть зальцбургскую неволю и по-юношески беспечно предавался утехам и развлечениям, которыми так богат карнавал.
Но промелькнул праздник, пора было возвращаться домой. Там был хоть и черствый, хоть и пропитанный горечью рабства, а все же верный кусок хлеба.
После Мюнхена еще неприглядней показалась зальцбургская неволя. Ее не могло скрасить даже сочинение новой оперы. В апреле Зальцбург проездом из Парижа в Вену посетил эрцгерцог Максимилиан, брат австрийского императора. В честь именитого гостя архиепископ устроил гала-представление, а Вольфганг, по его заказу, написал небольшую оперу. Это двухактная итальянская опера-пастораль на античный сюжет – «Король-пастух», по либретто Метастазио. Особых лавров она не принесла композитору, несмотря на то, что написана в благородном стиле строгой классики и изобилует красивыми, выразительными ариями. Объяснялось это тем, что архиепископу вообще было все равно, что слушать, а гостя куда больше занимали воспоминания о публичных домах Парижа и их веселых обитательницах, чем опера Моцарта. Так после одного представления «Король-пастух» и был предан забвению.
И все же дела Моцарта были не так уж безнадежно плохи. Мюнхенский успех не прошел бесследно, отголоски его докатились и до Зальцбурга. Они распахнули перед Вольфгангом двери дворцов многих аристократов и богатых бюргеров. Теперь он часто бывает в доме графини Лодрон, обучая ее двух дочерей игре на клавесине. Именно для них написан чудесный концерт для двух клавиров, полный грации, легкого изящества, галантной игривости. Но моцартовская галантность, характерная для многих его произведений этого периода, ничего общего не имеет с бездумной развлекательностью галантной музыки, культивировавшейся в аристократических салонах. У Моцарта каждое из его творений – большое или малое – овеяно глубоким чувством, пронизано мыслью, согрето жаром души.
Для графини Лодрон он пишет и знаменитую «Лодронскую ночную музыку» – гениальное творение, в котором перемежаются брызжущее через край веселье и легкая грусть, лукавая улыбка и тихая радость, порхающий менуэт и задумчиво мечтательный, как весенние сумерки, ноктюрн.
По заказу бургомистра Зальцбурга Хафнера, в честь бракосочетания его дочери, он сочиняет известную «Хафнер-серенаду» – одно из самых поэтичных созданий Моцарта.
В ту же пору Вольфганг создает для придворной капеллы, для зальцбургских дворян и бюргеров восхитительные дивертисменты, серенады, «ночные музыки», застольную музыку – многочисленную и разнообразную бытовую музыку, напоенную благоуханным ароматом народной песни и танца. Все эти сочинения, написанные по заказу, на определенный случай, со строго утилитарной целью – для исполнения в быту, явились истинными шедеврами мировой музыкальной поэзии.
Творчество приносило радость, а жизнь в Зальцбурге – горести и огорчения. Все сильней становилась неприязнь князя-архиепископа к Вольфгангу. Этот «надменный и надутый поп» – так в одном из своих писем назвал Моцарт Иеронима Колоредо – не мог простить концертмейстеру того, что тот перед ним не лебезит, угодливо не внимает его вздорным суждениям о музыке, а держит себя с достоинством, независимо.
Не раз в присутствии придворных певцов и музыкантов капеллы архиепископ называл Вольфганга шалопаем, мальчишкой, бездельником, неучем, которому не вред отправиться в Италию подучиться. Он топал ногами и, брызгая слюной, исступленно орал, что юный Моцарт не стоит денег, которые получает (а получал Вольфганг вообще-то сущую безделицу). Пылкому, как порох, Вольфгангу немалых сил стоило сдерживать себя и не отвечать резкостью на грубость. Только любовь к отцу, матери, сестре, на чьи головы обрушился бы удар подлого и мстительного князя, помогала в такие минуты подавлять обуревающий его гнев.
Он ненавидел. Ненавидел тупого, самодовольного и жестокого Иеронима Колоредо, его чванливую дворню, музыкантов капеллы, равнодушных ремесленников и трактирных буянов, которым глубоко безразличны и музыка, и просвещение, и книги, и наука – словом, все, кроме выпивки и денег; ненавидел ханжество и гнетущую беспросветность зальцбургской жизни, метко охарактеризованной издавна бытовавшей здесь поговоркой: «Приезжающий в Зальцбург через год глупеет, через два превращается в кретина и лишь спустя три года становится настоящим зальцбуржцем».
Письма Вольфганга этих лет полны уничтожающих оценок Зальцбурга и его обитателей.
Вот картина нравов зальцбургских музыкантов и их хозяев, столь же невежественных, сколь и наглых. Интересно, что уже в этом письме молодой Моцарт четко выразил свое непреклонное стремление к полной творческой свободе и независимости:
«Одна из главных причин, отчего Зальцбург мне столь ненавистен, – пишет он отцу, – грубость, негодяйство и распущенность придворных музыкантов. Порядочному человеку, ведущему нормальный образ жизни, жить с ними невозможно. Он должен не работать с ними, а стыдиться их! Затем, – возможно, по этой самой причине – музыку у нас не любят и не почитают. Ведь в Зальцбурге всякий, кому не лень, суется распоряжаться музыкой. И если уж я вынужден что-нибудь вместе с ними делать, то мне должна быть предоставлена полная свобода действий. Обер-гофмейстер во всем, что касается музыки, не должен мне ничего указывать».
Недовольство вопиющей социальной несправедливостью, боль от сознания того, что эту гнусную жизнь надо изменить, но сделать это он не в силах, постоянная внутренняя борьба – все это находит отражение в произведениях Моцарта зальцбургского периода. Все чаще звучат в них горечь и драматизм. Но было бы неверно думать, что в этих сочинениях преобладают мрачные краски. Их общий колорит светлый, жизнеутверждающий, как лучезарен жизнелюбивый моцартовский гений. Более того, в произведениях зальцбургской поры веет мятежный дух, все громче и громче звучит бунтарский, романтический протест против тирании и насилия над человеческой личностью.
Гениальный художник, Моцарт был передовым сыном своей эпохи – предгрозовой эпохи подготовки буржуазной революции. На гребне этого революционного подъема родилось такое своеобразное течение немецкой прогрессивной литературы, как «Штурм унд Дранг» (по-русски «Буря и натиск»). Штюрмеры в своих произведениях протестовали против феодально-абсолютистских порядков, требовали свободы чувства, прославляли сильную и могучую, оригинальную и «бурную» личность.
Моцарт в звуках, в музыке воплотил то, что в литературе выражали его великие современники – молодой Гёте, юный Шиллер и их единомышленники и соратники по «Буре и натиску».
Конфликт Вольфганга с архиепископом становился все напряженней. Иероним Колоредо гордился своим упорством, считая его ценнейшим качеством государя. Однако в столкновении с Вольфгангом он неожиданно для себя открыл, что этот маленький, хрупкий, с виду такой мягкий человек оказался тверже гранита. Это открытие привело архиепископа в бешенство. И столкновение перешло в борьбу – исступленно-яростную со стороны князя, глухую и затаенную со стороны его концертмейстера.
К двадцати годам жизнь многому научила Вольфганга. И чем больше распоясывался князь, тем упорнее сдерживал себя Вольфганг. Для него важно было еще и другое – сделать отца своим союзником в этой борьбе. И он добился успеха. Леопольд, издавна приученный склонять голову перед власть имущими, считавший, что плетью обуха не перешибешь, без всякого, как казалось ему, воздействия со стороны сына целиком принял сторону Вольфганга в разгоревшейся борьбе.
Прочь из Зальцбурга! Быстрей и навсегда! – эта мысль теперь не покидала не только Вольфганга, но и его отца. Старый Моцарт, в отличие от сына, с утроенной энергией принимался за всякое нелегкое житейское дело. И чем больше на пути встречалось препятствий, чем больше возникало трудностей, тем активнее он действовал.
С конца зимы 1777 года Леопольд зачастил в резиденцию архиепископа. В соборе после литургии, во дворце после трапезы, на псарне перед охотой – повсюду подстерегал он Иеронима Колоредо и надоедливо, неотступно одолевал просьбами об отпуске для себя и сына. Леопольд использовал каждого мало-мальски хорошо относящегося к нему человека – камергера, гофмейстера, даже личного камердинера князя, чтобы с их помощью внушить архиепископу мысль, что Моцартов не следует удерживать.
В марте он пишет официальное прошение об отпуске, но получает отказ. В июне вновь направляет во дворец такую же просьбу. И снова отказ. Дело было, конечно, не в том, что Колоредо ценил гениального Моцарта и стремился удержать его при своем дворе. Напротив, он был уверен, что за те же небольшие деньги легко сыщет десяток таких же музыкантов, как Вольфганг, но более услужливых и безропотных. Этот мелкий и злобный человек просто не хотел признать себя побежденным. Он дошел до того, что потребовал, чтобы прошение – всепокорнейшее прошение – было написано не отцом, а самим сыном. Пусть хоть видимость сохранится, будто в разгоревшейся борьбе победа осталась не за ничтожным музыкантишкой, а за всесильным князем-архиепископом.
И Вольфгангу пришлось пройти и через это унижение. Он принудил себя написать – скорей всего, под диктовку отца – прошение об увольнении со службы на имя «его высокопреподобия, наидостойнейшего князя Священной Римской империи, милостивого князя и властелина».
Почти месяц тянул архиепископ с ответом. Наконец последовало разрешение: «Придворному казначейству – с тем, чтобы отец и сын, согласно евангелию, получили разрешение впредь отправиться на поиски своего счастья». Но и здесь архиепископ остался верен себе – он вероломно нарушил обещание. Леопольд, добиваясь отпуска, не раз сетовал на то, что Вольфганг не приспособлен к самостоятельной жизни, в путешествии ему не обойтись без отца. Вот потому-то Иероним Колоредо в самый последний момент запретил Леопольду покинуть Зальцбург.
И тогда на семейном совете было решено – Вольфганг поедет с матерью. Конечно, пятидесятисемилетней женщине не легко пускаться в дальнюю и трудную дорогу. Да что поделаешь! Разве могла Анна Мария бросить своего мальчика? Хотя ему уже перевалило за двадцать, хотя он сочиняет божественную музыку и умно и смело судит о многих вещах, которые ей не всегда понятны, для матери он по-прежнему ребенок, любимый мальчик, горячий и безрассудный, настолько отрешенный от простых житейских дел, что за него всегда боязно.
И Анна Мария, не колеблясь, согласилась взвалить на себя все тяготы пути и неустроенной жизни на чужбине.
После долгих раздумий решили, что сначала Вольфганг с матерью отправятся в Мюнхен. Баварский курфюрст большой любитель музыки, просвещенный государь. В свое время он восторгался искусством чудо-малыша и совсем недавно рукоплескал «Мнимой садовнице». У него наверняка найдется для Моцарта хорошее место. А не сойдутся в условиях – тогда в Маннгейм, город, славящийся своей музыкальностью.
Так думал Леопольд, проницательный и мудрый старый Моцарт, гордящийся тем, что знает жизнь как свои пять пальцев. И примерно так же под его влиянием рассуждали Анна Мария и Наннерл. А Вольфганг? Юноша слишком опьянен был радостью обретенной свободы, чтобы думать о том, что ожидает его в будущем. Зальцбургской кабале пришел конец. Свобода – это и есть настоящее счастье!
Одно беспокоило его, пока шли приготовления к отъезду: не выскользнуло бы это счастье, не задержал бы архиепископ в самый последний момент. И потому Вольфганг целыми днями бродил по окрестностям Зальцбурга, стараясь не попадаться на глаза архиепископу и его челяди.
Стояла ясная и тихая осень. Рыхлые облака неспешно плыли по голубому небу на север – туда, куда лежал путь Вольфганга. Багряные деревья неслышно роняли сухой лист, мирно синели на горизонте горы.
Снизу, где за голубым выплеском озерка желтел луг, доносился нежный перезвон колокольчиков и заливистый лай собак. Стадо пестрых коров, подгоняемых лохматыми овчарками, брело на водопой.
Над пологими холмами, поросшими густым молодняком, стлался сладковато-терпкий дым. Это угольщики выжигали уголь. За работой пели. То взметнувшись ввысь, то ниспадая, звучали замысловатые переливы иодлей, мечтательных и задумчивых, бойких и веселых.
Как радостно на душе у Вольфганга оттого, что он такой же свободный, как мелодия этих вольных, переливчатых иодлей, как легко от сознания, что еще несколько дней, и он будет далеко и от Зальцбурга и от его обитателей! И вместе с тем чуточку грустно. Грустно, что никогда не повторится этот тихий, ясный день, что больше никогда не услышит он этих наивных и мудрых в своей затейливой простоте переливчатых песен…
Так начинался для Моцарта день 23 сентября 1777 года, день прощания с Зальцбургом.








