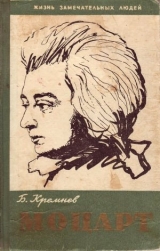
Текст книги "Моцарт"
Автор книги: Борис Кремнев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 19 страниц)
«Могу только плакать – сердце мое слишком чувствительно… Почерк у меня плохой от природы – чистописанию я никогда не обучался, но в жизни своей никогда так плохо не писал, как на сей раз: не могу, сердце обливается слезами!»
И странно, чем сильнее он страдал, тем больше любил, хотя видел, что она этой любви не стоит. На прощанье, перед тем как покинуть Мюнхен, Вольфганг подарил Алоизии истинный шедевр – одну из красивейших арий, написанную на текст, взятый из либретто оперы Глюка «Альцеста».
Пришел новый, 1779 год. Печально встретил его Вольфганг. Через несколько дней отъезд из Мюнхена. Снова Зальцбург, снова рабство, снова архиепископ… Почти полтора года прошло с тех пор, как он вырвался из архиепископской власти. Не легко дались ему эти месяцы. Он бедствовал, мучился, выбивался из сил, потерял любимую мать. И для чего? Для того, чтобы снова угодить в петлю.
Через несколько недель ему исполнится двадцать три года. Это не так уж много. И это очень много, если живешь в Зальцбурге, «если растрачиваешь попусту свои юные годы, бездействуя и прозябая в такой поганой дыре, это достаточно печально, да и убыточно к тому ж».
Итак, Моцарту оставался один лишь путь – в Зальцбург, туда, где ждут отец и сестра, забота о которых лежит на его плечах. Тяжелый путь, такой же грустный, как эта тягучая песня кучера, такой же беспросветный, как это серовато-белесое, затянутое облаками небо, такой же мрачный, как тот зловещий замок, уже замаячивший вдали.
В середине января Иероним Колоредо, князь-архиепископ зальцбургский, вернувшись с охоты и просматривая накопившиеся деловые бумаги, обнаружил одну, переписанную с особым старанием, так, как он любил. Бумага эта гласила:
Ваше высокопреподобие!
Наидостойнейший князь Священной
Римской империи!
Милостивый князь
и
Властелин!
Ваше высокопреподобие оказало мне величайшую милость – приняло меня на свою службу после кончины Каэтана Адельгассера. Сим всепокорнейше прошу зачислить меня придворным органистом вашего высокопреподобия. Уповая на вашу благосклонность и милость, низко и всепокорнейше кланяюсь,
вашего высокопреподобия
Милостивого князя
и
Властелина
верноподданный и всепокорнейший
Вольфганг Амадей Моцарт.
Отдавая бумагу придворному казначею, с тем чтобы тот зачислил просителя на денежное содержание, Иероним Колоредо довольно усмехнулся: юный Моцарт, строптивый и гордый Моцарт был побежден.
«ИДОМЕНЕЙ»
Да, Моцарт был побежден, но не сломлен. Архиепископ заблуждался, думая, что поверженный наземь Моцарт будет ползать у него в ногах. Сжать можно и стальную пружину. Но чем больше ее сжимаешь, тем больше и сопротивление: сила сжатия увеличивает силу пружины. Иероним Колоредо не понимал, что Моцарта можно уничтожить, но сломить нельзя. Он не понимал, что для таких жизнестойких натур, как Моцарт, поражение – лишь один из этапов большой борьбы, а потому в конечном счете – одна из ступеней к новым победам.
Архиепископу и на ум не приходило, что его слуга, органист и композитор, ежемесячно получающий жалкие крохи в придворном казначействе, обладает несметным богатством.
Зато это отлично знал Вольфганг. Передовой сын своего века, вскормленный великими идеями Просвещения, он с предельной четкостью провозглашал непобедимую силу разума: «Наше богатство умирает вместе с нами, ибо оно – в нашей голове, а отнять ее у нас никто не сможет, разве что нам отрубят голову, ну, а тогда уж нам больше не в чем будет нуждаться».
Это-то богатство и помогало ему сносить все удары, быть мужественным и стойким в борьбе против тирании. Светлый ум подсказывал Моцарту: главное – не дать себя обескрылить, лишить того, что, подобно лучу сильного фонаря, пробивает мрак окружающего и позволяет заглянуть в будущее, не дать лишить себя мечты.
«На земле, – заявляет он, – нет смертного, который иногда не помечтал бы! Радостные мечты, тихие мечты, сладкие мечты! Мечты, если б они осуществились, жизнь моя, скорей печальная, чем радостная, стала бы терпимой».
Жизнь Моцарта в Зальцбурге была действительно скорей печальной, чем радостной. Ничто не изменилось здесь – та же служба, те же ненавистные Моцарту обыватели. Он надеялся найти утешение, покой хотя бы дома. Но и дома было несладко. Отец очень переменился за последнее время: сгорбился, высох, стал маленьким и жалким. Но тревожней было другое. Леопольд без конца твердил о деньгах – денег мало, денег не хватает, деньги надо беречь, деньги надо копить, деньги надо ценить – и о покорности: архиепископ милостив, он великодушно забыл старое, и пора, раз и навсегда пора выбросить из головы всякие вздорные мальчишеские планы, надо быть благодарным за то, что имеешь постоянный и верный кусок хлеба.
Переменилась и Наннерл. Находившись по урокам, она теперь часами просиживала в своей комнате у окошка и все смотрела и смотрела на улицу, словно кого-то поджидала. А когда Вольфганг однажды пошутил, что так, мол, можно все свое счастье проглядеть, с Наннерл случилась истерика, и он был не рад попытке развеселить сестру.
Серая, тусклая жизнь. Ненавистный, коверкающий человеческие жизни город. Поганая дыра.
Сколько раз, идя по утрам на службу и заслышав рожок почтовой кареты, он прибавлял шаг, чтобы хоть взглянуть на тех счастливцев, которые покидают Зальцбург, отправляются в дорогу, едут путешествовать. Путешествие!.. Для Вольфганга оно очень много значило.
«…Люди, по крайней мере люди искусства и науки, лишенные возможности ездить, – жалкие существа… Человек посредственного таланта навсегда останется посредственностью, ездит он или нет. Но человеку с талантом превосходным (а я таковым обладаю, отрицать сие – против бога грешить) будет худо, если он все время сиднем просидит на одном и том же месте».
Почти два года продолжалось прозябание Моцарта в Зальцбурге. И вдруг – радость! Весточка из Мюнхена – заказ на новую оперу – «Идоменей».
Как только архиепископ дал разрешение на отпуск (хитрый Иероним Колоредо не хотел портить отношений со своим влиятельным соседом Карлом Теодором – курфюрстом пфальцским и баварским, заказавшим Моцарту оперу), Вольфганг тотчас же собрался в дорогу.
Не успела почтовая карета выехать за городские ворота – и гнетущей зальцбургской тоски как не бывало! Вольфганг снова бодр и весел. Первое же письмо, которое он прислал отцу из Мюнхена, полно шуток и юмора:
«Благополучным и радостным был мой приезд! Благополучным, ибо в дороге ничего дурного не стряслось, радостным, так как мы едва дождались момента прибытия к месту назначения. Путешествие было хотя и коротким, но тягостным. Заверяю вас, ни один из нас ночью не мог ни минуты поспать. Эта карета вытряхивает душу! А сиденья! Тверды как камень! Начиная от Вассербурга, я и вправду думал, что не довезу до Мюнхена свой зад! Был он весь натруженный и, предположительно, пламенно-красный. Целые две станции я ехал, упершись руками в сиденье, а зад держал на весу».
В Мюнхене Моцарт с головой ушел в работу. Ни пестрая сутолока двора, ни множество старых и добрых друзей (сюда перебрался весь музыкальный Маннгейм) не могли оторвать его от дела. Ни одно развлечение – а в Мюнхене их было предостаточно – не интересовало его, хотя до развлечений он был большой охотник. И это не потому, что до представления «Идоменея» оставалось времени в обрез – всего лишь два с половиной месяца. Работа над оперой была для Моцарта лучшим развлечением, больше того – счастьем. Моцарт при всей его неодолимой потребности творить никогда не мог писать для своего письменного стола. Творчество для него было не только средством излить душу людям, но и возможностью общаться с людьми и воздействовать на них. Он мог по-настоящему творить лишь тогда, когда был уверен, что его творение будет услышано. А эту уверенность давал заказ.
И вот сейчас этот заказ был. И не просто заказ, а первый в его зрелые годы заказ на оперу. Как славно, что, работая над ней, можно ничем не отвлекаться, ни о чем постороннем не заботиться, не думать о том, чем завтра заплатить трактирщику по счету! «Оперу «Идоменей» он писал в исключительно благоприятных условиях, – замечает один из современников. – Было ему двадцать пять лет, находился он в расцвете сил, знания его были обширны, любил он свое искусство пламенно, фантазия его была юношески могучей… писал он для одной из самых превосходных в мире капелл, от которой мог многого требовать, а потому ничем не ограничивал полет своей фантазии».
Вот почему Моцарт был так счастлив, вот почему труд его и был таким радостным.
Радостным, но не легким. Много хлопот доставило Моцарту либретто. Когда пришел неожиданный заказ на оперу, выбирать либреттиста уже было некогда, и ничего другого не оставалось, как удовольствоваться своим, доморощенным поэтом. Либретто сочинял зальцбургский аббат, некий Вареско. Третьесортный литератор, столь же кичливый, сколь и бездарный, он кое-как перелицевал на итальянский лад трагедию Расина. Ни поэтического таланта, ни знания сцены у него не было ни на грош, зато самомнения – хоть отбавляй. Так что Моцарту пришлось не только обучать его искусству писать для сцены, но и насильно заставлять переделывать заведомо ходульные сцены, сокращать длинноты, на что влюбленный в свое творчество аббат соглашался с большим трудом. Положение осложнялось тем, что все переработки приходилось делать на ходу, параллельно с тем, как писалась музыка. К тому же Вареско находился в Зальцбурге, и общаться с ним можно было только письменно, через отца.
И все же, несмотря на все старания Моцарта, либретто чванливого поэта-дилетанта получилось неудачным – ходульным, малопоэтичным, далеким от воспроизведения на сцене правды жизни, истины страстей и характеров. Приходится лишь изумляться чуду, свершенному гением Моцарта. Он окропил живой водой застывшую в мертвом оцепенении схему – и она ожила. Моцарт пробился сквозь толщу штамповых наслоений либретто к тому, что составляло ценность Расиновой трагедии. Сильная драматическая коллизия, рождающая напряженную борьбу в душе главного героя – Идоменея, царя Крита (он горячо любит своего единственного сына, царевича Идаманта, и вынужден жертвовать его жизнью ради блага отчизны), острый драматический конфликт между пленной греческой царевной Илией и Электрой, соперницами в любви к Идаманту, великодушная, преисполненная самопожертвования борьба между Илией и Идамантом – все это помогало композитору, преодолевать ложную ходульность либреттиста.
«Идоменей» предназначался для карнавала. Возвышенно героический характер спектакля подсказал Моцарту форму итальянской оперы-сериа. В свое время он написал «Лючио Силлу», в котором впервые пытался наполнить обветшалую форму итальянской «серьезной оперы» драматическим содержанием. С тех пор прошло семь лет. За это время он из подростка, завершающего период ученичества, превратился в зрелого мастера, в совершенстве изучил не только итальянскую оперу-сериа, но и французскую оперу, и реформаторскую оперу Глюка.
И вот теперь, во всеоружии приобретенных знаний он предпринял смелый опыт обобщения достижений существовавших до этого оперных школ. Используя широко развитые арии виртуозного характера, он стремится насытить их драматическим содержанием. Он не поступается естественностью в угоду виртуозности (а именно так делали его итальянские коллеги – композиторы и либреттисты), а настойчиво ищет пути к сценической правде. По этому поводу у него не раз возникают стычки как с либреттистом, так и с исполнителем заглавной партии – тенором Раафом, воспитанном на традициях оперы-сериа. Один из отголосков этих стычек – письмо к отцу – дает наглядное представление о том, к чему стремился Моцарт, сочиняя «Идоменей»:
«В последней сцене 2-го акта у Идоменея есть меж хорами ария или, больше того, каватина. Здесь лучше будет дать простой речитатив. Инструменты меж тем смогут хорошо поработать. Во время этой сцены, в постановочном отношении лучшей в опере… на театре произойдет такой шум и беспорядок, что ария здесь будет явно не к месту. А кроме всего – ведь буря. Неужели ей стихнуть ради арии господина Раафа?»
Моцарт настойчиво требует от либреттиста изменить одну из сцен, ибо «царю не годится быть на корабле одному… Он не может быть один на корабле. В противном случае некоторые его генералы, наперсники (статисты) должны высадиться вместе с ним. Но тогда царь должен сказать им несколько слов – пусть они его оставят одного. В той печальной ситуации, в которой он находится, это будет вполне естественно».
Он неустанно печется о том, чтобы спектакль был максимально выразительным. В сюжетном развитии оперы большую роль играет эпизод, когда из морской пучины раздается глас подводного чудовища, возвещающий Идоменею волю богов.
«Представьте театр, – пишет Моцарт. – Голос должен быть действительно страшным. Он должен убеждать. Чтобы поверили – это действительно так. А как добьешься этого, если монолог будет слишком длинным… Если бы в «Гамлете» монолог духа не был столь длинным, воздействие было бы еще сильней. Монолог подводного чудовища очень легко сократить, от этого он больше выиграет, нежели проиграет».
После долгих исканий Моцарт находит то, что нужно для этой сцены: неожиданно смолкает весь оркестр, и в наступившей тишине раздается голос чудовища. Он звучит на фоне зловеще-грозного аккомпанемента двух тромбонов и двух валторн, размещенных под сценой, – там, откуда несется голос.
Главное выразительное средство Моцарта – музыка. В отличие от Глюка, сочиняя оперу, Вольфганг постоянно думает о том, что он композитор. Или, если точнее говорить, музыкальный драматург, стремящийся в звуках выразить все богатство душевного мира людей, раскрыть их характеры, показать обуревающие их страсти, глубокие и значительные. Правда, в «Идоменее» ему далеко еще не все удалось – слишком мешала схематичность либретто, сильно сковывали тиски избранного жанра оперы-сериа. Но в «Идоменее» уже заложены зерна, которые в недалеком будущем, в пору великих свершений, дадут богатейшие всходы: «Идоменей» подготовил «Дон Жуана».
Партитура «Идоменея» полна вдохновенных страниц. Недаром сам композитор до конца жизни очень любил свое детище и не раз возвращался к нему: многие лучшие эпизоды его последних опер – «Милосердия Тита», «Волшебной флейты» – навеяны «Идоменеем». Героически приподнятые, полные высокой патетики арии Идоменея, восхитительная по своей мелодической красоте ария-андантино Илии, сопровождаемая четырьмя солирующими инструментами – флейтой, гобоем, валторной и фаготом, – изумительные ансамбли, особенно дуэт влюбленных и знаменитый квартет, в котором состязаются три сопрано и тенор, – одни из лучших страниц мировой оперной музыки.
Наряду с ариями и ансамблями Моцарт, подобно Глюку, широко использует хор и оркестр. Хоры оперы драматичны и выразительны. О них один из зрителей писал, что «хор из второго акта, во время бури, настолько силен, что каждого слушателя аж мороз по коже пробирает даже в самый жаркий день».
Оркестр «Идоменея» не просто аккомпанирует певцам, а вторгается в действие, способствует его развитию, рисует яркие и зримые звуковые картины, помогает проникнуть в душевный мир героев.
Изящная, полная грации и прелести балетная музыка к «Идоменею» и поныне часто исполняется в симфонических концертах, по радио, доставляя слушателям огромное эстетическое наслаждение.
Прокладывая новые пути в развитии оперы, Моцарт ни на минуту не забывал, что он творит не для узкого кружка избранных ценителей, а для широких слоев публики. Композитор стремится к тому, чтобы его музыка была понятна каждому, кто любит искусство и чувствует прекрасное.
В этом истинная демократичность творчества Моцарта.
Отвечая отцу, выразившему опасение, не оказался бы «Идоменей» слишком сложным для слушателей, он спокойно и мудро заявляет:
«О так называемой доступности не беспокойтесь. Музыка моей оперы – для людей всех сортов, кроме тех, у кого длинные уши» (то есть кроме ослов).
«Идоменей» имел большой успех. Даже курфюрст и тот обратился к Моцарту с такой похвалой:
– Нельзя было и предполагать, что в такой маленькой голове скрываются такие великие мысли.
Казалось, Моцарт, наконец, получил признание. Его поздравляли, наперебой расхваливали, в Мюнхене только и говорили, что о нем и его чудесной опере. Он стал прославленным, всеми почитаемым композитором. Но только для Мюнхена. Иероним Колоредо очень скоро напомнил ему об этом. Не успел Моцарт отдохнуть от напряженнейшей работы над оперой, как получил приказ немедленно явиться к хозяину. Хозяин гневался, что слуга посмел просрочить свой отпуск.
Но на этот раз грубый окрик архиепископа не привел Моцарта в негодование, а, напротив, обрадовал: прибыть надо было не в Зальцбург, а в Вену. После смерти императрицы Марии Терезии Иероним Колоредо поспешил в императорскую резиденцию, чтобы извлечь возможно большую выгоду из предстоящих правительственных перемен. Как и подобает владетельному князю, он прихватил с собой челядь – камердинеров, лакеев, поваров, кондитеров и, разумеется, артистов – скрипача Брунетти и певца Цезарелли. Недоставало только композитора.
Так что Моцарт ехал в Вену с радостью и надеждой, что здесь он, наконец, повстречается со своим трудноуловимым, постоянно ускользающим счастьем.
С БОЕМ ДОБЫТАЯ СВОБОДА
Вена встретила Моцарта солнцем, нежной зеленью платанов и лип, ландышами и фиалками, продававшимися в громадных корзинах на перекрестках по-весеннему бурливых улиц. И успехом, неожиданным, а потому особенно охмеляющим.
Вена вспомнила былую славу Моцарта. Такие просвещенные аристократы, как барон Браун, графиня Тун, русский посол князь Голицын наперебой приглашают его к себе. Он концертирует и имеет огромный успех. «Его игра на фортепьяно, – отмечает Франтишек Нимечек, – очень скоро снискала ему в Вене поклонников и почитателей. И хотя Вена насчитывала немало великих мастеров игры на этом инструменте, ставшем излюбленным инструментом публики, все же ни один не мог сравниться с нашим Моцартом».
За семь лет, проведенных вне Вены, он вырос в непревзойденного артиста, в совершенстве владеющего инструментом, в тонкого и глубокого музыканта, блестящего виртуоза. Он покорял венцев задушевной лиричностью и драматизмом, изяществом и нежностью игры, изумительной певучестью звука, благородством и выразительностью фразировки. Все это удивительно сочеталось с бисерной техникой, с головокружительной беглостью, особенно левой руки. Эти качества, по свидетельству Нимечка, «принесли Моцарту славу величайшего пианиста своего времени».
За концертами в частных домах последовали и открытые концерты-академии, неизменно выливавшиеся в триумф. «Я вынужден был все играть и играть, ибо аплодисментам конца не было». «Аплодисменты в театре я уже вам описал, но должен еще прибавить: больше всего меня обрадовало и изумило следующее – поразительная тишина и вдруг, посреди игры, крики «браво». Для Вены, где так много хороших пианистов, это, разумеется, большая честь», – с гордостью сообщает он отцу.
Но мало кто из венцев, восхищавшихся Моцартом, знал, что этот божественный артист, властитель дум и чувств множества людей, переполнявших залы, – невольник, что перед каждым концертом ему и его друзьям приходится подолгу унижаться перед архиепископом, испрашивая разрешения выступить, и что чаще всего самодур-архиепископ в этом разрешении отказывает. В восторгающейся, блестящей Вене Моцарт жил таким же рабом, как в захолустном Зальцбурге. От этого рабство становилось еще горше, ярмо еще тесней.
«В 12 часов дня – для меня, к сожалению, немного рановато – мы отправляемся к столу. За ним едят два личных камердинера, контролер, Цетти – кондитер, два повара, Цезарелли, Брунетти и моя скромная особа. Обратите внимание, два камердинера сидят сверху. Я удостоен чести сидеть по крайней мере перед поварами. Мне кажется, что я в Зальцбурге. За столом отпускаются дурацкие, грубые шутки. Со мной никто не шутит, ибо я не произношу ни слова, а если кое-что иногда и вынужден проговорить, то делаю это с самым серьезным видом. Как только заканчиваю еду, сразу же ухожу своей дорогой. По вечерам мы не ужинаем, а каждый получает на руки 3 дуката, вот и раскошеливайся. Архиепископ милостив – его люди приносят ему славу, а он лишает их заработка и ничем не компенсирует…»
По мере того как росла в Вене популярность Моцарта, растет и его недовольство. Наконец произошел взрыв.
Началось с того, что архиепископ приказал своей челяди возвратиться в Зальцбург. С большим трудом удалось Моцарту немного оттянуть свой отъезд. Тогда Колоредо велел выселить его с казенной квартиры. Это не остановило Моцарта, он снял комнату у своей старой знакомой фрау Вебер, которая к этому времени потеряла мужа и перебралась с тремя дочерьми – Йозефой, Констанцей и Софи – в Вену. Алоизия вышла замуж за актера венского Бургтеатра – Ланге.
Архиепископ не хотел признать себя побежденным. Последовал приказ: выезжать немедленно. Моцарт пытался задержаться хотя бы еще на три дня. Но и в этой отсрочке ему было через личного камердинера князя отказано.
Тогда он решился на крайность – отправился на аудиенцию к князю-архиепископу.
«Когда я вошел, первое, что я услыхал, было:
– Ну, когда же он едет, этот молодчик? (Иероним Колоредо разговаривал с ним не иначе, как в третьем лице, так же, как с прочими слугами. – Б. К.).
Я: – Я хотел ехать сегодня ночью, но место в обычной почтовой карете уже было занято.
Тут его прорвало: я отъявленнейший прощелыга из всех известных ему; ни один человек так дурно ему не служит, как я; он советует мне уехать нынче же, не то он напишет домой, чтобы меня лишили жалованья.
Нельзя было и слова вставить, это разрасталось как пожар. Я невозмутимо слушал. Он врал мне в глаза, будто я получаю 500 флоринов жалованья, обзывал меня негодяем, хулиганом, шутом гороховым… Наконец, я не выдержал, вскипел и сказал ему:
– Так. Стало быть, ваше преподобие мною недовольно?
– Что? Угрожать? Ах, скоморох! Вон она, дверь! С этакими паршивцами я впредь не желаю иметь дела!
Я, наконец, сказал:
– А я с вами. Тоже не желаю. Впредь.
– Вон!
А я, уходя:
– Пусть будет так, завтра вы получите все это в письменном виде…»
На другой день Моцарт явился в резиденцию архиепископа и был встречен обер-кухенмейстером (при дворе князя был и такой чин) графом Арко. Тот ничего не знал о вчерашнем столкновении, а потому не принял ни прошения об увольнении, ни возвращаемых путевых и кормовых денег и стал на все лады уговаривать Моцарта не бросать службу.
И потянулась долгая канитель. Каждый день Моцарт приходил за ответом и каждый день уходил, выслушав пустые уговоры и плоские урезонивания.
Граф Арко был растерян. Ссора, конечно, произошла, но кто знает, как еще поведет себя князь? Раз Моцарт подает прошение об уходе – значит, архиепископ ему неугоден, а ведь только архиепископу дано считать кого-либо неугодным. Значит, примешь от Моцарта прошение – оскорбишь архиепископа. А потом, кто его знает, вдруг переменчивому и своенравному князю взбредет в голову задержать своего столь выгодного композитора и органиста? Тогда графу Арко, отпустившему Моцарта, не поздоровится, тогда прости-прощай теплое местечко! Доложить же князю о прошении Моцарта граф Арко не решался.
Вот почему граф Арко и встал на испытанный путь чиновной мудрости – на путь долгих проволочек.
Прошел месяц. Наконец терпение Моцарта лопнуло. Он явился – в который раз! – за ответом и твердо решил ни за что не уходить, пока не пробьется к архиепископу. Но на этот раз выслушивать нескончаемые уговоры не пришлось. Велеречивый обер-кухенмейстер угрюмо молчал. Нынче утром он присутствовал при том, как архиепископ в разговоре с контролером Бенеке обзывал Моцарта мальчишкой, прощелыгой и орал, чтобы он убирался вон.
Потому, когда Моцарт потребовал пропустить его к архиепископу, обходительный граф обрушился на композитора с площадной бранью. Моцарт швырнул на стол прошение и вышел из комнаты, хлопнув дверью.
Графу Арко, однако, показалось, что одна лишь ругань – недостаточно усердная служба хозяину. Он кинулся вслед за Моцартом, догнал его на лестнице и дал пинка ногой.
Моцарт упал. Покатился по ступеням. Ударился головой о входную дверь. Дверь отворилась – и он очутился на улице.
«Так вот, стало быть, в чем заключается манера уговаривать людей и располагать их к себе! – вне себя от ярости пишет он отцу. – Из-за врожденной глупости не принимать прошение, из-за недостатка мужества и склонности к лизоблюдству не говорить ни слова своему господину, четыре недели водить человека за нос и, наконец, когда он принужден сам передать прошение… вышвырнуть его за дверь пинком под зад!»
На всю жизнь запомнил он этот день и архиепископского лакея с графским титулом. На всю жизнь проникся ненавистью и к графу и ко всем прочим титулованным мерзавцам.
«Зальцбург больше не для меня. Разве что представится удобный случай дать графу Арко равным образом пинка под… И это должно произойти на открытой улице».
…Наконец он поднялся с земли. Перед глазами проносились огненные червяки, голова кружилась, ноги были мягкими, словно их лишили костей. Чтобы не упасть, он прислонился к столбу уличного фонаря.
Смеркалось. На тихой улочке не видно было ни души. Только за каменной стеной соседнего дома звонким стаккато рассыпался девичий смех и ворковал грудной, вкрадчивый и нежный бас, о чем-то упрашивая и в чем-то убеждая.
Его вырвало, ему стало легче, и он пошел с трудом, спотыкаясь и пошатываясь из стороны в сторону. Шел долго, сам не зная куда и зачем. Светлые майские сумерки сменились серебристой тьмой, в окнах домов зажглись и погасли огни, на улицах становилось все меньше карет и пешеходов. Слышно было, как в ночной тиши где-то далеко, на городском валу, перекликаются ночные сторожа, а он все шел и шел, без цели, без дум… У него было одно лишь подсознательное желание – идти и идти до тех пор, пока, наконец, настолько устанешь, что свалишься с ног и заснешь. Заснуть, покрепче заснуть, чтобы позабыть обо всем, – вот единственное, чего хотел Вольфганг!
…Как и когда пришел он домой, открыл входную дверь, прошел в свою комнату, не зажигая свет, разделся и лег в постель, Моцарт не помнил. Но кровать не дала ему ни отдыха, ни забвенья: бродя по городу, он настолько устал, что уже не мог уснуть. Так лежал он на спине, не двигаясь, вперив глаза во тьму. А перед ним проносились: архиепископ – тяжелая челюсть, брезгливо оттопыренная нижняя губа, сухие костяшки пальцев, стучащие по столу; отец, яростно мечущийся по комнате с гусиным пером в руке, а потом припавший грудью к столу и пишущий новое письмо к сыну – и слезливое и бранчливое – с новыми просьбами, заклинаниями и угрозами, и все об одном и том же – о выгоде службы в Зальцбурге и о необходимости смирить свою гордыню; откормленная рожа графа Арко; фонарный столб и тихая, безлюдная улочка. Он пробовал закрыть глаза, но тогда видения становились еще явственней, и он вновь раскрывал глаза и вновь глядел во тьму…
Сколько пролежал он так – час, два, несколько минут? Вдруг тихо растворилась дверь и кто-то вошел в комнату. Он хотел посмотреть кто это, но не мог поднять головы. Скрипнула половица. Тонко-тонко – ля-диез четвертой октавы. Шаги. Мягкие шаги босых ног. Ближе. Еще ближе. Его лица коснулись две руки. Горячие, чуть вздрагивающие, они нежно гладили щеки, лоб, волосы. Робкие, ищущие руки приподняли его голову, и к губам порывисто прижались другие губы – жадные, трепещущие, нетерпеливые… И от этих ненасытных губ его обессиленное страданиями тело стало наливаться силой. И все горести дня вдруг потонули в сладостном, исступленном забытьи…
Когда он проснулся, уже светало. Сквозь щель между неплотно притворенными ставнями пробивался в комнату сноп света и падал на изголовье кровати. Рядом с его головой по подушке рассыпались каштановые, с красноватым отливом локоны. От них пахло ландышем и сеном. Констанца спала, по-детски свернувшись калачиком. Ее черные глаза, обычно своим ослепительным огнем озарявшие лицо, были прикрыты длинными ресницами, а потому лицо выглядело некрасивым.
Он вытянул из подушки перышко и легонько поводил им по ее щеке. Констанца мотнула головой, как бы отгоняя докучливую муху. Тогда он, улыбнувшись, пощекотал перышком у нее в носу. Она сморщилась, будто вот-вот расплачется, чихнула и пробудилась.
Пора, пора уходить, пока никто в доме не проснулся!
Так же тихо, как пришла, Констанца выскользнула из комнаты.
А он долго еще лежал в кровати и думал. Думал о том, как удивительно не похожи друг на друга женщины и мужчины: мужчины, глядя, не видят, женщины видят, не глядя. Он, столько раз замечавший, что Констанца, загнанная и забитая Золушка, допоздна не спит, поджидая его прихода, чтобы принести ему горячее кофе; что Констанца, когда их глаза невзначай встречаются, смотрит на него растерянным и молящим взглядом, не придавал всему этому никакого значения. Она же интуитивно поняла, что творилось у него на душе весь этот месяц, хотя он ни словом не обмолвился, и пришла на помощь в тот самый момент, когда помощь была ему всего нужней.
Сердце Моцарта наполнилось теплым и нежным чувством к девушке, которая так доверчиво принесла ему себя и, сама того не ведая, спасла его, помогла собраться с новыми силами.
За это он был ей несказанно благодарен.
Город пробуждался. С улицы несся веселый грохот кованных железом колес – крестьяне окрестных деревень съезжались на рынок. Высоким тенором выводил свои замысловатые рулады угольщик. Соревнуясь с ним, на терцию и на квинту выше выпевал зеленщик: «Лук свежий, картофель молодой, капуста цветная и белокочанная!» И где-то совсем вдалеке стремительным и веселым скерцо разносился дробный перестук лудильщика.
Моцарт распахнул окно. Всходило солнце. Легкий пар поднимался над крышами, омытыми росой.
Начинался новый день. Первый день свободы.








