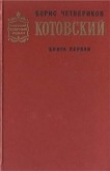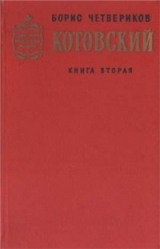
Текст книги "Котовский (Книга 2, Эстафета жизни)"
Автор книги: Борис Четвериков
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 30 страниц)
– Анна Кондратьевна! Анна Кондратьевна! Что же это такое?..
– Значит, рады?
– А как же! И главное, Анна Кондратьевна, какой сюжетный поворот, это же чудо! Самому бы никогда не выдумать.
3
Может быть, Марков долго бы еще кричал, вопил и силился объяснить Анне Кондратьевне законы сюжета и значение сюжетных поворотов, но в этот момент раздался звонок.
– Батюшки, а я и суп не поставила подогревать, заговорилась с вами... Пришел, пришел мой сыночек! Ключ, что ли, забыл? Чего звонит?
С этими возгласами Анна Кондратьевна бросилась открывать дверь, но вместо Евгения в квартиру ввалилась шумная компания юнцов.
– Куда вы? Куда вы? Говорю же, нет его дома!
– Ничего, бабуся, над нами не каплет, обождем.
– И ждать нет никакой надобности!
– Как же вы говорите, его нет, а это кто за столом сидит?
– Эжен! Или это не он? Пардон, боку бонжур, фрикасе! Ха-ха-ха!
Вся орава ввалилась в комнату и стала поочередно представляться Маркову:
– Ричард.
– Роберт.
– Мэри.
– Познакомимся: Марков.
– Не сердитесь, бабуся. Но Эжен нам нужен как воздух. Не обращайте на нас внимания, занимайтесь своим хозяйством, штопайте чулки и тэ-дэ и тэ-пэ. Мы как-нибудь займемся сами!
Марков разглядывал их. Их было пятеро. Две девушки, обе молоденькие, тоненькие, обе поражали обилием косметики на лице и противоестественными манерами. Можно было подумать, что они пародируют кого-то или невозможно переигрывают, изображая отрицательных, идеологически невыдержанных героинь из современной пьесы. Прически у них были ошеломляющие, с челкой и крутыми зачесами на ушах, походка вихляющаяся, платья до того короткие, что нельзя было ни нагнуться, ни сесть. Вначале Марков не расслышал, но из разговора понял, что одна из них – Мэри, а другая – Зизи. Двое молодых людей отрекомендовались Ричардом и Робертом, а третий оказался и вовсе без имени, он отзывался на кличку "Мабузо".
Марков смотрел на них с откровенным изумлением, ему не случалось встречать ничего подобного. Мабузо, в желтом свитере, в ярко-желтых ботинках, с подбритыми бровями на мелком незначительном лице, произвел на Маркова особенно сильное впечатление. Он ломался, неизменно награждаемый дружным смехом, коверкал русские и иностранные слова, придумывая какой-то "запрокидончик", "дундук", вместо tete-a-tete говоря "теточка с теточкой", а вместо "здравствуйте" – "дайте пять".
Роберт – долговязый, прыщавый – сам ничего не выдумывал, и роль его ограничивалась тем, что он при каждом трюке Мабузо дико хохотал. Ричард же молча, сосредоточенно щипал девочек и с удовольствием слушал, как они визжали.
– Do you smoke? – обратился Мабузо к Маркову.
– Вы спрашиваете, курю ли я? Нет, не курю.
– Какое разочарование! – паясничал Мабузо.
Долговязый Роберт дико захохотал, схватил яблоко из вазы, стоявшей на столе, и стал его грызть.
– Смотрите, смотрите, он ест яблоко! – вскричала Зизи.
Долговязый Роберт схватил книжку Маркова, прочел надпись, строго спросил:
– Писатель?
И, не дожидаясь ответа:
– Мабузо! Честь имею представить: твой коллега.
– Интэрэсно! – отозвался Мабузо. – В самом деле?
Повертел в руках книжку Маркова:
– Дивно! Сколько получили монет?
– Существуют ставки, – нехотя ответил Марков.
– Сек-рет? I understand you! Понятно!
– Хо-хо-хо! Уж Мабузо скажет так скажет!
– А вы стихов не пишете? – полюбопытствовала Зизи.
Ричард ущипнул ее, она взвизгнула.
– Милорды! А мы опаздываем! – посмотрел на часы Мабузо. – Эжен Эженом, а нам пора маршеном!
– На дорожку прочел бы свои стихи. Вот и товарищ бы послушал.
– Нет настроения.
– Вам нравится Шершеневич? – снова обратилась к Маркову Зизи.
– De gustibus disputandum! – пожал плечами Мабузо и специально для Маркова перевел: – О вкусах не спорят.
– По-моему, спорят, – ответил Марков.
– Например, вы за что: за примат формы или за примат содержания? Сейчас требуют поэзии пресса и молота. Вы согласны, что литература гибнет?
– Не согласен.
– Все ясно, как апельсин. I understand you! Деточки! Потопали! Бабуся, передайте вашему отпрыску, что, если надумает, сегодня у Шаповаловых сбор. Скажите, и Стелла будет.
Как появились внезапно, так внезапно и исчезли. Несколько минут с лестницы доносились визги, крики, дикий гогот долговязого Роберта. Потом все затихло.
Марков и Анна Кондратьевна некоторое время молчали, ошеломленные этим вторжением. Потом Анна Кондратьевна подняла с пола огрызок яблока, брошенный Робертом, и положила его в пепельницу.
– Шалые, – вздохнула она. – Вот уж шалые!
– Это что же, бывшие приятели Евгения? – спросил Марков.
– Эти еще не из худших, тут к нему и вовсе никудышные ходили, по-моему, даже и из тех... Я все за шубы боялась, что шубы стащат.
– Почему у них имена какие-то странные?
– Ничего не странные, напускают они на себя. Например, Зизи. Вовсе она даже и не Зизи, а Зинаида Куропятова, я и ее мать знаю. А вторая так, потерянная душа. И Роберт не Роберт, а Федя Миронов, сын гостинодворца.
– А Мабузо?
– Мабузо – это Игорь Стеблицкий. Не как-нибудь, сын известного профессора...
– Что, правда он стихи пишет?
– Да какие это стихи? Срамота одна. "Шулы-булы, карабулы"... Наслушалась я их. И до чего народ упрямый. Женя их сколько раз выгонял, все лезут! Особенно Игорь, этот самый Мабузо. Я, кричит, новатор, новое течение изобрел! А Евгений книжку вытащил: вот, смотри, где твое изобретение – в девятнадцатом веке сделано! Очень сильно объяснялись они.
4
– О чем шумите вы, народные витии? – вошел Евгений Стрижов, совсем не тот, что был, совсем непохожий Стрижов. – Я еще на лестнице слышал...
Друзья обнялись, никаких объяснений у них не последовало, заговорили так, будто вчера только расстались. Марков сел с ними обедать, а уж до чего Стрижов книжке обрадовался:
– Вот это да! Вот это отколол номер! Я видел, читал, даже купил твою книжечку – вот она! Но это совсем другое дело – с надписью! А я ведь часто о тебе думал. О том, какую книгу следует тебе написать. Конечно, трудно будет, но если поднатужиться, потрудиться в поте лица...
– Ты разговаривай, а сам ешь в поте лица, – пододвинула ему тарелку Анна Кондратьевна.
– Какую же книгу?
– О самой сути: о всех нас.
– Хватил! О всех нас еще сто лет писать будут и материала не исчерпают.
– Пускай себе пишут, в добрый час. А ты не через сто лет, а сейчас, не откладывая, напиши. Мама, я супу больше не хочу, не подливай. Что у тебя еще? Котлеты? Вот это дело! Я тебе очень советую, послушайся меня.
– Советуешь, а сам даже рассказать не можешь, о чем же советуешь написать. Разве так советуют? Хочешь, сознаюсь? Я уже давно задумал – о тебе роман написать.
– Ну-у, брат!..
– А что? По-моему, так интересно.
– Нет, брось ты чудить, давай серьезно. Слушай меня. Значит, так. Я тебе все с самого начала. Наша эпоха. Ленин. Понятно? Или нет, я начну издалека. Вот Михаил Васильевич Фрунзе. Почему он разгромил Колчака? Изучил обстановку. Все продумал. Сосредоточил всю силу в один пункт, в одну точку. Так?
– Так.
– И нанес сокрушительный удар. Вот и книгу назови "Сокрушительный удар".
– Никто и читать не станет книги с таким названием!
– А как лучшие произведения называли? Самым простейшим образом: "Дым", "Обрыв", "Война и мир", "Маскарад". Чем хуже – "Сокрушительный удар"!
– Значит, ты предлагаешь написать роман о Фрунзе? Я так тебя понял?
– И так и не так. Я тебе один пример привел. А вот второй: Котовский с горсточкой людей захватывает Одессу, десятками берет в плен генералов, тысячами солдат и офицеров...
– Понимаю, не объясняй: произвел разведку, установил обстановку, точно рассчитал и нанес сокрушительный удар. Так?
– Так.
– Значит, ты мне рекомендуешь еще раз написать "Искусство побеждать"?
– Ни черта ты не понял. Знаешь, как Ленин предупредил ЦК партии: двадцать четвертого октября совершать переворот слишком рано, двадцать шестого октября – слишком поздно. Было выбрано двадцать пятое октября семнадцатого года. Теперь я все тебе сказал. Напиши роман о коммунистах, роман о советском народе, об Октябре, о новой эре человечества.
– И все сразу охватить? Этого не сумел бы сделать даже Лев Толстой.
– Он, конечно, не сумел бы. А ты должен суметь.
Такая решительность рассмешила не только Маркова, но и Анну Кондратьевну. Евгений посмотрел-посмотрел на обоих и тоже начал хохотать, даже вилку уронил на пол.
Но вот он перестал смеяться. Марков еще раз выслушал рассказ о том, как смерть Ленина заставила Стрижова одуматься, понять свои заблуждения и резко изменить жизнь.
– Не могу себе простить, что был таким дураком, не разобрался в очевидно ясной вещи! Ну ничего. Бывает. Ум за разум зашел. Теперь все. На всю жизнь. И знаешь: я счастлив.
– Ты мне еще не рассказал, на каком заводе работаешь.
– На ленинградском.
– А-а, понимаю. На энском?
– Вот-вот.
– И делаете вы энские изделия для военных целей. Понял, больше вопросов нет.
– Нас недавно Фрунзе навещал. Хвалил.
– Анна Кондратьевна, а что же вы поручение не выполняете?
– Какое еще поручение?
– Мабузо наказывал.
– Мабузо? – нахмурился Стрижов. – Опять они приходили?
– И просили тебе сообщить, что сбор сегодня у Шепетиловых или Шепталовых...
– Ну-ну. У Шаповаловых.
– И что будет Стелла.
Марков нарочно все это преподнес, чтобы посмотреть, как отнесется Евгений и прочен ли его разрыв с этой компанией.
– Ничего у них не выйдет, не пойду. Да и некогда мне, у меня курсы.
– А Стелла? – посмотрел Марков испытующе на друга.
– Стелла подождет. Кстати, никакая она не Стелла, а Сима, значит, Серафима. Ерундят ребята.
Марков заметил, что Анна Кондратьевна при упоминании Стеллы поджимает губы и осуждающе молчит – дескать, я не одобряю, а там дело твое. А Стрижову явно не безразлична Сима-Стелла, видно по всему, хоть он и старается не показать это. Марков усмехнулся: кажется, попал в точку. Что ж, если Стелла хороша и нравится Евгению, так тут возразить нечего, а матери... матери всегда считают, что все жены не достойны их прекрасных сыновей.
Стрижову пора было отправляться на курсы.
– Технику изучаю. Нашел свое призвание.
Марков проводил приятеля, и тот по старой привычке всю дорогу декламировал.
– Значит, стихам не изменил?
– Я не понимаю людей, которые уткнутся в технику и отрицают поэзию, литературу, музыку. Где же еще и учиться взлетам фантазии и вдохновению?.. Ну, так тебе куда? Направо? Жму руку, дружище. Скоро навещу.
5
Он сдержал слово и вскоре появился на Выборгской, в квартире Крутоярова. И пришел не один. С Орешниковым!
– Где вы познакомились? – встретил их Марков.
– Как где? Вот это вопрос! Николай Лаврентьевич? Да он у нас на заводе как дома, их заказы-то выполняем. А Иван Сергеевич дома?
– Сейчас выясним. Оксана! Принимай гостей!
В комнате послышался голос Оксаны: "А-а, пропащая душа! Ну-ка, ну-ка, где вы тут?" А Миша пошел к Крутояровым.
Надежда Антоновна встретила его у порога и шепнула:
– Ну как? Будем перевоспитывать юного чапаевца?
– Да нет, он уже, кажется, выправил линию. Все в порядке.
Иван Сергеевич, видимо, прилег вздремнуть на диване (он говорил: "Люблю спать в неудобной позе и невзначай!"), но услышал голоса и явился в своем великолепном, с кисточками, халате.
За ним, важничая и лениво потягиваясь, проследовал почтеннейший кот Мурза. Он щурил глаза и всем своим видом выказывал недовольство, что их с Иваном Сергеевичем потревожили.
И конечно же, всех потащили в крутояровскую столовую, за большой овальный стол с низко висящим над ним сиреневым абажуром. И конечно же, Надежда Антоновна быстро организовала чай.
Стрижов улучил момент, чтобы сообщить Маркову:
– Нарочно притащил этого человека. Видал он всего перевидал! Ты непременно познакомься с ним – материалов получишь кучу!
– Ты чудак, Евгений, – так же тихо ответил ему Марков. – Николая Лаврентьевича я, наверное, лучше, чем ты, знаю. А насчет материалов – так разве же я сумею охватить такие горизонты?
– На это, милый человек, всегда отвечают: "А разве Лев Толстой был женщиной, а какая у него Каренина?! Разве Жюль Верн плавал под водой?"
– Ничего себе мерка: меньше, чем Толстой, ты и не представляешь размаха!
– Дерзать надо!
– Чего вы там шепчетесь?
– Ругаю его, – пояснил Стрижов, – и велю дерзать.
– Дерзать? Надо! – подхватил Крутояров и с увлечением стал развивать эту мысль.
Затем общим вниманием завладел Орешников. Он рассказывал о Деникине, о белых. У него был острый глаз и большая наблюдательность, рассказы его захватили всех. Крутояров буквально набросился на него, выспрашивая, выпытывая, поощряя.
– Да у тебя тут конкуренты, – встревоженно пробормотал Стрижов, наклоняясь к Маркову. – Пока ты думаешь да примеряешь, Иван Сергеевич уже двадцать раз напечатает рассказ...
Но вскоре Стрижов пристыженно переглядывался с приятелем. Никогда не следует спешить с выводами! Крутояров прямо обратился к Маркову:
– Михаил Петрович! Ваша тема, мотайте на ус!
Орешников смутился и сразу стал менее красноречив, стал говорить вычурно, тщательно подбирать слова. Вскоре всем стало неинтересно и даже неловко за рассказчика.
Крутояров знал, как рискованно говорить людям, что их слова, их жизнь, их непосредственные живые рассказы могут превратиться в материал для художественного произведения. Часто бывает достаточно сообщить, что здесь присутствует писатель, чтобы нарушить всю прелесть беседы.
Крутояров попробовал исправить свою оплошность:
– Вы не совсем правильно поняли меня, Николай Лаврентьевич. Марков не собирается идти по стопам Булгакова и писать "Дни Турбиных". Но он, вероятно, соберется когда-нибудь написать о Котовском. И ему полезно послушать ваши интересные рассказы об Одессе, о белогвардейщине, а также о ваших встречах с Григорием Ивановичем.
– Я так и понял, – скромно ответил Орешников и стал рассказывать о своем Вовке, который каждый день удивлял все семейство необыкновенными суждениями и поступками.
Крутояров видел, что Орешников умышленно перевел разговор на другое, и тогда начал сам рассказывать о своих поездках на фронт, о встречах с самыми разнообразными людьми. Рассказал, как они однажды напоролись на разъезд белых. И незаметно тоже добрался в своих повествованиях до Котовского.
– Закон войны: старайся, чтобы тебя не убили и чтобы побольше убить врагов. Но в гражданской войне появился новый вариант. Я сам присутствовал при удивительной сцене, когда привели пленного деникинца и Котовский стал на него кричать: "Ты в кого же стрелял, такой-сякой? В такого же, как ты, бедняка? Может, в соседа, с которым каждый день сиживал под яблоней? Кого защищал? Пана-помещика? И не совестно тебе нам в глаза смотреть?" Что же вы думаете? Дали парню коня да клинок, и стал он заправским красным кавалеристом.
– Таких случаев сколько угодно было, – поддакнул Марков. Действительно новый вариант.
– Этому варианту и я – подтверждение, – улыбнулся Орешников.
Затем Стрижов рассказал, как его ранили, а он все порывался вернуться в строй, неловко было, что другие воюют, а он на койке валяется.
Потом стали говорить о литературе. Стрижов возмущался, что становится хорошим тоном ругать пролетарскую поэзию времен военного коммунизма. Она, видите ли, отвлеченна, она агитка, пустоцвет!..
– Неверно, ну неверно же это! – горячился он. – Она очень хорошо отражала настроение этих лет. Правда, она мыслила в мировом масштабе. Но и мы мыслили в мировом масштабе. Не забывайте, что мы подумывали об уничтожении денег, пробовали распустить налоговое управление, вводили бесплатность почтовых услуг... Это была романтика. Мы жили в розовом тумане, усталые, нестриженые и небритые, мы были чисты мыслью и сердцем. Как же можно так быстро забыть все это? И поэзия была такая же, она отражала наши чувства, порывы, чаяния. Она не знала серого неба, не признавала полутопов. Честь ей и слава. Пришли другие дни. И правильно Алексей Николаевич Толстой призывает нас изучать революцию, предлагает художнику стать историком и мыслителем. Говоря словами поэта, "больше гордого дерзанья!". Это я, Миша, адресую к тебе.
По-видимому, Орешников и Стрижов достаточно хорошо узнали друг друга, общаясь на работе. Орешников благожелательно слушал Евгения и подбадривал его восклицаниями: "Так-так, Женя! Молодец, Женя!"
Крутоярову тоже понравилась защитительная речь Стрижова.
– Это все ничего, – говорил он, – это все утрясется, это все на пользу.
– Какая же польза цыкать друг другу и хватать за волосья? Дошло до того, что тридцать шесть писателей направили в адрес отдела печати ЦК протест против вздорного толкования слова "попутчик"!
– Да, и ЦК опубликовал предостережение не относить огулом всех попутчиков в лагерь буржуазной литературы.
– А вы читали статью Зощенко "О себе и еще кое о чем"? А "Отрывки из дневника" Пильняка?
– Два лагеря. Ну, и в запальчивости не разбирают, по какому месту ударить, лишь бы больней. Беседовал я как-то с Фадеевым. Молодой, высокий, говорит как в трубу трубит. А слова прочувствованные: "Нам, говорит, нужно выбирать, на чью сторону стать. Выбирать нужно потому, что этого требует совесть". Хорошо сказал. В пролетарские писатели зачисляются, как бойцы вступают в партию перед боем: "Прошу в случае моей смерти считать меня коммунистом". А тут еще Троцкий подсунул словечко "попутчик". Нехорошее слово, наделавшее много путаницы и вреда! Попутчик – значит, до поры до времени? Разве Алексей Николаевич Толстой до поры до времени? Шишков – до поры до времени? Федин – до поры до времени? И им, конечно, обидно. Тогда начинаются скидки, поправки: этот – левый попутчик, тот – поправее. Я вот, – несколько смущенно добавил Крутояров, – в левые попутчики попал. А кой-кого прямо в грязь топчут. Этот "буржуазный", тот "мелкобуржуазный", "сменовеховец". Некоторые крикуны доболтались до того, что вообще все культурное наследие нужно побоку... А в том лагере ударились в противоположную крайность: "Талантов много, только литературы нет!", "Будущее нашей литературы – это ее прошлое!" Или еще того беспринципнее: "Ни одна партия нас не привлекает. С коммунистами или против коммунистов? Ни так, ни этак, мы сами по себе!" Или еще: "Вредная литература полезнее полезной!"
Крутояров умел заразительно смеяться. А ведь умение смеяться – это тоже талант. Если он смеялся, то всласть, с наслаждением, и невольно все вокруг тоже начинали посмеиваться, каждый на свой лад, кто как умел.
Вдосталь нахохотавшись, так что слезы выступили на глазах, Крутояров добавил уже серьезно:
– Жизнь в двенадцать баллов, так и перехлестывает через край. Бывало и голодно, и холодно, и невмоготу, только я ни на какую другую эпоху наше время не променял бы!
Крутояров призадумался, как будто прикидывая, действительно ли нравится ему сейчас жить.
– Пройдет лет пятьдесят, и будут читать о наших днях, как о необузданной фантастике, не все и поверят, скажут: да разве можно выжить, получая осьмушку – восьмую часть фунта! – хлеба? Разве не анекдот, что в Петрограде на Выборгской однажды возникла группа коммунистов-футуристов "Ком-Фут" и они настаивали, чтобы этот самый "Ком-Фут" был зарегистрирован как партийная организация?! Может быть, будут смеяться, узнав, что комсомольская молодежь отказывалась носить галстуки, так как галстук есть украшение буржуя? Что чапаевцы отказывались от орденов, заявляя, что все они равны и в победе и в смерти?
Крутояров окинул всех торжествующим взглядом:
– А? Ведь хорошо? В замечательное время, товарищи, мы живем! В неповторимое! В чудесное!
– А дальше? – вдруг включилась в разговор безмолвствовавшая до сих пор Оксана. – А дальше хочется посмотреть? Дальше тоже хорошо будет, даже лучше.
– А мы и посмотрим! – бодро воскликнул Крутояров. – Даже я посмотрю, при моем почтенном возрасте. А уж вы-то... господи боже мой! – вы-то таких чудес насмотритесь! Завидую ли я? Завидую! Ну что ж делать!.. Еще в древности было сказано: как басня, так и жизнь, ценятся не за длину, а за содержание.
Восклицание было полно бодрости, но упоминание о короткой, как басня, жизни отнюдь не располагало к особенному оптимизму. Молодые почувствовали некоторую неловкость и даже вину, что они молоды и здоровы. Орешников сказал:
– Сколько я знавал безусых прапорщиков, совсем мальчишек по сравнению со мной, оставшихся лежать на полях сражений. С тех пор я отбросил прежнюю мерку жизни – возраст и здоровье. В наше время наибольшему риску подвергаются как раз самые молодые и здоровые.
– То есть призывники! – уточнил Стрижов.
Надежда Антоновна молчала. Беседа разладилась. Единодушно побранили ленинградскую погоду, обменялись мнениями о премьерах в театрах, о вышедших из печати произведениях и разошлись по домам.
6
Вот когда Марков понял, что такое писательский труд. Все казалось невероятно сложным. Марков часто приходил в отчаяние и намеревался все бросить и отказаться от своего замысла.
Целыми днями просиживал в прохладных тихих залах Публичной библиотеки. Со всех полок на него смотрела история. Давнее прошлое, седая старина соседствовала там с трепетными бурлящими днями нового времени. Многолетние и многотомные труды пребывали рядом со скорописью исповедей, объяснительных записок, опровержений...
Марков казался себе микроскопическим существом перед всей этой громадой ума и вдохновения. Выписки, цитаты... новые и новые книги... новые и новые названия... уточнения... разнобой мнений и оценок... факты, факты, какое множество фактов! Ими захлебываешься, и начинают расплываться контуры первоначального плана.
Несколько раз Марков изменял всю структуру задуманного романа. Попробовал составить список действующих в романе лиц. Вспомнил, как поступал Золя, сочиняя о каждом даже незначительном лице подробнейшие биографические очерки... Но это уводило в такие дебри, что пришлось бросить затею.
Встречаясь со Стрижовым, Марков непременно принимался обсуждать свой план, свои намерения. Но Стрижов предъявлял какие-то странные претензии, говорил общими фразами и, пожалуй, даже сбивал с толку.
Например, его мысль о сокрушительном ударе. Стрижов считал, что этой стратегией концентрации сил на важнейшем участке пронизана вся революционная жизнь, вся советская действительность. Ударные стройки. Ударные бригады. Нацеливание всех усилий на ту или иную важнейшую в данный момент область производства... В таких выражениях Стрижов излагал свою заветную мысль. А попробуй воплоти это в романе!
– Понимаешь, это – ленинский стиль работы, – объяснял Стрижов, ленинский метод руководства, ленинская стратегия и тактика.
Марков понимал. Но от понимания до воплощения идеи в образы, в поступки героев было огромное расстояние.
Крутояров, если с ним заговорить о своих замыслах, невольно начинал сам фантазировать и сочинять. Это были талантливые экспромты, но Марков совсем иначе чувствовал и иначе все представлял.
Всего легче было говорить о будущем романе с Оксаной. Ей все нравилось, ее все восхищало. Она, увлекаясь, подсказывала вдруг такое простое и правильное разрешение задачи! Она не умела отвлеченно мыслить, сразу же все переводила на людей, на повседневное и даже приводила примеры из собственной жизни или из того, что попадало в поле ее зрения в поликлинике, в школе. Марков любил с ней советоваться, слушать ее.
Оксане жалко было беднягу: сидит ночи напролет, утром лицо вытянутое, глаза красные от утомления. Оксана спросит осторожно:
– Ну как?
Марков молча покажет на корзину для мусора, доверху наполненную скомканными листами.
– Вот. Тут вся четвертая глава. Ты помнишь Торопова? Я тебе рассказывал, у меня в романе будет такой Торопов. Комбат.
– Ну-ну. Конечно помню. Ты рассказывал, как он женится на телеграфистке, они встретились на фронте.
– Так вот, я хотел его женить, а теперь вижу, что не женить его, сукина сына, а расстрелять перед фронтом, ведь он какое дело прошляпил!
– Какое? – испуганно спрашивает Оксана.
– Там, по ходу действия, долго рассказывать. Замучился я с Тороповым. Главное, и мужик-то он неплохой...
Все эти муки и поиски, вся эта изорванная в клочья четвертая глава, все эти тревоги за несуществующего, выдуманного им же самим Торопова, все эти бессонные ночи, то отчаяние, то удачная находка, – все это и составляло теперь непередаваемое, ни с чем не сравнимое, огромное, как мир, счастье Михаила Маркова.
П Я Т Н А Д Ц А Т А Я Г Л А В А
1
Михаилу Васильевичу последние месяцы нездоровилось. Он крепился, не подавал виду, но особенно трудно было обмануть Софью Алексеевну. Михаил Васильевич преувеличенно громко смеялся, вовсю шутил, даже ел то, что врачи запрещали, чтобы показать, до чего он отлично себя чувствует. Абсолютно здоров! Но нет-нет да и морщился от боли.
Хворать было нельзя. Не хватало времени на хворь. Каждый час был дорог.
Троцкий не прекращал антипартийную возню. На XIII партийном съезде в мае 1924 года он поставил на голосование свою платформу. Не получил ни одного голоса. Ни одного! Хотя на съезде присутствовало 748 коммунистов. Но Троцкий не успокоился. Он сколачивал блок, устраивал секретные, подпольные совещания, мутил воду и никак не унимался.
В январе 1925 года Объединенный пленум ЦК и ЦКК собрался, чтобы обсудить поведение Троцкого. Пленум осудил новую вылазку Троцкого, всю его деятельность квалифицировал как попытку подменить ленинизм троцкизмом.
Выступления на пленуме были одно другого резче. Терпение коммунистов иссякало.
– Не хватит ли, товарищи? – говорили ораторы. – Не пора ли делать выводы?
И пленум снял Троцкого с работы в Реввоенсовете. Вместо него председателем Реввоенсовета СССР был назначен Михаил Васильевич Фрунзе.
Он переехал в Москву и немедленно включился в работу.
Москва была шумная. Михаилу Васильевичу она пришлась по нутру. Как ни был он занят, а все же понимал, что нельзя жить в Москве и не побывать в Третьяковке, нельзя хотя бы мимоходом, между двумя совещаниями, не махнуть на Тверскую, не посидеть за чашкой кофе на красном бархатном диване в кафе "Бом".
Однажды Фурманов привел к Михаилу Васильевичу Фадеева. Высокий, угловатый Фадеев носил кавказскую рубашку с ремешками и часто насаженными пуговками. Михаилу Васильевичу он понравился. Взглянешь на него – и поверишь, что может писать хорошо.
С актерами, художниками встречался Фрунзе. Был у Василия Каменского. Сердито слушал его "Танго с коровами", сердито спросил:
– А зачем, собственно, вы ломаетесь? Ну что это такое: "Жизнь короче визга воробья"? При чем тут "оловянное веселие" и что это за собака плывет на льдине? Бред сумасшедшего! Писали бы просто.
– Нельзя, – ответил Каменский, подумав. – Ведь я все-таки футурист.
Фрунзе понравилось, как Каменский играет на баяне. Лицо становится задумчивым, голова наклонена набок, а тонкие пальцы так и порхают по клавиатуре.
Был как-то Фрунзе на "Жирофле-Жирофля" у Таирова. Весело, пестро, нарядно, глупо. В общем, ничего. Но Фрунзе больше любит оперу. "Пиковую даму" готов слушать снова и снова.
Как и в Харькове, у Фрунзе постоянно бывают его друзья и соратники. Приезжал Котовский, завсегдатаями были Федор Федорович Новицкий и Сергей Аркадьевич Сиротинский. А вообще у Фрунзе всегда людно, всегда интересно и весело.
Давний друг – Демьян Бедный – обычно требовал, чтобы ему налили покрепче чаю.
– Знаете, настоящего. Чтобы действительно был чай.
И пускался в воспоминания:
– Помните, на Врангеля вместе ехали? Меня тогда послали вроде как пушку, на вооружение.
Фрунзе просил прочесть "Манифест барона Врангеля". Демьян Бедный умел читать свои произведения. Фрунзе подсаживался поближе и, слушая, смеялся так заразительно, что Демьян Бедный просил его всегда бывать на его выступлениях.
– У вас и так успех обеспечен!
Особенно нравились Фрунзе в "Манифесте" строчки:
Вам мой фамилий всем известный:
Их бин фон Врангель, герр барон.
Я самый лючший, самый местный
Есть кандидат на царский трон...
– Знаете, – говорил Фрунзе уже серьезно, – Врангель был одним из самых способных представителей белого лагеря. Сделавшись главнокомандующим, он развернул в Крыму колоссальнейшую работу. Расправился с конкурентами, соперниками, тоже метившими в "правители". Перевел из тыловых учреждений в строй все кадровое офицерство. Перевешал офицеров, чиновников и солдат, проявлявших неповиновение. В результате создал внушительную боевую силу, приблизительно в тридцать тысяч штыков и сабель. И воевал неплохо. Вообще не следует думать, что среди наших врагов одни олухи и дураки. И Ленин об этом не раз говорил.
– Правильно! – отозвался Демьян Бедный. – Они не дураки, но бить их надо.
– Бить, конечно, надо, – подтвердил Фрунзе, – и "самых лючших" и не самых "лючших". Просматривал я сегодня иностранные газеты. Там все время идет антисоветская возня. Вы слыхали что-нибудь о некоем Арнольде Рехберге? Бывший личный адъютант кронпринца, крупный промышленник, кажется, связан с германским калийным синдикатом... Бредит мировым господством! А уж бонапартиков развелось – невероятное количество! И все наперебой предлагают спасение от большевизма.
– А что такое с этой комиссией по обследованию Красной Армии? Что-нибудь серьезное?
– У нас идет сейчас очень большая перестройка Красной Армии. Комиссию мы действительно назначили, она произвела обследование и доложила пленуму ЦК партии о результатах. Результаты малоутешительные. Материальные средства нас поджимают. В стремлении облегчить для населения военное бремя мы дошли до крайних пределов. Достаточно сказать, что царь держал под ружьем полтора миллиона, да и у нас в двадцатом году было три миллиона, а сейчас мы оставили пятьсот шестьдесят тысяч.
– Маловато! – расстроился Демьян Бедный. – Ведь сами говорите – тучи вокруг ходят!
– Фронтов нет, нэп у нас, товары появились... и создалось у некоторых людей излишнее благодушие. Дескать, ниоткуда опасность не угрожает, можно не волноваться. А там – шуруют! Армии перевооружают, новые военные планы разрабатывают...
– Сегодня разрабатывают, завтра разрабатывают, а там и грохнут. Злят меня еще эти троцкистские выкормыши! Ведь они совершенно откровенно считают, что не будет большой беды, если интервенты захватят страну: все равно, дескать, надо идти с повинной, в ножки поклониться капитализму.
– Вам не чудится в этих капитулянтских нотках страшно знакомая мелодия? Кто это говорил когда-то еще очень давно и очень похожее? Струве! Конечно он! Идти на выучку к капитализму! Вот с кем сошлись взгляды людей, осмеливающихся именовать себя коммунистами! Понятно, люди с подобными взглядами отнюдь не содействуют укреплению армии.
– Черт возьми! Так ведь требуются экстренные меры?
– А как же! Вот на меня и возложили эту ношу.
– Вызволите?
– Вызволим. Я ведь не один. Уже кое-что сделано. Вот создали полевую артиллерию... Сейчас ведем переговоры с Францией о возвращении наших судов, которые угнал Врангель. Суда находятся в настоящее время в Бизерте: линкоры "Воля" и "Георгий Победоносец", крейсера "Кагул" и "Алмаз", с десяток эскадренных миноносцев да сотня транспортов и пароходов. Главное же – готовим новые кадры, налаживаем военную промышленность. За какой-нибудь год армия будет неузнаваемой. И до троцкистов доберемся!