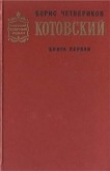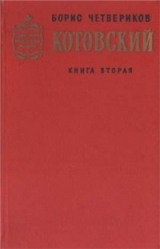
Текст книги "Котовский (Книга 2, Эстафета жизни)"
Автор книги: Борис Четвериков
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 30 страниц)
Четвериков Борис Дмитриевич
Котовский (Книга 2, Эстафета жизни)
Борис Дмитриевич ЧЕТВЕРИКОВ
КОТОВСКИЙ
Роман
Вторая книга романа "Котовский" – "Эстафета жизни" завершает
дилогию о бессмертном комбриге. Она рассказывает о жизни и
деятельности Г. И. Котовского в период 1921 – 1925 гг., о его дружбе
с М. В. Фрунзе.
Бориса Дмитриевича Четверикова мы знаем также по книгам "Сытая
земля", "Атава", "Волшебное кольцо", "Бурьян", "Малиновые дни",
"Любань", "Солнечные рассказы", "Будни", "Голубая река",
"Бессмертие", "Деловые люди", "Утро", "Навстречу солнцу" и другим.
Книга вторая
ЭСТАФЕТА ЖИЗНИ
________________________________________________________________
ОГЛАВЛЕНИЕ:
Первая глава. ( 1 2 3 4 )
Вторая глава. ( 1 2 3 4 5 6 7 )
Третья глава. ( 1 2 3 4 5 6 )
Четвертая глава. ( 1 2 3 4 5 )
Пятая глава. ( 1 2 3 4 5 )
Шестая глава. ( 1 2 3 4 5 6 7 8 )
Седьмая глава. ( 1 2 3 4 5 6 7 )
Восьмая глава. ( 1 2 3 4 )
Девятая глава. ( 1 2 3 4 5 6 )
Десятая глава. ( 1 2 3 4 5 6 7 )
Одиннадцатая глава. ( 1 2 3 4 )
Двенадцатая глава. ( 1 2 3 4 )
Тринадцатая глава. ( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 )
Четырнадцатая глава. ( 1 2 3 4 5 6 )
Пятнадцатая глава. ( 1 2 3 4 5 6 )
Шестнадцатая глава. ( 1 2 3 4 5 )
Семнадцатая глава. ( 1 2 3 4 5 6 7 )
Восемнадцатая глава. ( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )
Девятнадцатая глава. ( 1 2 3 4 5 6 7 )
Двадцатая глава. ( 1 2 3 4 )
Двадцать первая глава. ( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )
________________________________________________________________
П Е Р В А Я Г Л А В А
1
Когда можно считать, что кончилась в Советской России гражданская война? Когда прозвучал последний выстрел? Самый последний, после которого действительно настала тишина?
Григорий Иванович Котовский часто размышлял об этом, перебирая в памяти отгремевшие бои, минувшие атаки, походы, треск вырвавшихся вперед пулеметных тачанок, сверкание обнаженных клинков.
Кончилась ли гражданская война в тот день, когда генерал Деникин, бросив свою разбитую армию на произвол судьбы, отплыл из Новороссийска на французском военном корабле? Это был март 1920 года. Генерал избегал смотреть в глаза своим унылым адъютантам. А французские матросы еле сдерживали смех, глядя на побитого белого генерала.
Впрочем, может быть, гражданская война прекратилась в тот день, когда в феврале 1920 года Иркутский ревком вынес смертный приговор Колчаку за измену отечеству? Тогда иркутский финотдел принял по описи 5143 ящика и 1680 мешков с золотыми слитками, которые хотел увезти с собой Колчак, прихватив это золото, видимо, на память о любимой родине.
А может быть, считать концом гражданской войны взятие Блюхером Перекопа? Или тот знаменательный день 15 ноября 1920 года, когда французский адмирал прислал на крейсер "Корнилов" барону Врангелю насмешливую радиограмму: "С почтительным приветствием желаю счастливого пути до Константинополя"? Или тот блистательный день 16 ноября 1920 года, когда командующий Южным фронтом Фрунзе телеграфировал Ленину: "Сегодня нашей конницей занята Керчь. Южный фронт ликвидирован"?
Но пулеметные очереди продолжали прорезывать тишину, выстрелы из-за угла продолжали выхватывать из советских рядов лучших людей. Котовский при одном воспоминании о гибели боевых друзей и соратников приходил в ярость:
– Дорого вам обойдутся эти злодеяния, господа империалисты! И напрасно стараетесь. Разве можно заставить солнце не взойти над землей! Разве можно остановить половодье, замедлить приход весны!
И так щемило сердце, когда сознавал, что невозвратимы утраты, что больше никогда не придется ему увидеть светлой улыбки комиссара Христофорова, брызжущей жизнерадостности красавца Няги, рассудительного спокойствия папаши Просвирина, буйной отваги Макаренко, верности долгу многих и многих, сложивших головы в жарких схватках с врагом.
– Эх, ребятки, ребятки! – горевал Григорий Иванович. – До чего же мне жаль вашей загубленной молодой жизни! А случись начать все сначала, не задумался бы опять повести вас в бой. Зачем же и жить, если не для блага матери-родины? И разве жизнь измеряется днями? Жизнь измеряется славными делами!
Тут Григорию Ивановичу вспомнился командир полка, который сожалел, что Котовскому не удалось "отбояриться от корпуса". Котовский при одном этом воспоминании потемнел и нахмурился. Брови у него сдвинулись, глаза стали острыми.
– Леля, ты не помнишь, как звали пехотного командира, который хвастался, что у него превосходный квас приготовляют?
– Это Мосолов, что ли? – тотчас откликнулась Ольга Петровна из соседней комнаты. – Как не помнить! Он еще говорил, что вы выполнили на сто процентов заданную норму по защите революции и теперь имеете право на перекур. Мосолов это! Комполка, Павел Архипович Мосолов.
Котовский и сам помнил, что Мосолов. Но у него была такая манера: если ему человек не очень нравился, он нарочно путал, перевирал его фамилию, а то уверял, что и вовсе ее запамятовал.
– Мосолов? Ты точно помнишь? А не Мозгляков? Ишь ты! Мосолов! Приезжай, говорит, роскошным квасом угощу. Выполнили, говорит, заданную норму по защите революции. Гадость какая! Вот ведь и командир, и даже коммунист, кажется, а как рассуждает! Леля! Как это у Ленина говорится? Мелкобуржуазная стихия страшнее всяких Деникиных? Верно. Хорошо сказано! Еще кровь после гражданской войны не засохла, а этот Моргунов – или как его? – уже квас заваривает, изволите ли видеть, требует перекура! Права на перекур! Нет, голубчик Москаленко! Коммунистом нельзя быть от сих до сих, только от восьми утра до пяти пополудни, только в приемные часы. Коммунистом нужно быть всегда и во всем, в каждом поступке, в каждом помысле. Иначе ты не будешь коммунистом...
Вот тут и определи, когда кончилась гражданская война!
Ну хорошо. Управились с Петлюрой. Гонялись за бандой Грызло, истребили Гуляй-Гуленко и еще десяток-другой "гуляев". Кажется, все? Можно заняться мирным трудом? Не тут-то было!
Сгинул черный барон, но гуляет по Северной Таврии батька Махно со своим сподручным – анархистом Волиным-Эйхенбаумом. Убийства, грабежи. Вырезывает семьи советских служащих от мала до велика, не щадя ни детей, ни женщин. Нападает даже на штабы советских воинских частей. Одно за другим поступают неутешительные сведения. Вот раздеты догола и убиты двенадцать красноармейцев. Вот ограблен ветврач. Убит каптенармус, везший обмундирование. Еще и еще убийства, еще ограбления. Махновцы делают дерзкие вылазки и прячутся в балках, степях. И где ни копни – в селах, на хуторах – всюду напрятано оружие.
Помнит все передряги этой изнурительной степной войны Григорий Иванович. Задача поставлена – в кратчайший срок очистить от банд Украину. Включились в это дело 1-я Конная, 2-я Конная, 4-я армии. Хорошо поработали богучарцы. Решительно действовала Интернациональная кавалерийская бригада. Вскоре нащупали махновский отряд Каретникова. Загнанный в деревню Андреевка и окруженный со всех сторон Махно использовал небрежность как раз вот таких пентюхов вроде Мосолова и прорвался на север. Для его преследования были созданы специальные летучие отряды. Наконец Махно вынужден дать бой в районе сел Федоровка – Акимовка, разбит, и куда же ему податься? Конечно за кордон! Конечно в Париж! К своим хозяевам!
Вот вы и прикиньте! Всего лишь Махно, а возни сколько? Считать ли эти кровавые стычки продолжением гражданской войны? Считать ли, что гражданская война кончена, если в одну только Тамбовскую губернию понадобилось отправить против эсера Антонова кроме бригады котовцев отряд особого назначения, взвод батареи, полк кавалерии, полк особого назначения ВЧК, автоброневой отряд имени Петросовета...
Редко удается Григорию Ивановичу размышлять обо всем этом в одиночестве. Всегда кто-нибудь да заглянет: тот пришел за советом, этот с жалобой. Приезжали старые соратники по боевым походам. Григорий Иванович успел приглядеться к каждому. Когда он высмотрел, что у мальчика, прибившегося к бригаде еще в Тирасполе – у Кости Гарбаря, – музыкальные способности? Когда заметил, что Миша Марков ведет дневники, и составил для него план будущего? Когда решил послать командира Николая Криворучко на Военные академические курсы?
Григорий Иванович Котовский рассылал по всем направлениям своих кавалеристов. Эти по возрасту демобилизованы, так пусть разводят сады, выращивают сахарную свеклу – скоро стране будет нужно много опытных красных агрономов. Те пусть едут получать образование.
Котовский, как сеятель, разбрасывал семена, как садовник, делал прививку диким яблоням. Пусть растут люди, пусть учатся, много понадобится верных ленинцев для построения социализма.
2
Проводил он в учение и Мишу Маркова с Оксаной. Пришли они прощаться, сели на краешке стульев рядком. Оксана смущается, даже порозовела.
– Залюбоваться на вас можно! – сказала Ольга Петровна. – Такие славные ребята!
Тут уж и Марков растерялся:
– Какие мы славные? Самые обыкновенные.
– Не спорь. Да и время сейчас такое – обыкновенных нет, повывелись.
Оксана и Ольга Петровна накрывали на стол, возились по хозяйству и беседовали, причем попутно Оксана получила множество практических советов.
– Непременно учись, – говорила Ольга Петровна, протирая тарелки, сейчас вся Россия учится. Дорожи каждым часом, ничего не откладывай, чтобы после не жалеть. Кто знает, что еще будет? Всякое может быть.
Мишу Маркова увел к себе Григорий Иванович. Глянул Миша в кабинете Григория Ивановича на огромную, во всю стену географическую карту. Вот она, Советская держава, раскинулась! Дороги, дороги, куда хочешь, туда и поворачивай.
Котовский сразу поймал его пытливый взгляд.
– Хороша? – широким жестом охватил он цветные пятна губерний, голубые извилины рек, кругляшечками обозначенные города и села. – Наша!
В голосе его звучала гордость. Так хозяин показывает свои угодья леса, пасеки, пастбища.
Марков уезжал в Петроград. Он уже знал Москву, поэтому ему не так страшно было ехать в большой незнакомый город. И потом – ведь с ним Оксана!
Котовский говорил и как будто вглядывался во что-то, что еще не ясно видно:
– У капиталистов все держится на необразованности. Когда народ мало знает, его легче обманывать. Что ни набреши, всему поверят. А нашей стране нужны умные, образованные люди. Я заметил – ты пишешь дневники. Раз у человека потребность записывать мелькнувшие мысли, значит, у него писательская жилка. Учти. Писатель – это знаешь что такое? Это, брат, звание! И ответственность! И труд! Не все выдерживают, а ты выдержишь. Уж если такие походы одолел, значит, луженый, значит, силен.
Котовский задумчиво смотрел на Мишу.
– Конечно, талант нужен. Есть у нас дуболомы, воображают, что в писатели можно назначать – выдал ему направление, дал справку об уплате членских взносов, – и готов Лев Толстой. А дело-то, видать, посложнее. Тут с кондачка нельзя подходить. Вот если бы по садоводству, я бы тебе все растолковал. А насчет писательства – это пускай с тобой Крутояров опытом делится. В гражданскую он военным корреспондентом разъезжал, тогда мы с ним и познакомились. Занятный человечина. Толковый. Спрашиваю, какие курсы надо кончать, чтобы в писатели удариться? Для этого полагается, отвечает, чтобы жизнь трепала, чтобы живого места на тебе не осталось, чтобы ты сто профессий перепробовал, сто раз умирал, да не умер, и голода хватил и достатка... Я его останавливаю – не довольно ли, а он мне еще двадцать статей перебрал: и что язык свой надо так понимать, чтобы каждое слово факелом горело, и что все знать – все ремесла, все науки, всю историю, знать больше, чем все академики, вместе взятые, больше, чем лесорубы, рыбаки, охотники, сталевары, акушеры, звездоплаватели... Спрашиваю – ну а сам-то он так-таки все и знает? Все превзошел? А он мне по-латыни: scio quod nihil scio – единственное, что знаю, – что ничего не знаю. Дело, говорит, в том, что все это яйца выеденного не стоит, если нет таланта. Спрашиваю, а что такое талант? Этого никто не знает, и если, говорит, кто-нибудь будет уверять, что знает, врет, собачий сын.
– Может быть, критики знают? – робко спросил Марков.
– Критики? Едва ли.
– И вы, Григорий Иванович, не знаете? – совсем упал духом Марков.
– Ну, я-то знаю. Талант – это от большой души. Как пение птицы. Только и талант ни черта не стоит, если направлен во зло человеку. Талант предназначен, чтобы правде служить, революции. А если талант хитрит, виляет, на сторону мировой буржуазии переметнется – будь он проклят такой талант, пропади он пропадом. Понятно?
– Конечно понятно. Если, например, живет в каком-нибудь городе изобретатель. Думает-думает – и для смертной казни электрический стул изобретет...
– Вот-вот! На нем на первом и надо этот стул испробовать!
Мише Маркову пришлось по душе предложение Котовского, и он собирался еще что-то добавить остроумное, но тут раздался голос Ольги Петровны:
– Мужчины! Долго вы там будете тары-бары растабаривать? Им на поезд скоро, а я их даже еще не покормила!
Когда настал час расставания, Миша почувствовал, что у него что-то защипало в горле. И как ни храбрился, робость его охватила, так бы, кажется, бросился к мамаше котовцев Ольге Петровне и спрятался у нее, как маленький, в коленях от всех бед.
Опять – и уже в который раз! – все летело кувырком, все рушилось, ломалось. Ведь как ни воевал Миша, как ни щеголял отвагой и выправкой, в душе он все еще был юнцом и постоянно чувствовал спокойное руководство и опору, всегда знал, что рядом – Котовский, что Котовский не ошибется, Котовский выручит, Котовский – и командир, и отец родной, и начальник, и воспитатель – изберет самый правильный путь и поведет по нему.
Марков не мыслил себя вне рядов котовцев. Он вжился в этот простой и трудный солдатский уклад, стал настоящим конником и полюбил товарищей сильных, честных, отважных людей. И коня полюбил, понял его нутром, сноровкой, добился того неизъяснимого состояния, когда конь и всадник нераздельны, составляют одно целое, молниеносно принимают решение и каким-то особым чутьем избирают лучший для данного случая поступок. Овладел Марков и строевым делом – слитностью со всеми всадниками, умением по первому еле уловимому знаку начальника точно и согласованно выполнить команду. Все эти навыки стали второй натурой Маркова, его существом, плотью и кровью. Сможет ли он примениться к новым условиям? Завершалась еще одна полоса жизни, а впереди все было так неясно!
И почему это жизнь так устроена, как будто все время перебираешься в ледоход через широкую реку? Льдины плывут, сталкиваются, крошатся. Еле успеешь прыгнуть на новую льдину, как та, на которой стоял, дает трещину, расползается и исчезает бесследно в бурлящей пучине, как будто и не было ее никогда.
Давно ли это произошло, когда они с отцом с лихорадочной поспешностью собрались и ушли из дому? На всю жизнь осталось в глазах видение: в распахнутой двери силуэты двух женщин. Ветер развевает их волосы, треплет подолы. Женщины стоят неподвижно. Это мать и сестра Татьянка. Жалость, страх, смешанные с отчаянной решимостью, овладели тогда Мишей. "Прощайте! Мы уходим! Дорогая сестренка! Милая мама!" – кричало все его существо. Но они молчали – и он, и отец. И шли все дальше от дома – навстречу ветру и неизвестности.
В тот день кончилось лазоревое детство. А детство бывает только раз. В один миг разлетелось вдребезги глубокое детское убеждение, что домашний мир неподвижен, нерушим, что мама, сестренка, пятнистая кошка Марта, пыльная улица в железнодорожном поселке Кишинева и пыхающий дымогарной трубкой отец – все это установлено раз и навсегда, на вечные времена, как Птоломеева система, что все это создано специально для Миши, чтобы ему было удобно и хорошо.
Потом и с отцом разлучились. Тоже как-то внезапно. Ушел он поспешно, было даже неловко, что он уходит из отряда. Ушел – и как в воду канул. Был отец – и нет его. А вокруг все безмятежно, как будто ровным счетом ничего не случилось, как будто бы Миша не расстался с отцом, как будто бы никто и не уходил. По безучастному небу все так же плывут улыбчивые облака. Так же, как всегда, рождаются студеные рассветы, так же добрые деревья машут ветвями утомленным путникам, такие же непоседливые люди проходят и проходят мимо. А отца нет... Где он? Жив ли он? Хуже всего неизвестность. А дням какое до этого дело? Бегут как ни в чем не бывало!
Хорошо быть составной частью чего-то незыблемо прочного. Котовцы. Раз навсегда установленный уклад. Могут быть раненые, могут быть убитые, но это ничего не нарушит. Так же всегда на своем месте будет командир, так же стройны ряды, такие же будут привалы и водопои, такие же сигналы в атаку...
И вдруг теперь все изменилось, все исчезло, все растаяло, как клок дыма на пронизывающем ветру. Марков оказался один, сам по себе. Все нужно решать самому. Страшно и непривычно!
Григорий Иванович смотрит понимающими грустными глазами: разлетаются соколы!
– Адрес написан на конверте. Письмо хорошенько спрячь. Да чего там, найдешь и без адреса, не маленький. Язык до Киева доведет. Едешь ты к настоящему человеку. Писатель. Книги пишет. Неужели ты его не видел, когда он к нам приезжал? Тогда прошел слух, что бригаду расформируют, что бригада не нужна, а он после такую статьищу накатал – любо-дорого! Вознес до небес, а злопыхателей уж так раздраконил, только перья летели. Не помнишь? Небритый такой. В очках. На всякий случай запомни фамилию: Крутояров, Иван Сергеевич. А то письмо потеряешь – будешь как в лесу по Питеру бродить. Большой город, я там бывал. Знаю.
– Зачем же? Я не потеряю...
– Значит, Оксана, договорились: пиши сразу же, как доберетесь до места, – в свою очередь наказывала Ольга Петровна. – Все запомнила?
– Все, Ольга Петровна! И что улицы надо не дуже швидко переходить, сначала подывись влево, потом подывись вправо... и что домашнюю хозяйку из себя не строить, получить специальность... и что, если яйца всмятку варить, надо досчитать до ста и вынимать... и что обязательно в Эрмитаж сходить...
– Забудешь что – в письме спрашивай. Постой, хоть поцелую тебя! И тебя, Миша! Не робейте, ребята!
– Да, да! Не робеть! Не хныкать! Марш-марш! Колонна – по два! В атаку! Ура! Фамилию запомнил? Крутояров!
Миша Марков подхватил несложную поклажу, взял за руку Оксану, и они пошли.
И долго еще стояли на крыльце и махали им родные, близкие, дорогие комкор Котовский и Ольга Петровна.
Вокзал был рядом. На перроне было безлюдно.
– Как же мы теперь? – спросила Оксана, растерянно озираясь.
– Держись за меня! – ответил Миша, храбрясь. – Была команда – не хныкать. Вопросов нет?
3
Можно ли без песни побеждать? Можно ли без песни вообще жить? Песня сопровождала бойцов Котовского во всех походах. Почему-то особенно полюбилась всем русская народная песня "Скакал казак через долину". Ее пели на привале, после горячего боя, после ратных подвигов. Пели – и как рукой снимало усталость, словно после глотка студеной колодезной воды. Пели – и молодела душа, остывали горячие головы. Хорошая эта песня, она стала своеобразным гимном котовцев. Было и еще много хороших песен, так же как и много хороших, за душу хватающих голосов.
Бывало, как зальются, как уйдут в верха запевалы – будто за сердце схватят и не выпускают до последнего словечка песни.
Савелий мастер был запевать, а песен знал без счету. Каждый, кто пришел в бригаду, принес и щедрой рукой подарил всем на радость свои превосходные песни, а ведь нет больше нигде на свете таких задушевных, стройных, то задумчивых, то беспечно-удалых песен, как в нашей стране. Савелий знал песни, какие любят в пензенских деревнях, знал и раздольные волжские, и песни Приуралья. Где Савелий, там и прибаутки, и раскатистые взрывы смеха, около Савелия любят собираться.
– Запевай, Савелий, время дорого.
– Пели, пели, да есть захотели, – отговаривался Савелий, но больше для фасону, чтобы покуражиться.
– Хоть одну, дядя Савелий, еще в котлах не закипело.
– Да ну вас, что вы меня, старика, подбиваете, вон у вас молодежи сколько, покличьте Ивана...
– Ивана-а? Он поет как нищего за суму тянет! А ты у нас – райская птичка!
Савелий польщен. По его лицу видно, что выбирает, с которой песни начать. Тут уже кружок теснее собирается, все настораживаются, все готовы подхватить. А Савелий зажмурится, сморщится, а как откроет глаза – это уж другой Савелий, стряхнувший с себя все мелочи, отодвинувший все пустые заботы, Савелий – вдохновенный певец.
А все вокруг заулыбаются, лица засветятся – вот она, крылатая песня, с ней можно идти – не споткнуться, сражаться – не отступить, работать – не умаяться.
Не кокуй-ко ты, моя кукушка,
Не кокуй-ко ты, моя рябая!
заводит Савелий. И сразу дрогнет, сожмется сердце, казалось бы, и песня не печальная, а слезы навертываются на глаза – от восторга ли, от потрясения ли.
Савелию только начать. Закончил одну, наперебой заказывают другую. Сначала пристанет к пению несколько голосов, потом больше, больше. Стройный, согласный хор сливается в трехголосье:
Прощай, сторонушка родная,
Прощайте, милые друзья,
Благослови, жена, не знаю
Иду на смерть, быть может, я...
И после этой протяжной – задорная, разухабистая:
Как во поле-полюшке
Елочка стоит,
Елочка стоит
Кудреватая...
Давно уже пора на ужин. Нехотя расстаются с чародейством, с песенным волшебством. Но впереди целый вечер. А тут присоединятся к любителям пения украинцы... А кто встречал хоть одного украинца, который не знал бы множества изумительных украинских песен и не владел самым превосходным голосом? Они научили бойцов петь "Ой у лузи", "Реве та стогне", научили песне о вдове, которая "брала лук дрибненький", и о той дивчине, которая "в синях стояла, на козака моргала". А там затянут кавалеристы-молдаване свои протяжные дойны...
Из поездки в Петроград, куда ходили бить Юденича, котовцы привезли новые песни, которым научили питерские рабочие, сражавшиеся в одном с котовцами строю. Полюбилась с тех пор бойцам песня про кузнецов, чей дух молод, "Смело, товарищи, в ногу", с большим чувством, стройно и торжественно исполняли "Интернационал".
И где бы ни заводили песни, везде непременно оказывался юный пулеметчик Первого кавполка, общий любимец Костя Гарбарь.
Он старался быть достойным звания котовца. Выполнял важные поручения, пробираясь в тылы врага. Однажды попал в плен, не растерялся, бежал и принес сообщение о расположении войск белополяков, за что был награжден орденом Красного Знамени. Он уже не ограничивался тем, что подносил патроны. Он стал пулеметчиком Первого кавполка Отдельной кавалерийской бригады Котовского и участвовал во всех боях.
Но вот кончался бой, и Костя снова превращался в застенчивого паренька, со звонким голосом, удивительным слухом и впечатлительной душой. Ольга Петровна часто видела, как он слушал пение птиц, не перестававших петь даже в те грохочущие годы. Костя испытывал неизъяснимую любовь к пернатым. То он бросал крошки голубям, галкам, воробьям где-нибудь на задворках деревни, то мастерил скворечник... А когда в освобожденном от вражеской своры городе политотдел бригады проводил митинг, устраивал спектакль, тут уж никогда не обходилось без живейшего участия Кости.
Заветной мечтой Григория Ивановича было создать духовой оркестр. А время было такое, что не до оркестров, да и откуда было взять необходимые инструменты, где добыть музыкантов?
Григорий Иванович распорядился, чтобы выискали среди бойцов таких, кто умел играть на чем-нибудь.
– Пусть он хоть на балалайке "Барыню" может отколоть, – объяснял Котовский, – или даже совсем ни на чем не играет, но наклонность у него к музыке есть, слух есть!
Второй приказ – бережно собирать музыкальные инструменты, какие попадутся среди трофейного имущества.
– Что попорчено – починим. Что непригодно – выбросим, – говорил Котовский командирам полков и эскадронов. – А музыка вот как нам нужна! Музыка дух поднимает, музыка – это знаете какое великое дело! Там, где человек давно бы свалился без сил, под музыку он промарширует от востока до запада.
И ведь добился своего Григорий Иванович! Уже в двадцатом году – на что трудный год! – в бригаде появился оркестр, свой великолепный оркестр. В нем было человек четырнадцать – пятнадцать музыкантов. Когда они принимались с усердием за работу, получалось очень внушительно: стекла дрожали.
Устраивали иногда и спектакли. Обычно на спектакль приходили и местные жители, и бойцы. Перед началом оркестр играл революционные песни, особенно хорошо получалась "Варшавянка". Исполнялись также старинные марши. Начинался митинг с вопроса о текущем моменте, потом выступали ораторы по темам: "Что такое капитализм", "О бюрократизме", "За что мы боремся". После выступлений пели "Интернационал", а затем шла пьеса "Червонный огонь", или "Мартын Боруля", или "Сватанье на Гончаривцах".
Костя был одним из самых усердных участников шумового оркестра и хоровой декламации "По рельсам дней". Он старательно выговаривал:
Звуков гроза!
Враз тормоза
Грохнули, грянули,
Дрогнули, прянули
В даль! – говорят.
В путь! – говорят.
В даль! В даль! В даль!
По окончании спектакля непременно устраивались танцы, и тогда оркестр, к полному удовольствию местных красавиц, старательно отбивал такты падеспани, краковяка, играл вальсы "На сопках Маньчжурии", "Оборванные струны" и в заключение при шумном одобрении присутствующих наяривал русскую "Барыню" и украинский гопак.
Как любил свою "музыку", так он называл оркестр, Григорий Иванович Котовский! Как гордился своим детищем! Иногда он сам присоединялся к оркестрантам и играл на кларнете. Лицо его делалось серьезным, сосредоточенным. А музыкантов до того воодушевляло участие в оркестре командира, что они буквально творили чудеса. Играя на слух, они вскоре разучили попурри из оперы "Запорожец за Дунаем" и фантазию "Колосья" на темы русских народных песен.
– Слыхали? – спрашивал Котовский. – Орлы! Даже из оперы могут! Квалификация!
И тут же отдавал строгое приказание:
– Выдать музыкантам все как полагается по форме, чтобы были красавчиками, – ведь музыканты у всех на виду! А вы, музыканты, постарайтесь, чтобы ремни были всегда подтянуты, обмундирование аккуратно пригнано, чтобы трубы блестели ярче солнца! Понятно?
Затем Григорий Иванович рассудил, что оркестру не пристало ездить на разномастных лошадях. Подобрали одинаковых белых коней, один к одному, и Котовский часто проверял, хорошо ли у них расчесаны гривы, ровно ли подстрижены хвосты.
– Чтобы картинка была! Лошадь человеку – крылья! Запомните. А музыка – она поднимает человека вверх, благородные чувства рождает.
После одного концерта Григорий Иванович вызвал к себе Гарбаря, обнял его за плечи:
– Молодец, Костя! Здорово у тебя получается! А я все смотрел-смотрел на тебя и думал – а ведь у парня талант, у парня музыкальные способности обнаружились, нельзя, думаю, зарывать в землю талант, довольно стыдно будет зарывать талант!
Костя слушал, похвалы ему нравились, но дальнейшие слова командира заставили его насторожиться.
– Так вот, Костя. Я все взвесил, все обдумал и считаю, что настало время тебя в люди выводить.
"В какие люди? – встревожился Костя. – Разве может быть на свете более почетное место, чем бригада Котовского, дивизия Котовского, кавалерийский корпус Котовского?"
– Мы должны, – продолжал Котовский, ласково разглядывая Костю, любуясь им, – мы обязаны помочь тебе стать хорошим, образованным музыкантом – таким, чтобы ты вполне изучил это дело. Что говорить, приятно послушать "На сопках Маньчжурии", хорошо этот вальс звучит, любят его. Но это еще узенькая тропинка у подножия высоченных утесов. Давай, Константин Андреевич, брать неприступные выси, крутые подъемы. Ты мой питомец, и я позабочусь, чтобы ты серьезно занялся музыкой, чтобы ты стал настоящим музыкантом.
Этот разговор расстроил Костю. Не подшутил ли над ним командир? Не мог же он на самом деле посоветовать учиться музыке? И кому посоветовать? Пулеметчику! Бойцу, прошедшему все военные дороги! Коннику Котовского!
И назавтра Костя размышлял о странных речах командира:
"Главное, еще называет меня по имени-отчеству! Никто еще никогда не называл меня так!"
Думал, думал, да и позабыл об этом разговоре. Вдруг вызывают в штаб.
Явился. Порядок знает.
А в штабе ему сообщают, что по приказу командира корпуса Константина Гарбаря переводят в музыкантскую команду.
Кровь прилила к щекам Кости. Он почувствовал себя оскорбленным, униженным, как будто его ударили по лицу.
Выскочил из штаба и даже не может сообразить, в какую сторону ему надо. В музыкантскую команду! Его, строевика! Его, бесстрашного пулеметчика! Да за что же это, за какую провинность? Что он, обозник какой-нибудь, тыловик, чтобы его в музыкантскую команду зачислять?!
В полном расстройстве чувств, весь опустошенный, окаменевший, шагал Константин Гарбарь по улице. Удар казался ему тем более болезненным, что исходил от обожаемого командира, которому он беспредельно верил.
Хорошо же! Он службу знает. Приказ есть приказ, и надо его выполнять.
Явился, как полагается, к краскому Сорокину и отрапортовал четко, бесстрастным голосом, что "прибыл в ваше распоряжение такой-то, такой-то боец-пулеметчик Первого кавполка". Отрапортовал, но голос зазвенел и осекся, подступили непрошеные слезы. Это привело в еще большее отчаяние: не хватает, чтобы разревелся, как мальчишка!
Но встретил ласковые, умные, чуть улыбающиеся, все понимающие глаза капельмейстера полка Ивана Дмитриевича Сорокина. Казалось, он проникает в самые сокровенные мысли, участливо расспрашивая Костю о его родных, о его детстве, рассказывая о себе:
– Вы знаете, Гарбарь, мне так посчастливилось: окончил в Петрограде класс военных капельмейстеров и получил назначение в такую прославленную воинскую часть! Я повстречал здесь истинных ценителей музыки. Впрочем, музыку нельзя не любить. Мне очень понятны слова гениального Глинки: "Музыка – душа моя". Как это верно!
Сначала Гарбарь слушал капельмейстера насупясь. Очень боялся, что его начнут утешать или уговаривать. Но Иван Дмитриевич был чуткий человек. Главное, он на самом деле любил музыку самозабвенно, даже исступленно, и невольно заражал этой любовью других. Вместе с тем он был застенчив и скромен до чрезвычайности. Скажи ему кто-нибудь, что он человек большой культуры, что он редкостный знаток музыки, особенно русской, – Иван Дмитриевич переполошился бы, замахал руками:
– Да ну вас совсем! Какой я знаток! Какая там культура!
Прошло немного времени, и Гарбарь перестал стыдиться своего нового назначения, понял, что не зря Котовский откомандировал его в музыкантскую команду. Теперь Константин Гарбарь недоумевал, как он мог обидеться на то, что его сделали избранником, поверили в его талант?