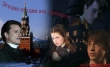Текст книги "Лягушка Басё"
Автор книги: Борис Акунин
Жанры:
Прочие детективы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 12 страниц)
Мой доктор Ватсон сделал, как велено. Накрытый труп с торчащим из груди аршином стал похож на палатку. Зрелище, скажу я вам, тоже так себе.
Никаких указаний мне на ум не приходило. Пока я думал, Фандорин не стоял на месте, а осматривал окна с задней стороны лавки. Размышлял вслух.
– С улицы – витрины, и они целы. Со двора окна, и на них ставни с прорезью для форточек, но форточки узкие. Никто посторонний отсюда проникнуть не мог. П-преступление действительно герметичное. На подозрении только обитатели дома. Кажется, расследование будет несложным.
Его бы устами да штрудель кушать, подумал я. Ничего себе – «несложным»! Бес знает, с чего подступиться!
Если бы я был настоящий Шерлок Холмс, я бы закурил трубку. Но огонь в субботу зажигать нельзя. Зато можно вспомнить какой-нибудь подходящий машáль.
В подобных случаях – когда все от тебя ждут чего-то умного, а у тебя в голове простокваша – я всегда вспоминаю машаль о раввине и ученом книжнике. Надеюсь, вы ничего не имеете против послушать хороший машаль? Их сочиняли люди помудрей нас с вами. А главное во всяком машале что? Правильно – нимшáль, концовка, которая превращает мутную простоквашу незнания в белый творог прозрения. И не говорите мне, что творог делают не из простокваши, а то я сам не знаю. Лучше послушайте.
Однажды к знаменитому раввину Пинхáсу бар-Исраэлю пришел ученый книжник и сказал: «Ребе, вот ты всё знаешь. Ответь на вопрос, который меня мучает. Я прочел десять тысяч страниц и потом десять тысяч дней размышлял о прочитанном, а все-таки не возьму в толк: если малые миры помещаются внутри больших миров, а над большими мирами существуют еще бóльшие, и в обе стороны, большую и маленькую, проекция бесконечна, куда же девается эманация субстата души после смерти – в больший мир или в меньший?».
Пинхас был мудр, но он не прочитал десять тысяч страниц и даже не знал, что такое «проекция», «эманация» и «субстат». Поэтому он ответил вопросом на вопрос: «Сам-то ты как думаешь?». «Я думаю, – ответил ученый книжник, – что добродетельная душа переносит свою эманацию в больший мир, а греховная душа – в меньший, но я хочу быть уверен, что не ошибаюсь». «Ты не ошибаешься, – сказал ему раввин. – Ступай себе с Богом», и книжник ушел счастливый, а Пинхас бар-Исраэль вернулся к своим делам. Потому что – вот вам и нимшаль этой притчи – не мешайте умному человеку верить в себя, и он своротит горы. А о том, что будет после смерти, человеку знать незачем, иначе будет неинтересно умирать.
Вспомнив этот машаль, я сказал Фандорину:
– А с чего бы начали действовать вы, дорогой Ватсон?
Он говорит:
– Пожалуй, сначала я познакомился бы с остальными обитателями дома. Пригляделся бы к каждому. И посмотрел бы, как они поведут себя рядом с п-покойником.
– Удивительно, – отвечаю. – Я собирался поступить точно так же.
– Давайте попросим приказчика сначала привести сюда хозяйку дома, – продолжил мой Ватсон. – А сам Стефанович пусть останется за дверью. И на вашем месте я бы разговаривал с госпожой Горалик построже. Чтобы она поняла: это д-допрос, и она – подозреваемая.
Хорошо ему было это говорить! Он не знал Леи Горалик! От одной мысли, что я буду с ней разговаривать построже, мне стало не по себе. Это все равно что зайти к тигру в клетку, зарычать на него и посмотреть, что будет.
– Что ж, так и сделаем, – говорю. – Но допрашивайте мадам Горалик лучше вы. На меня внимания не обращайте. Если вы что-то сделаете не так, я поправлю.
И Ханан Стефанович пошел по левой лестнице за мадам Горалик, а я отошел в угол, за прилавок, и встал между шкафами, надеясь, что меня не очень видно.
Если бы вы послушали, как Лея Горалик в магазине ругается с мужем – а это обычно слышно всей Ново-Бульварной улице – вы бы тоже так поступили.

И вот входит, верней сказать врывается в магазин Лея Горалик, в шелковом платье с кружевами, на шее жемчуга, на пальцах золотые кольца, краснощекая и черноглазая, собою очень красивая, но еще больше страшная. Я же говорю: не женщина – тигр.
– Ну, и где этот шнóрер? – вопит она. – Бразинский, вы уже установили, кто убийца, как будто это и так не ясно, как божий день? Чтоб я так имела мигрень, как вы будете иметь ваши двести рублей, если не добудете доказательства, которые устроят полицию!
Этот гевальт она начала еще на лестнице и – что вы думаете? – увидев вместо меня незнакомого господина в цилиндре, нисколько не смутилась, а просто перешла с идиша на русский.
– А, вы и есть шабес-гой, на которого прохиндей Бразинский выцыганил еще сто рублей? Что вы тут стоите, как памятник Мицкевичу в Краковском пжедместье? Сто рублей вам сами себя не заработают. И куда, я спрашиваю, подевался этот поц Бразинский?
Я помалкиваю. Стою, где стоял, только в стену вжался.
Но Фандорин оказался не робкого десятка.
– Сударыня, меня зовут Фандорин. Эраст Петрович Фандорин. Это раз. Ваши деньги меня не интересуют. Это д-два…
Молчал бы уже, плакали мои сто рубликов, печально подумал я.
– ...Ну и третье. Вы будете не задавать вопросы, а отвечать на них. Иначе я немедленно отправляюсь за полицией, и следствие будет вести она.
Я зажмурился, поэтому не видел, как переменилась в лице мадам Горалик. Только услышал, как переменился ее голос.
А он стал сладкий, как засахарившееся варенье.
– Эраст Петрович, вы должны извинить мою ажитацию. Я лишилась не только супруга, какой бы он ни был, я могу лишиться и состояния, которое очень даже есть. Но его точно не останется, если за следствие возьмется пристав Колюбакин. Спрашивайте о чем хотите, только добудьте доказательства на это сукино отродье Кальмана как можно скорее! Ведь даже новорожденный котенок поймет, кому было выгодно убивать Либера!
– Вы называете сукиным отродьем собственного сына? – удивился Фандорин.
Лея обиделась.
– Как вы могли подумать, что у женщины моего возраста может быть двадцатипятилетний шалбер! Нет, Кальман – отродье Либера и его первой жены. Она была сука, поэтому я назвала его «сучье отродье».
– Должно быть, дочь Нетания тоже от предыдущего брака? – спросил тогда мой помощник. – Ей ведь уже пятнадцать лет.
– Нет, Нетаночка моя родная, но мерси вам за комплимент, – еще больше размурлыкалась тигра. – Спрашивайте, спрашивайте скорее, что вам нужно, и покончим с этим делом, которое, ей-богу, не сложнее молочной пенки.
И такое же противное, подумал я, потому что я очень не люблю молочные пенки.
Пора было однако выходить из укрытия. Господин Фандорин отлично приручил тигрицу, сначала щелкнув кнутом, а потом погладив ее по шерстке.
Выхожу, вежливо так:
– Добрый день.
– Вы находите? – язвительно отвечает мне она вместо чтоб поздороваться.
Сама даже не смотрит на меня, только на Фандорина. Не то чтобы я из-за этого расстроился.
– Вы позволите приступить к допросу, господин Бразинский? – сказал мой помощник, вероятно, желая оказать мне уважение, но лучше бы он этого не делал.
Я махнул рукой, с одной стороны как бы давая ему позволение, а с другой – как бы показывая мадам Горалик, что я тут не очень при чем.
– В каких отношениях вы были с покойным супругом? – начал он тогда допрос.
Она скривила свое гладкое лицо.
– В каких отношениях вы были бы со старым шелудивым козлом, за которого вас не спрашивая выдали замуж восемнадцатилетней козочкой?
– Право, не знаю. Отвечайте за себя.
– Хорошо. Я отвечу. То самое, что лежит вон там, под простыней… – Мадам Горалик показала на мертвое тело. – …потрясло мошной и купило меня у папы с мамой, как овечку на убой, потому что мы были бедные, а он – ого-го, сам Либер Горалик. Папу с мамой я не виню, им надо было думать про выдать замуж семь других дочерей, не таких красивых, как я. Меня принесли во всесожжение и не спросили. Но себя тогдашнюю, плаксу бесхребетную, я ненавижу. Зубы и когти у меня потом выросли. А не выросли бы, я бы давно в нашей гнилой речке Мухавец утопилась, туда мне была бы и дорога.
– Итак, вы ненавидели п-покойного?
– А то вам мои доброжелатели про это не рассказали, – фыркнула Лея. – Что вы глаза прячете, старый сплетник?
(Это она мне).
– Вы на меня не отвлекайтесь, мадам Горалик, – кротко молвил я. – Считайте, что меня тут нету.
– Что вы есть, что вас нету, разница небольшая, – сказала эта грубая женщина. – Эраст Петрович, вы ведь знаете про завещание, которое составил скотина Либер? После такого завещания он – последний человек на свете, которого я проткнула бы деревянным аршином или чем там его проткнули. Я что, похожа на дуру? Скажите лучше: после того, как вы уже докажете, что Либера угрохал мой пасынок, желая лишить меня наследства, завещание можно будет оспорить?
– То есть вы абсолютно уверены, что убийца – Кальман Г-Горалик?
– А кто еще? – изумилась Лея. – Если бы Либер помер от пьянства и обжорства, как я всегда надеялась, я получила бы две трети всего имущества: треть как вдова и еще треть как опекунша Нетаночки, до ее замужества, которого никогда не будет, потому что никто не возьмет замуж хромоножку кроме охотника за приданым, а я такому негодяю свою кровиночку никогда не отдам. Но поскольку Либер убит, всё достанется ублюдку Кальману – и моя часть, и опекунство над сестрой! Бегемот теперь будет король королем, а я нищая!
– Мне сказали, что покойный проводил здесь, в торговом зале, каждую ночь, – продолжил Фандорин. – Вы когда-нибудь сюда спускались в ночное время?
– Если бы и спустилась, дальше двери не попала бы. Муж всегда запирался, чтобы никто не мешал ему пьянствовать. И обратите внимание: дверь с нашей стороны закрывается на засов, а с той стороны – на ключ. Бегемот мог запросто сделать слепок. Вы понимаете, к чему я?
На этот вопрос мой помощник не ответил.
– Благодарю. Для первого допроса д-достаточно. Можете вернуться к себе, но из дома не отлучайтесь. Вы нам снова понадобитесь.
Лея Горалик подошла к накрытому тканью мертвецу. Постояла над ним, качая головой, словно не верила, что Либер наконец отдал Б-гу душу. Даже наклонилась и потрогала тело, словно желала убедиться. Спасибо не плюнула. Надеюсь, что моя жена – дай мне Б-г помереть раньше ее – расстроится хоть немножко больше, когда я отправлюсь на тот свет. (Не чтоб я очень туда торопился).
Фандорин сказал, что теперь надо поговорить с Кальманом Гораликом. Я крикнул Ханану, который топтался снаружи и, конечно, подслушивал: «Зовите следующего подозреваемого, сами слышали кого!».
Пока Ханан ходил вверх-вниз по лестнице, Фандорин осматривал через лупу замочную скважину на правой двери и засов на левой. Сказал «Так-так», а что «так-так», не объяснил. Ну и не надо.
– Почему она называет молодого Горалика «бегемотом»? – спрашивает.
– Потому что он похож на бегемота.
Справа из-за двери донесся скрип – это жалобно стонали ступени.
– А вот и он топает, – сказал я. – В Кальмане чуть не десять пудов веса.
И вошел Кальман Горалик, в блузе и с бантом на шее, кудри из-под ермулке свисают до плеч. Сразу видно – художник.
Лично я из художников больше всего Рубенса люблю. Вы знаете, что он был еврей, настоящая фамилия Рубис? Так вот Кальман Горалик был брюхастый, будто рубенсовская баба на пятнадцатом месяце беременности.
Вошел, замер, увидев накрытое тело. Весь затрясся. Я подумал: это он от горя или от страха? Кто ты, толстяк: без пяти минут мильонщик или без пяти минут каторжник?
– Ребе Арон, видите, какое у меня несчастье, – пожаловался Кальман. – Дорогой папаша приказал долго жить. Это он там лежит, под простыней? Я боюсь посмотреть, но скажите, сложены ли у покойного руки на груди, как положено хорошему еврею?
– У него из груди торчит деревянный аршин, если вы не знали, – ответил я. – И останется торчать, пока мы с моим помощником мосье Фандориным не разоблачим убийцу.
Молодой Горалик поцокал языком.
– По крайней мере нужно поставить свечи у изголовья и почитать псалмы из книги «Тегилúм». Книга вот она, я уже сделал закладочку в нужном месте. Свечи я тоже зажгу, я ведь скорбящий родственник, онени́м, Галаха освобождает меня от большинства субботних запретов. Но свечи поставьте вы сами, я ужасно боюсь покойников.

Я понял, что если Кальман убийца, то признаваться он не собирается. И, коли уж говорить начистоту, у меня никак не получалось представить, что этот рыхлый толстяк, трясущийся, как заливная рыба, протыкает своего родителя деревяшкой с железным наконечником.
Я покосился на Фандорина. Тот слегка кивнул.
– Сначала мой помощник мсье Фандорин задаст вам вопросы. Скорбеть будете после, – говорю. – Молитва не коза, далеко не убежит. И молиться вам надо пока что не о папаше, а о себе, потому что ваше положение смотрится не очень чтобы хорошо себе. Вся выгода от случившейся неприятности ваша, а это подозрительно.
Я очень грозно это сказал, и Кальман задрожал еще пуще.
– Я знаю, эта гадина, моя мачеха, у вас уже побывала! Она отравила вас своим ядом! А ведь всему Брест-Литовску известно, что она ненавидела папочку и желала ему смерти! Потому он, министерская голова, и составил такое завещание! Но даже оно его не уберегло! Ах я, несчастный сирота! За что мне такое горе?
И всхлипнул.
– Господин Горалик, – спросил его Фандорин, – вы ведь скульптор?
– И что? Это доказывает мою вину? – вскинулся Кальман. – Послушайте, сударь, по вам видно, что вы культурный человек, не то что наши евреи, для которых художник – это безбожный апикойрес, способный на любое непотребство. Да, я художник, но такой, какого среди евреев еще не бывало! Я тройной новатор! Я изобрел новое направление в искусстве! Еврейский религиозный пластический импрессионизм!
– Что это такое? – заинтересовался мой Ватсон.
– Я был в Париже, обошел все художественные салоны. Импрессионистов там пруд пруди, но они а) неевреи, б) атеисты и в) занимаются только живописью. Как только минует траур и я разберусь в скучных наследственных делах, я отвезу свои работы в Париж, я сниму самый лучший зал! Мои импрессионистские скульптуры хасидов в лапсердаках и штраймлах откроют миру волшебство наших штетлей, красоту еврейского мира! Выставка, которую я готовлю, произведет взрыв в искусстве!
Мне вспомнилась поговорка «Широко шагал – штаны порвал». Станут в Париже любоваться на наших евреев, а то там не на что посмотреть. И видели бы вы уродов, которых лепил Кальманчик! Что они могут произвести, так это взрыв антисемитизма и еврейский погром. Но я ничего не сказал, а Фандорин про скульптуры не спросил.
– Хорошо. Пока достаточно, – сказал он. – Вернитесь к себе. Скоро мы вас снова вызовем.
И крикнул за дверь:
– Господин Стефанович, попросите спуститься дочь покойного!
– Послушайте, – шепчу я. – Кальман – наш главный подозреваемый, а вы его спросили про какие-то пустяки!
– На первичном допросе следователь составляет психологическое суждение о подозреваемом. Мне д-достаточно, а вы господина Горалика-младшего и так знаете.
Ладно.
Прихромала с женской половины Нетания Горалик. Чтоб я так быстро бегал, как она хромала!
Я сразу помотал Фандорину головой: беседуйте с этим чертенком сами, без меня. О мадемуазель Горалик «психологическое суждение» я тоже имел.
– Ой, это у вас там папаша лежит? – затараторила девчонка, едва войдя в лавку. – Можно посмотреть, как его проткнули? Обожаю всякие ужасы!
– …Не сейчас, – несколько опешил от такой прыти Фандорин. – Мне нужно задать вам несколько вопросов. Надеюсь, мадемуазель, они вас не слишком разволнуют…
– Я подозреваемая, да? – еще больше оживилась Нетания. – Как интересно! Вы наверно желаете знать, где я была в момент преступления? Были ли у меня мотивы для убийства? И как я относилась к папочке, да? Ссорились ли мы с ним и всё такое?
– Как вы к нему относились, в общем, уже понятно. Я, собственно, хотел бы с-спросить…
– Ой, я тоже хочу спросить! – перебила она. – По вам видно, что вы не из Жабинки приехали. Наверно вы много где побывали, да?
– Я мало где не побывал.
– И в Америке были?
– Даже жил.
У Нетании затуманился взгляд.
– Правда? Ах, я тоже буду жить в Америке!
– Это п-превосходно, однако я желал бы выяснить…
Но она не слушала.
– А знаете почему? Потому что Америка – лучшая страна для такой, как я.
– Для такой, как вы? – поневоле заинтересовался он.
– Женщине, тем более еврейке в России вообще делать нечего. Только замуж выходить. Но мне повезло, у меня одна нога на три вершка короче другой и я колдыбаюсь, как телега без колеса. Как говорят наши евреи, «насчет замуж я таки могу себе не беспокоиться».
Она скорчила рожу и заковыляла по комнате, нарочно хромая сильнее обычного.

– А американцам все равно, еврей ты или нет, были бы деньги. И еще в Америке была первая женщина-капиталист, Ревекка Лукенс. Ревекка – значит, тоже еврейка. И ничего. Стальным заводом владела! Я тоже буду владеть заводами, банками и нефтяными вышками. Я стану первая богачка во всей Америке и думать забуду про этот вшивый Брест-Литовск! Так о чем вы хотели меня спросить? Про мотив? Мотив у меня есть. Без папаши, да еще если мамаша останется на бобах, всё наследство поделим пополам мы с моим братом. И в Америку я поеду с хорошим стартовым капиталом. Где я была ночью? У себя в комнате. Но никто это не подтвердит, так что подозревайте меня сколько хотите, я не боюсь!
Я смотрел на исключительно неприятную девицу и думал, что моей Мариам через два года тоже пятнадцать. Неужели она тоже станет такой заразой? Я читал в одной ученой брошюре, это называется «адолесценция», переходный возраст, когда девочка превращается в женщину. Боюсь только, что Нетания Горалик превратится не в женщину, а в настоящую ведьму. И чтобы она особенно не куражилась, я ей сказал:
– Деточка, по закону твоей долей наследства будет распоряжаться опекун: либо твоя мамочка (чтоб у меня было столько счастья, сколько в ней злобы), либо твой братец (чтоб у меня было столько болячек, сколько у него ума). А свое наследство ты получишь, только когда выйдешь замуж, то есть никогда.
– Ха. Ха. Ха, – повернулась ко мне Нетания. – Эту чушь вам сказала мамаша? Она дура. По законам российской империи – я выясняла – в день совершеннолетия я получу свою долю сполна, выньте да положьте. Жаль только ждать еще пять с половиной лет. Ненавижу ждать!
– …Что ж, мадемуазель, благодарю, – сказал Фандорин после паузы. – Возвращайтесь к себе. Скоро мы вас снова вызовем.
Девчонка расстроилась.
– И весь допрос? Значит, вы меня в подозреваемые не принимаете? Ну и ладно. Давайте, выясняйте поскорей, кто укокошил папашу – мамочка или братец? С точки зрения наследства мне это все равно, так или иначе половина будет моя, но любопытно.
Подковыляла к покойнику, сделала над ним реверанс – низкий такой, чуть не до пола.
– Слез над вами, папенька, я лить не буду, но за хорошее наследство мерси боку.
И пошла себе.
– Ну и какое ваше психологическое суждение о мадемуазель Горалик? – спросил я.
– Исключать из числа подозреваемых маленькое чудовище ни в коем случае нельзя…Что ж, дорогой Холмс, подведем предварительные итоги?
– Начинайте вы, Ватсон, – ответил я в тон. – Посмотрим, совпадают ли наши выводы.
– Как вам будет угодно. Самый очевидный фигурант – Кальман Горалик. Смерть отца делает его владельцем фирмы. Это раз. То, что смерть насильственная, лишает вдову ее доли. Это два. Парижские планы молодого человека – планы, которые были неосуществимы при жизни отца, – могли стать еще одним, и может быть, даже главным мотивом. Это три. Переходим к Лее Горалик. Довольно п-пугающая особа. Мужа ненавидела. Это раз. Надеется, что завещание можно будет опротестовать, если виноват пасынок. Это два. И вы, конечно, обратили внимание на намек, который она сделала.
– Еще бы не обратил! На какой намек? – насторожился я.
– Про дубликат ключа, которым можно было открыть дверь в торговый зал с мужской половины. Вполне вероятно, госпожа Горалик ожидает, что мы устроим обыск. И если в комнате Кальмана найдется второй ключ, это станет г-главной уликой. На самом деле – нет, не станет, потому что мы не будем уверены, не сама ли Лея Горалик эту улику подкинула.
Он прошелся по залу.
– Третий подозреваемый – милое дитя Нетания Горалик. Подростковый нигилизм в сочетании с озлобленным сердцем и честолюбием создают весьма г-гремучую смесь... Наконец, в доме ночью находился старший приказчик Ханан Стефанович, который сейчас подслушивает за дверью.
– Ничего я не подслушиваю! – донеслось из-за двери. – Вы велели ждать снаружи – я жду. И как вы могли подумать, что я способен убить дорогого хозяина? Во-первых, никогда и ни за что в жизни. Во-вторых, какой мне прок с этого кошмара? Можно подумать, я что-то получу с завещания! Таки нет, я там даже не упоминаюсь, хотя восемь лет, как муравей, трудился на Либера Горалика, чтоб ему на том свете стыдно стало. В-третьих, спросите реб Арона, и он вам скажет, что Ханан Стефанович тихий еврей, который мухи не укусит!
Фандорин не стал с ним препираться, а отвел меня в сторону и понизил голос.
– Больше в доме никто не живет? Только эти четверо?
– Никто. Вся прислуга приходящая, ночью ее не бывает. Но я хочу сказать вам за Ханана, раз уж он призвал меня в свидетели. Он действительно агнец. Ни с кем никогда не ругается, только блеет. Вы его сами видели. Откуда у него столько силы, чтобы свалить на пол крупного мужчину вроде Либера Горалика, да еще проткнуть его насквозь мерным аршином?
– Если при герметичном преступлении подозрительны все кроме кого-то одного, очень часто это и есть виновник. Так что овцу мы исключать тоже не будем, – сказал на это Фандорин. – Но каковы ваши предварительные умозаключения?
– В точности такие же, как ваши, – отвечаю. – А теперь давайте посмотрим, совпадают ли наши взгляды по поводу дальнейших действий. Нам ведь надо что-то делать – если, конечно, убийца не сознается сам, а он таки не сознается. У вас какой план?
– Судя по вашему п-проницательному замечанию, такой же, как ваш.
– Да?! – поразился я, не поняв, которое из моих замечаний он назвал проницательным.
– Я тоже подумал, что нужно сконструировать ситуацию, в которой преступник выдаст себя сам.
– …Да, именно это я и имел в виду, – говорю я. – А как мы скон… сконструируем ситуацию?
– Можно использовать старинный японский метод, который называется «Дух Тораэмона».

– Дух чего?
– Это название пьесы театра Бунраку. Сюжет такой. Убит князь Тораэмон Усобанаси. Совершить это мог только кто-то из домочадцев, то есть преступление г-герметичное. Расследование ведет бонза из местного храма. Священник собрал всех подозреваемых на поминальную службу, совершил положенный обряд, и вдруг в дыме благовоний возник дух Тораэмона. Дух закричал страшным голосом: «Вот он, мой погубитель!». Один из самураев выхватил кинжал и сделал себе харакири. Это и был убийца.
– Красивый машаль, – признал я. – Я таких тоже много знаю. Но какая нам польза от этой притчи? В чем тут нимшаль, суть?
– Это не притча. На языке криминалистов метод называется «психологическая резекция». Используется в случаях, когда есть основания предполагать, что убийство было совершено в состоянии аффекта. Ни один из наших фигурантов-мужчин и тем более женщин не обладает достаточной физической силой, чтобы нанести удар такой мощи…
– Кальман мог бы, – возразил я. – Таскает же он на себе десять пудов жира.
– Физической силы у него хватило бы, однако с-сомневаюсь насчет силы воли.
– Это да. Он сначала три раза струсил бы, а на четвертый упал в обморок.
Фандорин продолжил:
– Аффект, состояние крайнего возбуждения, как мы уже говорили, способен на короткое время удесятерить физические силы человека слабого или мобилизовать нервную энергию человека нерешительного. Но одно дело – совершить убийство импульсивно, в порыве бурных эмоций, ночью, и совсем другое – увидеть то, что ты сотворил, на ясную голову, при свете д-дня. Давайте сделаем вот что, дорогой Холмс. Соберем здесь, на месте преступления всех четверых. В некий момент я сдерну с трупа покрывало, и он предстанет перед подозреваемыми при ярком свете, во всем своем ужасном виде.
– И что, я должен спрятаться за прилавком и крикнуть страшным голосом: «Вот он, мой убийца»? – скептически спросил я. – А вдруг это не он, а она? Дух ведь не может ошибаться.
– Вы не будете прятаться и не будете кричать. Вы будете внимательно наблюдать за реакцией подозреваемых. Если преступление совершил кто-то из них в состоянии аффекта, от потрясения убийца может себя как-то выдать.
– Да, видок у мертвеца не очень… – Я содрогнулся. – Уж я-то на него точно смотреть не стану. На лица подозреваемых – это сколько угодно.
Так мы и сделали. Собрали всех четверых в лавке.
Вот тут – натянутая палатка, которая на самом деле покойник. Рядом мы с Фандориным. Перед нами, на стульях, вдова с дочкой, Ханан Стефанович и наследник – пока что наследник, а там видно будет.
Получился не японский, а еврейский, но вполне себе театр.
Я сделал строгое лицо, объявляю:
– Поскольку сегодня суббота и еврею заниматься суетными делами грех, говорить будет мосье Фандорин, так что прошу смотреть не на меня, а на него.
Вообще-то они и так смотрели только на него, но надо же было напомнить, кто тут главный.
Фандорин сделал шаг вперед.
– Дамы и господа, не буду ходить вокруг да около. Убийство совершил один из вас, это неоспоримый факт. Сейчас будет проведен с-следственный эксперимент, который поможет выявить преступника.
Я гляжу во все глаза. Примечаю: Стефанович замахал руками.
– Снова он за свое! – кричит. – Я вас умоляю, какой мне гешефт с того, что старый хозяин помер?
Лея Горалик крикнула:
– Вы слыхали? Все у него на подозрении! И Нетаночка? Это курам на смех! Она же ребенок!
Но ребенок Нетаночка обиделась не на Фандорина, а на свою мамашу:
– Какой я вам ребенок?! Я тоже подозреваемая! Меня допрашивали не хуже, чем вас!
Однако пуще всех раскипятился Кальман:
– Клянусь Тем, чье Имя нельзя произносить всуе, я не убивал отца! Дайте мне свиток Торы, я произнесу швуат! Сами знаете, что бывает с евреем, если он нарушит эту страшную клятву!
Тут Фандорин повернулся – и как сдернет с мертвеца простыню!
Я-то был к этому готов и даже головы не повернул, смотрел только на подозреваемых. Но они, конечно, уставились на труп, а он был ох какой не красавец. Желаю нам с вами в гробу выглядеть лучше, чем Либер Горалик. Поверьте, это будет нетрудно.
Ладно. Я гляжу, куда велено – не выдаст ли себя убийца.
А поглядеть таки было на что.
Нетания со стула вскочила:
– Уй, жуть какая!
Лея Горалик скривила свое красивое, но неприятное лицо:
– Фу, какая гадость.
Ханан Стефанович зажмурился. Он, как и я, уже любовался этой красотой и во второй раз не захотел. Только протянул «ой-вей…».
Но интересней всех поступил Кальман Горалик – взял и бухнулся в обморок.
Я смотрю на Фандорина – это признание или как? Фандорин пожимает плечами, в смысле «бес его знает».
И хмуро говорит:
– Прекрасно, что у женской половины такие к-крепкие нервы. Это облегчит дальнейшее проведение эксперимента. Господин Стефанович, приведите молодого человека в чувство…
Ханан помахал над Кальманом платочком, потер ему виски, и Горалик-младший открыл глаза.
Вдруг Фандорин взялся за аршин да как дернет! И что вы думаете? Аршин ни в какую, вот как в полу застрял!
Тогда Фандорин взялся обеими руками, стал тянуть.
Мертвый Либер приподнялся с пола, будто собрался сесть. У Кальмана глаза снова закатились под лоб, да и меня, честно вам скажу, затошнило – особенно, когда Фандорин вытащил-таки окровавленную штуковину со сверкающим сталью концом, а Либер снова шмякнулся об пол.
Лея Горалик, железная баба, только скорчила брезгливую гримасу, а Нетаночка в восторге взвизгнула:
– Ух ты!
Ну и семейка!
– Господин Бразинский, – попросил Фандорин, – шлепните Кальмана Горалика по щеке. Это самое лучшее средство.
Я с удовольствием влепил бегемоту оплеуху по его жирной щеке. Получилось звонко.
– А? Что? – захлопал он глазами.
– Теперь прошу каждого вытянуть руку и раскрыть ладонь, – приказал мой помощник.
Вперед протянулись четыре руки. Дрожащая и здоровенная, пальцы как сосцы на коровьем вымени, у Кальмана. Заляпанная чернилами, сухонькая у Стефановича. Пухлая, в золотых кольцах, с лакированными ногтями у Леи. И худенькая, будто курья лапка, у Нетании.
Фандорин приложил орудие убийства к каждой руке, а я смотрел, какая отдернется.
Рука вдовы не дрогнула, а девчонкина даже дотронулась до аршина – прямо до бурого от крови наконечника. Зато оба мужчины пугливо поджали пальцы.
Понятнее от этого не стало.
Я читал, что в больших городах теперь умеют брать отпечатки пальцев, но Брест-Литовск это вам не Москва и не Варшава, у нас лабораторий нету.
– Теперь вам всё ясно, горе-сыщики? – насмешливо поинтересовалась мадам Горалик. – Женской рукой и тем более пальчиками ребенка эту оглоблю в Либера не воткнуть, даже если бы очень хотелось. Пойдем отсюда, мое бедное дитятко. Я дам тебе валериановых капель.
Она обняла Нетанию за плечо и увела обратно на женскую половину.
Кальман проблеял:
– Ханан, у меня всё плывет перед глазами. Ноги не держат…
Стефанович помог ему подняться, кое-как обнял его за то место, где у нормальных евреев бывает талия, и повел к другой двери. Мы с Фандориным остались вдвоем.
– Если вас интересует мое мнение насчет следственного эксперимента, дорогой Ватсон, – со всей возможной деликатностью сказал я, – то пользы от него вышло примерно столько же, сколько лысому от расчески. У нас тут не Япония. Самураев нету, никто сам себе харакири не делает.
– Про женские и девичьи руки чушь, – задумчиво произнес Фандорин. – Аршин можно было ухватить и двумя руками. Но вообще черт знает что. Двое слабых мужчин и две сильные женщины. А хуже всего, что аршин был всажен в пол очень глубоко. Я еле его выдернул. У Леи и Нетании Горалик на такой удар не хватило бы физической силы, а у Кальмана и Стефановича – силы духа. Наше расследование зашло в тупик. Да накройте вы этот проклятый труп! Он мешает мне дедуктировать!
– С большим удовольствием.
Мысленно извинившись перед усопшим за доставленное беспокойство, я снова прикрыл тело. Теперь, с вынутым из груди дрыном, оно выглядело намного лучше, по сравнению с прежним даже посмотреть приятно.
Поворачиваюсь к Фандорину, а он застыл истуканом. Прикрыл глаза и щелкает зелеными четками – из кармана достал.
Вижу: Молится человек, просит своего Иисуса о вразумлении. Я тоже немножко помолился, потому что один Б-г хорошо, а два лучше.
Опять же от молитвы, может быть, пользы и немного, но уж вреда точно нет.
– М-да, – вздохнул мой незадачливый Ватсон через минуту-другую. – Даже четки не помогают. Что ж, когда рацио заходит в тупик, следует полагаться на интуицию. Дом разделен на две половины, синюю мужскую и розовую женскую. Нужно начать или с той, или с д-другой. Как скажете, так и поступим. Вы ведь Шерлок Холмс, я всего лишь Ватсон.