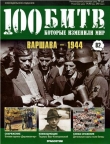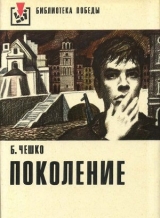
Текст книги "Поколение"
Автор книги: Богдан Чешко
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц)
XI
Над железными воротами, расположенными в середине кирпичной стены, виднелась сделанная готическими буквами надпись – Winterhilfe – организация зимней помощи. С внутренней стороны стена была густо увита диким виноградом. Во дворе между булыжниками пробивались засохшие сорняки. Кирпичное здание, в котором раньше помещалась химическая лаборатория, занимало половину участка. Давно не мытые окна потускнели от пыли и паутины. Место было выбрано удачное. На тихой Фабричной улице движения почти не было. Дом сторожил мордастый охранник – фольксдойч [17]17
Фольксдойчи – лица немецкого происхождения, которых оккупанты использовали в качестве своей опоры в стране.
[Закрыть], который ни слова не знал по-немецки, следовательно в разговоры не вступал, но приказы понимал. Его французский карабин был заляпан грязью, как сторожка, где он обитал, а длинный острый штык настолько проржавел, что накрепко сросся с дулом.
В конторе томились в ожидании дела злые, как ведьмы, бабы – тоже по происхождению немки.
Они разговаривали между собой по-польски, но когда в комнату входил Юрек, чтобы взять ключи от помещения, где устанавливали стеллажи, начинали на ломаном немецком языке предъявлять ему претензии.
Когда полки в подвалах и на первом этаже были готовы, все стало ясно. Придя в один прекрасный день на работу, столяры увидели горы сапог и калош, огромные тюки барахла, начиная от шапок и носков и кончая одеялами и коврами. Дом наполнился тошнотворным запахом дезинфекции. Немки из конторы бегали, попискивая, как мыши. На щеках у них выступили багровые пятна. Глаза алчно горели. Они рылись в вещах со знанием дела, вытаскивая из вороха тряпок все, что поценнее, и с восторгом показывали друг другу свою добычу. Можно было подумать, что они дорвались до отмели, усеянной жемчужницами.
– Знаете, что это? – задыхаясь, прошептал Родак, до боли сдавливая плечи ребят корявыми пальцами. – Это вещи евреев. Не смейте их трогать. Они ничьи, но вам париться на них нечего. Застукаю кого-нибудь, морду набью.
Ясь Кроне стоял в стороне – долговязый, толстощекий, с торчащими из коротких рукавов руками, которые, словно две тяжелые лопасти, болтались не в лад с движениями тела. Во взгляде его сквозила жадность, а на лице было написано разочарование.
– Столько всякого добра, столько добра, – ворчал он и пожимал плечами.
Родак торопил с работой, сопел и фыркал, как еж. Всем хотелось поскорее покинуть склад, где запах смоляных досок забивало вонью дезинфекции. Работницы бойко сортировали вещи по полкам: отдельно ползунки, отдельно мужскую одежду, женскую, рядом постельное белье.
Они работали обстоятельно, без спешки. Богатство стало для них повседневным явлением, осталась только скучная работа. Здоровенная фрау Круль, выпячивая усатую верхнюю губу, насвистывала «Lili Marien» и в такт песне перебирала руками. «Schmutzig ist das alles» [18]18
Какая грязь (нем.).
[Закрыть], – сказала она, взяв двумя пальцами маленькую дамскую рубашку. Она, должно быть, от зависти порочила неизвестную женщину, которой хватало такого крохотного куска ткани, чтобы прикрыть наготу.
Столярам опротивело здесь работать. А работа тянулась до бесконечности. Немки открывали все новые и новые комнаты в верхних этажах, и казалось, этому конца не будет.
– Как во сне, – говорит Юрек. – Кончаем и никак не кончим. Печень Прометея, а не дом.
– Чья печень? – переспросил Стах.
В конце сентября Родак принес спрятанную под подкладкой «Трибуну вольности» [19]19
Центральный орган ИПР. Первый номер газеты вышел 1 февраля 1942 года.
[Закрыть], отпечатанную на четырех страничках папиросной бумаги. Строки просвечивали на обороте. Сложенную вдесятеро, укрытую под одеждой газету старый столяр пронес через город, который прочесывала полиция, устраивая облавы. И вот, сидя среди вороха одежды, Юрек читал вполголоса:
«…Как мы далеки сейчас от наивной воинственности тех дней, когда горстка безумцев призывала закоснелых политиков взяться за оружие вместе с рабочими и крестьянами. Как мы далеки сейчас от тех безумных дней, когда с несколькими револьверами вступали в борьбу с вооруженным танками и артиллерией противником.
Позади – месяцы зимних приготовлений и первое лето партизанского движения. Пора подвести итог нашим достижениям.
– Польское партизанское движение стало реальностью…»
Родак и его подручные усваивали географию Советского Союза; земли на запад от линии, соединяющей Кавказские горы с Ленинградом, были им известны до мельчайших подробностей. С надеждой повторялось название Сталинград. «Что-то долго ликвидируют там последние очаги сопротивления», – говорили они, боясь выразить вслух свои желания, чтобы не сглазить.
– Родак, скажите откровенно, признаете вы меня своим или нет? Или еще целый год будете присматриваться? Знаете, когда долго нюхают – нюх притупляется.
– Что ты мне, парень, голову морочишь. Кому я газеты приношу, фалангистам или своим? А что присматриваюсь я к тебе, это верно. Скажу прямо: будь ты рабочим, я бы тебя сразу раскусил, а так… кто тебя знает. Ты как туман.
– Во-первых, я рабочий, а во-вторых, коммунист…
– А в-третьих, глупый щенок. Вот что. Какое ты слово сказал? Коммунист. Знаешь ли ты, что это значит? Уж одно то, что ты говоришь о себе – коммунист, доказывает, что ты молокосос, а не коммунист.
Родак глянул на Юрека с непритворным гневом, подавляя резкие слова, которые просились на язык. Ругался он очень редко.
– Коммунист сопливый, – буркнул он с прозрением. – Ха… коммунист. Я только мысленно себя так называю, и то когда бываю доволен собой. А он туда же. Коммунист не любит трескучих фраз. Вот как. Прежде, чем скажет слово, три раза взвесит. Потому что сказать – у коммуниста означает сделать. Эх ты, гимназист, гимназист! Недаром Гжесь смеется над тобой, говорит, ты на ксендза похож, и правда. Те умеют пыль в глаза пускать. Принимайся за работу, смотреть на тебя тошно.
Через несколько дней, когда Родак немного отошел, Юрек спросил у него о Секуле.
– Ты лучше забудь, что был человек с таким именем. Его теперь зовут «Стройный». – Родак помрачнел и озабоченно добавил: – Мучается мужик и даже не пикнет. Настоящий товарищ. А ты потерпи немного. Скоро настанет ваш со Стахом черед. Я узнавал. Вы должны организовать пятерку. Так положено. Присмотритесь к людям, найдете.
– Погоди-ка… Значит, я могу себя считать членом Гвардии Людовой?
– Вот видишь, будь ты коммунистом, ты не стал бы задавать глупых вопросов. Ну, конечно, можешь… как это ты сказал? – «считать себя». – Родак улыбнулся.
Что говорить, это звучало далеко не патетически. Само собой разумеется, Юрек не думал, что при его вступлении в подпольную организацию будут бить в литавры, но все же он представлял себе этот момент иначе, торжественнее и поэтому обиделся на Родака, считая его человеком сухим и черствым.
* * *
Стах вечерами все дольше засиживался над книгой, подкручивая фитиль в гаснущей карбидной лампе. В воскресенье, реже чем обычно, соседи видели, как он стоит, прислонясь к голубятне, и следит за полетом голубей. Он ходил полями в сторону Кола, распугивая по дороге ворон, которые слетались сюда на мусорные свалки. Стах насвистывал никому не известные, не привычные для уха мелодии. Всеведущие соседи говорили: «Эх, Миколаиха, Миколаиха, твой сын, видно, волю господню почуял. Гляди, как его в поле тянет». Откуда они могли знать, что Стах насвистывал красноармейские песни, каким-то чудом перелетевшие через линию фронта.
* * *
Их было двое. А для образования ударного подразделения – секции – нужно было пять человек.
В углу за фанеровочным прессом Родак говорил: – Нет, нет, ребята, от Яся Кроне лучше держитесь подальше. Он тогда польстился на барахло из «Винтерхильфа». Я объяснял – не помогло. Сами видите, что за человек.
Через месяц Юрек сказал матери, уплетая картофельные оладьи:
– Знаешь, мама, я вступил в Гвардию.
Он сказал это так, как говорят о погоде. Мать поставила сковородку и медленно опустилась на стул. Казалось, она приросла к нему.
– Уже?
– Так получилось. Я хотел раньше, но они искали контактов. Знаешь, как бывает в конспирации. Кто-то не пришел, кто-то опоздал. Сегодня я познакомился с моим командиром. Смешной человек, с самого начала спрашивает: «Есть оружие?»
– Это те самые люди, которые печатают «Трибуну»?
– Да.
Часть вторая
XII
Начальная столярно-строительная школа третий раз сменила помещение в начале 1942/43 учебного года, когда немцы подходили к Сталинграду и карабкались, как тараканы, по горным хребтам Кавказа. Они ощущали дыхание могучей Волги и степей Поволжья, ловили ноздрями запах бакинской нефти.
«Трибуна» призывала: «Нужно ударить в слабое звено гитлеровской военной машины, следует уничтожать транспорт врага.
Каждый пущенный под откос поезд – значит, одним днем войны меньше, меньше одним днем неволи».
Родак не мог успокоиться:
– Ну вот, рвались к работе, а теперь, когда нужно организовать какую-то жалкую пятерку, выдохлись, а?
– Что прикажете, дать объявление в «Новом курьере»: требуются, мол, диверсанты. Ты ко мне присматривался полгода, а нас подгоняешь, – негодовал Юрек, Стах ему поддакивал.
Первого члена пятерки нашли в школе. Они выловили его из толпы почитателей столярного ремесла, хваставших друг перед другом своими званиями, балагуривших на занятиях, потешаясь над дырявыми брюками преподавателя по коммерческой переписке.
Этот преподаватель был патриотом, он старался привить ученикам любовь к польскому языку с помощью составления писем, начинавшихся примерно так: «В ответ на Ваше письмо от такого-то в отношении поставки…» Кроме того, он туманно намекал на подневольное положение и говорил о необходимости быть непреклонным до конца.
Недосказанное принималось к сведению, и на этом все кончалось. Не менее патриотически был настроен ксендз-законоучитель, молодой еще человек, готовый в любую минуту вспыхнуть, как смоляной факел. Этот не переставал внушать: «Поляк – значит хороший католик». Он преподавал Ветхий и Новый завет, делал экскурсы в догматику и историю церкви.
– Скажите, пожалуйста, Коперник носил высокий духовный сан? – Стах задал этот вопрос неожиданно для самого себя. Теперь отступать было нельзя.
– Разумеется. Каноник во Фромборке – епископ, это не мало.
– Тогда почему же его книжка о вращении небесных тел запрещена? Папа запретил. А если папа непогрешим, то, значит, Солнце вращается вокруг Земли. (Это был отзвук его разговоров с Секулой.)
Со стороны ксендза последовали сбивчивые рассуждения о непогрешимости папы только в вопросах веры. Однако это было лишь начало. Ксендз припомнил ему это, когда кончилась первая четверть, – он не мог удержаться, чтоб не использовать благоприятного случая.
– Есть и такие, которые, понюхав чуть-чуть науки, да еще неизвестно какой, сеют в душах верующих беспокойство и сомнение. – Ксендз, не мигая, смотрел на Стаха. – Но они не знают вещей, о которых берутся судить, или знают их поверхностно, это безбожники, которые и молиться-то не умеют, и давно забыли выученные в детстве слова «Богородицы»…
Во время экзамена ксендз неожиданно обратился к Стаху:
– Перечисли, сын мой, для начала десять заповедей, а потом расскажешь, откуда они произошли.
Стах сбился уже на второй заповеди. В голове у него была черная пустота, в которой порхали, точно спугнутые голуби, обрывки: «Не убий… не убий… которая ж это заповедь?»
– Не мучайся, дорогой. – Ксендз нахмурился. – Ставлю тебе в четверти не двойку, а кол. Кол.
Разумеется, создавшуюся ситуацию следовало использовать до конца, и ксендз был бы плохим психологом, если б не сделал этого.
– Ну, а теперь десять заповедей нам перечислит Шерментовский.
Шерментовский был необычайно тихим и робким юношей со спокойным, неподвижным лицом и гладко причесанными волосами. Говорил он мало и в разговоре неожиданно выделял то или иное слово. Это звучало так, точно он впервые читал незнакомый текст.
Шерментовский поднялся, скрипнув крышкой от парты, лицо у него стало изжелта-бледным.
– Я не знаю… на память.
Ксендз привстал, перенеся тяжесть тела на руки, прилипшие к столу.
Юрек толкнул Стаха локтем в бок. Стах шепнул:
– Поговори с Шерментовским после уроков. – И многозначительно подмигнул.
На лице у ксендза было написано неподдельное страдание.
– Я… я не нахожу слов… – И он вышел из класса, хлопнув дверью.
– Вот так штука, – сказал кто-то из угла.
* * *
Юрек перебирал в памяти одного за другим своих одноклассников, он старался представить себе их такими, какими они были когда-то: в мундирчиках с голубым кантом и никелированными пуговицами. Они возникали в памяти вместе с обрывками давно забытых событий. Странно, что он до сих пор ни с кем не встретился. Кое-кого он, правда, видел мельком на улице уже во время оккупации, без гимназических мундиров, повзрослевших. Разговор ограничивался обычно тем, что они говорили друг другу: «Привет…» или спрашивали на ходу: «Как дела?»
Шнайдер, Шнайдер, где-то он теперь? Или Альтенберг Адам, или Альтенберг Вениамин, или Бахнер, гениальный шахматист и математик, который задавал каверзные вопросы учителю истории.
Все трое левых убеждений, такие, на которых можно положиться. Что с ними? Умерли от голода или от тифа? Умерщвлены пулей или газом? Забиты насмерть плетью или сожжены? Быть может, затерялись в безграничных просторах Советского Союза, занимающего шестую часть всей суши? А может, они в Красной Армии? У Бахнера были лучшие результаты в стрельбе, когда они проходили военную подготовку… Упрямый рыжий толстяк.
Никого нет. Большое серое здание школы, расколотое пополам бомбой, торчит посреди разрушенных домов.
Видны стены знакомых классов, окрашенные до половины в желто-зеленый цвет, с которых теперь кусками облупилась краска.
Друзья разбрелись по свету, разошлись кто куда и никогда больше не вбегут толпой по широким лестницам, опережая звонок сторожа Франтишека, который по вечерам, когда смолкал стук шариков от пинг-понга, любил играть для себя и для мышей на кларнете.
В памяти остались обрывки текстов, названия явлений, определения: цветоножка, ложноножка, тычинки; Sulmo mihi patria est gelidis uberrimus undis milia qui… Zu Dionys dem Tyrannen schlich Dämon den Dolch im Gewände…
* * *
«Сумма квадратов»… Свалка непригодных сведений. Фальсифицированная история Польши, выхолощенная литература – отвратительный, никому не нужный хлам.
Начальная школа… тут память изменяла Юреку. Он не помнил уже почти никого из своих одноклассников – остриженных наголо, вымуштрованных по прусской системе мальчиков.
И вдруг его осенило. Збышек… Збышек Сенк. Живой мальчик со встрепанными волосами, прекрасный ученик, светлая голова, замечательный игрок «в два огня», хороший товарищ. Разумеется, Юрек никогда бы не вспомнил о нем, если б не странный случай, происшедший с ним совсем недавно, уже во время оккупации.
Они встретились в городской библиотеке. Юрек просматривал каталог. Збышек подошел, поздоровался и посоветовал:
– Кручковского прочитай – «Кордиан и хам».
– Читал.
– Василевской «Облик дня».
– Читал.
Збышек улыбнулся, и это означало, что они поняли друг друга. Потом библиотеку закрыли.
Збышек жил в графском доме за страховой кассой на Вольской, второй двор направо. До войны на двери висела табличка. Надо пойти к нему, разыскать, только не спрашивать у дворника.
Вот медная табличка с надписью: «К. Сенк». На диване под двумя пледами, закутавшись в меховое полупальто, на спине лежал Збышек. Лицо как посмертная гипсовая маска. От дневных лучей, проникавших в окно, кожа отсвечивала, как отсвечивает поверхность мраморной статуи.
Все было ясно, говорить о цели визита было не нужно и даже бесчеловечно, обнаружив возле подушки зеленый флакон с широким горлышком и эбонитовой пробкой. В такой пузырек удобней сплевывать.
Тем не менее Юрек говорил долго, распространялся бог весть о чем, осторожно кружа около главного вопроса. В общем-то, это было чистое бахвальство, хотя о себе он не сказал ни слова.
За каждой фразой чувствовалось: «Ты, браток, ко мне с Кручковским да Василевской подъезжаешь, а я, гляди-ка, парень не промах».
Тот слушал внимательно, ни разу не прерывал.
– Видишь ли, нас двое, ну… трое, а нужно пятерых, вот я и пришел, я подумал… но ты болен…
– Гвардия Людова, говоришь, и только молодые в вашей секции. Недолго вам еще оставаться только гвардейцами. Уже есть зачатки политической молодежной организации. Кое-что об этом мне известно, потому что я сам организовал первые кружки в Раковце, в Коле. Это была тонкая работа, потому что люди просеивались, как песок сквозь пальцы, но многие все же остались, самые толковые, самые лучшие. Так думаю я, но практика покажет. Да, дорогой, не смотри на меня с открытым ртом, нет ничего удивительного в том, что я выполняю именно эту работу. Что еще я могу делать? – Он умолк и стал глядеть в потолок, заложив руки за голову.
– Осень, – сказал он тише, – проклятая осень. Простудился, когда шел с собрания домой, и вот, пожалуйста, слег… да, слег. Ты работаешь в столярной мастерской? К нам на собрания приходил один столяр-подмастерье. Мы звали его Бартек. Вздернутый нос, медвежьи глазки, волосы белые, как лен, парень башковитый.
– Я его знаю.
– Да? Смотри-ка, как нас мало, мы все друг друга знаем. Но организация разрастается… Проклятая осень… Иди, мне нельзя разговаривать подолгу и волноваться, мне надо побольше есть и лежать как можно спокойнее, я должен выздороветь. Привет. Желаю успеха в работе. Привет… Ты зря потерял время, не удалось меня сагитировать. Мы еще встретимся, когда мне станет лучше.
Он закрыл одеялом ноги и лег поудобней. На щеках у него пылали два круглых алых пятна.
Он умер в марте – месяце роковом для чахоточных, весна прилетает к ним зловещим вороном.
* * *
На площади по названию Венеция, которую никогда так и не застроили, неподалеку, от угла Млынарской и Вольской, установили две-три карусели с ручным приводом. Под полотняной крышей ходило по кругу несколько парней, вращая развлекательное сооружение.
Пианола, у которой половина струн была оборвана, наигрывала танцевальные мелодии конца прошлого века. Особенно хорош был падеспань. Анахроничную пианолу забивал конкурирующий с ней адаптер, гремящий «Розамунду» над входом в театр «Хохлик». Это был покрашенный в ядовито-зеленую краску сарай со вкопанными в землю лавками. В самом дешевом театре столицы демонстрировали свое искусство спившиеся жонглеры с гибкими руками профессионалов и прочая артистическая братия, которую давно уже выгнали с цирковой арены.
Во время оккупации убрали с площади цирк, закрыли тир с шариками, весело пляшущими на поверхности воды. Немцы запретили стрелять.
Ликвидировали также танцплощадку, чтобы не оскорблять национальных чувств немецких солдат, чья родина была в трауре. Солдаты влезали на качели и качались с серьезными лицами, без смеха и криков.
Процветали здесь и мошеннические азартные игры. Охотнее всего столики окружали французы с форта Воля. Они были заняты на предприятиях БМВ и после работы приходили на площадь. Они первые лезли в драку и пользовались каждым удобным случаем, чтобы ее начать. Среди них было много уголовного сброда; этим терять было нечего. Были авантюристы и бродяги, были и солидные отцы семейств, с портативными альбомами семейных фотографий. Народ, как правило, веселый и симпатичный. Они проклинали тот час, когда подписали вербовочные контракты фирмы, которые привели их в этот холодный сырой край, где весна взрывается, как граната, где лето томительно, осень тянется до бесконечности, а о зиме и говорить не приходится… В страну, где нет вина, а женщины одержимы средневековыми предрассудками.
Верховодили французами двое молодых людей: Марсель и Ги. Оба ходили в широченных брюках, с яркими платками на шее. Немцев они презирали. О поляках были тоже невысокого мнения, что не мешало им, впрочем, завязывать дружеские отношения с ними. В этом они преуспевали без труда.
Все началось с того, что Стах показал Марселю проходной двор, когда за ним, размахивая штыками, гнались с криками четверо немецких летчиков, у одного из них самым постыдным образом был подбит глаз. Случилось так, что Стах и Юрек познакомились через Марселя и Ги с Барбароссой и Жанно. Оба они были коренными варшавянами. Жанно был попросту Ясь.
Барбаросса, парень тощий, как жердь, был бы идеальной моделью для Дон-Кихота. Ко всему прочему, один глаз у него был вставной. Он уверял, что потерял глаз в сентябрьской кампании. Жанно, как и Барбаросса, выдавал себя за летчика. Причем Барбаросса говорил, что был пилотом, а Жанно скромно ограничивался функциями бортстрелка.
Следует отдать ему справедливость, в оружии он разбирался. Слушая его, можно было сделать вывод не только о его необычайном фанфаронстве, но и о знакомстве с военным делом. Скорей всего он учился когда-то в школе подхорунжих. Но в душе Жанно был штатским человеком, и во время оккупации в нем пробудилась порядочность. Именно на это делали ставку Юрек и Стах, предлагая ему принять участие в подпольной работе.
Родак махнул рукой и сказал:
– Поступайте как знаете. Военных специалистов у нас не больно много, а Гвардия – организация не только для партийных и даже не только для одних наших людей. Если с точки зрения конспирации он человек надежный, то, я думаю, его стоит принять, но следите за ним в оба и без нужды секретов организации не выкладывайте.
Таким образом, Жанно, тощий, похожий на петушка молодой человек со светлыми, едва заметными усиками, начал свою карьеру в подпольной организации левого направления. Окончилась она очень быстро. Причем дело приняло такой оборот, которого ни Юрек, ни Стах не могли предвидеть.
Жанно любил повторять:
– Я солдат, в политике не разбираюсь и никакой политической работы вести не буду, но бить фрицев – пожалуйста. Что касается оружия, то меня вполне устраивает пистолет системы парабеллум. Разумеется, командиром буду я, потому что хочу остаться в живых, а это весьма сомнительно, если командовать будет кто-нибудь из вас.
Стаха выбрали секретарем секции.
– Значит, Бартек – мой политрук, – снисходительно улыбаясь, говорил Жанно. – Черт побери, политрук, вот тебе моя рука, только не агитируй меня слишком нахально в пользу коммунизма, со мной этот номер не пройдет. Я вольный стрелок.
* * *
– Тоже мне вольные стрелки, молокососы вы, а не вольные стрелки. В любой армии пуля в лоб за такое разгильдяйство, – шипел в бешенстве Стройный.
Когда он сжимал в гневе челюсти, под ушами у него катались желваки. Они со Стахом стояли на трамвайном кольце возле Радзиминской улицы, неподалеку от железнодорожного моста, и поджидали опаздывающих «ребят с Таргувки». Те должны были принести бутылки с бензином.
Жанио и Юрек, точно фигурки в старинных часах, мерным шагом кружили по площади. Они возникали на мгновение из влажного сумрака и опять в нем исчезали.
Секула и Стах стояли в грязи, привалясь спиной к столбу с объявлениями, который защищал их от ветра. Над ними щерил зубы тигр со старой афиши цирка Барнума. Хищно оскаленная пасть поблескивала от влаги. По насыпи проносились поезда. Толпа сгрудившихся над своими узлами спекулянтов, ожидавших трамвая, заметно поредела. Вдоль насыпи прошел патруль.
– Отправляйтесь по домам, – заявил Стройный, – они уже не придут. Ничего не получится, мы все равно опоздали – скоро комендантский час. Оружие возьмите с собой.
* * *
– Так вот какое у вас оружие, вот какое… и это называется оружием?
С отчаянием вздымая руки кверху, Жанно шагал в грязных сапогах взад и вперед по фиолетовым цветам ковра.
– И это оружие!
Он с воплем подскочил к столу, схватил семимиллиметровый маузер, дернул за перезаряжатель – вылетела гильза. Он продемонстрировал, как следующий патрон становится наперекос в стволе, парализуя механизм оружия.
– Вот, пожалуйста, причем сейчас я делаю это без спешки, а при стрельбе получится еще хуже. Из этого пистолета можно выстрелить один раз. Теперь следующий… австрийский пистолет времен прошлой мировой войны – «штейер», сломан выбрасыватель, стреляная гильза не извлекается. Выстрелить можно один раз. Вот ФН, разболтан, как старая телега, и покрыт фиолетовым лаком. Почему фиолетовым? Черт возьми… Знаете ли вы, дорогой товарищ политрук, что выстрел из этого пистолета возможен только в том случае, если его приставить ко лбу… Единственная стоящая вещь во всем этом хламе – граната, десантная граната английского образца. Да, товарищ Бартек, да, дорогой Юрек… Вот огневая сила моего отряда: три выстрела из пистолета калибром семь целых тридцать пять сотых и одна граната. И я должен с таким оружием поджечь немецкий гараж, который охраняют пятеро солдат с современными автоматами, карабинами и ручным пулеметом. Тремя выстрелами я должен прикрыть отход четырех людей, после того как они бросят бутылки с горючей смесью. Нет, дорогие мои… Я человек смелый, но не самурай. Бартек, приказываю тебе обо всем этом доложить начальству. Напишешь рапорт и повторишь в точности то, что я здесь говорил. В точности.До свидания. Мне пора. Комендантский час.
Двое юношей остались сидеть за столом. Понуро глядели они на свое «никудышное» оружие, но соображения у них были разные.
– Он прав, – сказал Юрек.
– Нет, не прав, – сказал Стах. – Мне рассказывал один парень из Повонзек, как они достали первый пистолет. И смех и грех. Выследили одного эсэсовца, который ходил к бабе, что жила у вторых кладбищенских ворот. Оружия у них не было никакого, даже паршивого пистолетика. Сначала они хотели сделать пугач из дерева и постращать его на темной лестнице, но когда макет был готов, они от этой идеи отказались, потому что риск слишком большой. Немец мог не испугаться – и тогда им крышка. Что же они сделали? Взяли по куску трубы от газопровода, в один конец налили немного свинца для веса и отправились в засаду. А парни такие же, как ты, гимназисты, и для них ударить человека трубой, что ни говори, дело нешуточное. Но, несмотря ни на что, начали они его лупцевать сразу со всех сторон. Ендрек мне говорил, что шум был не приведи господи, потому что и немец орал, и они пищали. Сами даже не заметили, что кричат. Немец полетел спиной вниз по лестнице, цепляясь за прутья перил, успел даже расстегнуть кобуру, только достать пистолета не успел, потому что Ендрек здорово его треснул. «Мне сперва показалось, – говорил он, – что труба застряла у него в голове. Места потом себе не находил. Но как взгляну на парабеллум, радостно на душе становится, говорит. Даже не было потом большого шума». А пистолет есть, и у них на Повонзках руки развязаны.
– Идите поешьте чего-нибудь, мальчики.
Мать приготовила на кухне бутерброды со свекольным мармеладом и кофе.
– Больше ничего в доме нет, ты не предупредил, что у нас будут гости.
Из-за затемненных гофрированной бумагой окон доносился скрип железа. Это с наступлением комендантского часа Метек, сын дворника, громыхая ржавыми засовами, закрывал ворота.
Теперь отрезанный от улицы дом, из которого под страхом смерти никто не имел права выйти, был словно корабль, отчаливший от пристани и подчиненный законам своей внутренней жизни. Люди засыпали тревожным сном, готовые вскочить с постели, как только послышится шум у ворот, звонок, вызывающий дворника, или вой фабричных сирен, возвещающий городу, что советские самолеты бушуют в тылу противника.
Когда они засыпали, сжимая под подушкой «никудышное» оружие, Стах говорил Юреку:
– Ты Жанно не верь. Не дай себя провести. Он не наш. Если бы он был прав, нам пришлось бы послать к черту всю нашу работу. Что, например, могут сделать с бронетанковой дивизией пятнадцать партизан с выкопанными из навоза винтовками? Ничего не могут. А что пишет «Гвардеец»? «Наша тактика – застигать врасплох». Дело не в количестве пистолетов, а в нападении врасплох. Мы бьем их там, где они меньше всего ожидают. Застигнуть врасплох – вот в чем дело. Ты Янеку не верь, он не прав, а поскольку он не коммунист, у него нет особого желания бить немцев. Ему бы хотелось, чтоб его возили на автомобиле, прикрывали со всех сторон пулеметами. Немцы тоже любят ездить на танках, однако под Сталинградом застряли – и получат… ой, получат. У них тоже нет охоты воевать. Им бы только петь «Хтайли-хтай-лю…», топать сапожищами, вонять бензином, воровать кур у баб и убивать без хлопот… Хуже всего то, что у нас сорвалась первая операция.
Ночью разбудил их хор сирен, к которому присоединялись все новые голоса. Казалось, весь город воет глотками труб, вопит от страха перед налетом. Юрек поднял штору. В усеченном стенами домов многограннике неба суетливо кружила вспугнутая летучая мышь. На лестнице хлопали двери.
– Не будем спускаться, – сонным голосом сказал Стах. – Не надо, чтоб твои соседи знали, что у тебя ночует посторонний.
После минутного молчания, когда сирены смолкли, Юрек спросил, нарушив тишину:
– Боишься, Стах?
– Чего?
– Ну, налета. Того, что обнаружат оружие под подушкой, всего. Я спрашиваю, боишься ли ты за жизнь? Представь себе, ломятся в ворота. Ты знаешь, что это гестапо и что это за тобой. Боишься?
– Конечно, боюсь. Кто ж из нас не боится? Все боятся. Кому жить не хочется? А ты бы шел лучше спать и не задавал дурацких вопросов и не воображал бог знает чего, – буркнул Стах со злостью и ткнул кулаком в подушку. – Только спать мешаешь.
Юрек лежал, подложив под голову руки, пока сирены новым воем не возвестили отбой воздушной тревоги.
«Такие уж мы… боимся. Не умеем ни стрелять, ни бросать гранаты, а воюем… воюем. Начали воевать». Юрек думал о той жестокой, неустанной битве, которую придется вести, о смерти, которая будет налетать, как ястреб, неизвестно откуда и когда. Он думал о том, что назад пути нет. И об этом он подумал не то с сожалением, не то с горечью.