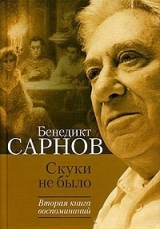
Текст книги "Скуки не было. Вторая книга воспоминаний"
Автор книги: Бенедикт Сарнов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 44 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Ну а когда грянул гром и молния ударила в Эренбурга, я сразу понял, что пробил и мой последний час.
Правда, одна очень славная женщина, бывшая тогда у нас парторгом, дала мне понять, что если я слегка покаюсь, все, может быть, еще и обойдется. Собственно, мне даже и каяться-то особенно не пришлось бы. Надо было только признать ошибочность «эренбурговой концепции» развития советской литературы, в которой меня обвинял «Блеонтьев». Ошибочность же эта заключалась в том, что я (подлаивая Эренбургу, как они считали) в числе самых выдающих русских поэтов XX века – рядом с Маяковским и Есениным – неизменно ставил Пастернака, Мандельштама, Цветаеву, Гумилева, Волошина.
На доброжелательный намек славной женщины-парторга я гордо ответил:
– Это вы, члены партии, обязаны колебаться вместе с генеральной линией, а я могу себе позволить не делать этого.
В общем, судьба моя была решена.
И вот в это самое время новый наш главный – Александр Борисович Чаковский (он в это время уже сменил чем-то проштрафившегося Косолапова) решил объяснить коллективу, что, собственно, происходит.
Нас всех собрали в огромном редакторском кабинете – том самом, где каждую неделю я выступал на летучках, – и Александр Борисович стал излагать нам свое видение ситуации.
Надо отдать ему справедливость: особенно он Эренбурга не топтал. Порой даже казалось, что он говорит о нем сочувственно. Примерно так, как взрослый, умудренный жизнью человек – о наивном несмышленыше-подростке. При этом он как-то особенно подчеркнуто обращался ко мне (я сидел в первом ряду), как если бы я был на этом собрании его, Эренбурга, личным представителем.
– Представьте, – говорил он, – на дворе 1937-й год. Эренбург сидит в Париже…
– В Мадриде, – громко сказал я из своего первого ряда.
– Ну в Мадриде, какая разница, – отмахнулся он.
Раздался смех: среди слушателей было немало людей, понимавших, что разница между сидением в 1937 году в Париже или в осажденном франкистами Мадриде была все-таки довольно существенная.
– В Париже или в Мадриде – это в данном случае совершенно не важно, – повторил Александр Борисович, строго оглядев присутствующих.
Смех увял.
– И вот приезжает Илья Григорьевич из Парижа… Ну хорошо, из Мадрида (поклон в мою сторону) на побывку в Москву. И спрашивает: что слышно? Какие новости? И со всех сторон ему шепчут в уши: взяли такого-то… И такого-то… И такого-то… Только об этом и разговоров… И никто ведь не говорит ему, что в это время на Урале задули новую домну. А в Кронштадте со стапелей спустили новый мощный линкор. И поневоле создается у него такая аберрация. Вот такая ложная, искаженная картина тогдашней жизни нашего народа…
Пересказывая сейчас эту замечательную речь Александра Борисовича, я вспомнил название одной программной статьи иных, еще более поздних времен. Посвящена она была двум главным тогдашним возмутителям спокойствия – Солженицыну и Сахарову. А называлась так: «Продавшийся и простак».
Продавшимся был объявлен Солженицын, а Сахарову (на тот момент) уготована была роль простака.
Так вот, пользуясь этой более поздней терминологией, я могу сказать, что Эренбург в той речи Александра Борисовича Чаковского изображался не продавшимся, а – простаком. И слушая его замечательную речь, я мгновенно усек, что дела Эренбурга не так уж плохи. Что раньше или позже – его простят. И вернут в команду на ту же, давно ему назначенную уникальную роль. Потому что, хоть и было некогда сказано, что у нас незаменимых нет, – он, Эренбург, незаменим. Другого такого они не найдут.
Природа его незаменимости состояла, конечно, и в его огромных международных связях, и в его – действительно незаурядном – публицистическом даре, и в его славе «антифашиста № 1». Но более всего, как ни дико это звучит, в его искренности. Да, он знал, что Виктор Кравченко в своей книге написал правду. А его друзья и соратники по борьбе за мир (Жолио-Кюри, Хьюлетт Джонсон, Вюрмсер, Веркор) то ли лгали, то ли по недомыслию плели ерунду. Но при всем при том он совершенно искренне считал Кравченко предателем. Как-то там, в его душе, всё это уживалось.
Вопреки злому определению Солженицына, «фокусником» он не был.
4Было это в один из наших приездов на казенной литгазетской машине к нему на дачу, в Новый Иерусалим. Было в ту пору, когда ездили мы к нему вдвоем, всегда в одном и том же составе: я и Лазарь. И вот сидим мы с Лазарем на террасе эренбурговской дачи. Гостеприимный хозяин, как обычно, угощает нас французским коньяком. Я, как обычно, только пригубливаю (французский коньяк не шибко меня занимает), а Лазарь глядит на меня волком, потому что из-за того, что моя рюмка полна, ему тоже не подливают.
Не помню, зачем мы тогда приехали к Эренбургу и о чем говорили. Но то, что произошло в разгаре этой беседы, запомнилось мне хорошо.
Вдруг на террасе появился кто-то из домашних Ильи Григорьевича и тихо шепнул ему что-то на ухо. Он встал, извинился перед нами и вышел. За стеклами террасы я увидел группу каких-то странных людей: черноусых, низкорослых, худо одетых. Собственно, ничего такого уж особенно странного в них не было. Странным было их появление здесь, на этой даче. Как-то не сочетался весь их облик с Эренбургом, с его трубкой, с этой террасой, с французским коньяком. Сочетался разве что с цветочными грядками и клумбами, окружавшими террасу: я знал, что Эренбург был страстным цветоводом. «Может быть, садовники?» – мелькнула мысль. Нет, и на садовников они были не похожи.
Эренбург увел этих странных гостей куда-то в глубь дома.
Ждать нам его пришлось довольно долго. Во всяком случае, французского коньяка в бутылке за время его отсутствия сильно поубавилось. (Воспользовавшись тем, что мы остались одни, Лазарь не только успел попенять мне на мое нетоварищеское поведение, но и слегка наверстать упущенное.)
Наконец Илья Григорьевич вернулся, уселся на свое место и рассказал нам такую историю.
Странные люди, посетившие его, были – таты. Таты – это такая народность. Живут они на Кавказе. Этническое их происхождение туманно. Говорят на своем, татском языке, близком к персидскому.
У нас, на Кавказе, их очень мало: всего-навсего 20–25 тысяч. Исповедуют они по преимуществу ислам – в шиитском его варианте. Но есть среди них и христиане-монофиситы. И есть какая-то горстка иудеев, то есть исповедующих иудаизм.
Эти, с которыми он сейчас беседовал, как раз и были иудеями. А явились они к нему по такому поводу.
Там у них, в местной – районной, кажется, – газете появилась заметка, ответ на вопрос читателя: правда ли, что иудеи на свою еврейскую пасху употребляют с мацой кровь христианских младенцев. Ну, вы ведь сами газетчики, хорошо знаете, как фабрикуются такие читательские письма.
– Но ведь не может быть, – вытаращили мы глаза, – чтобы они в этой своей газете ответили на такой вопрос положительно?
Нет, так прямо ответить на такой вопрос они все-таки не посмели. Ответили уклончиво. Да, действительно был, дескать, в древние времена у евреев такой обычай. Но в нашей советской действительности это, конечно, маловероятно. Тем более, что все сознательные советские граждане давно уже распрощались со всеми своими религиозными предрассудками. В том числе, разумеется, и с этим.
Этот ответ вызвал, конечно, у верующих (да, наверно, и не только верующих) татов сильное негодование. Самые грамотные из них написали в газету возмущенное письмо: нет, дескать, не только при советской власти не употребляем кровь с мацой, но и раньше никогда не употребляли. Даже в самой далекой древности не было у нас такого зверского обычая.
Газета (не помню сейчас, какая: кажется дело было в Дербенте) этого письма, разумеется, не напечатала.
Тогда они потребовали, чтобы в газете появилось хотя бы совсем краткое – в несколько строк – опровержение: в таком-то ответе на такой-то вопрос читателя была, мол, допущена ошибка.
Но газета даже и такое короткое опровержение печатать отказалась. И тогда таты иудейского вероисповедания отправили в Москву вот эту свою депутацию, добиваться правды.
Первым делом депутаты, конечно, явились в ЦК. Добились приема у какого-то мелкого функционера: инструктора, наверно. Тот выслушал их и заверил, что всё будет в порядке, ошибка безусловно будет исправлена: они могут спокойно возвращаться домой, в полной уверенности, что поручение, данное им единоверцами, они выполнили.
Будь эти таты людьми более цивилизованными, они, наверное, так бы и поступили. Но то ли их восточный менталитет сыграл тут свою роль, то ли их советский опыт помешал им поверить в сладкие обещания цекистского чиновника, а только этим его советом они пренебрегли.
Дальнейшие их действия, о которых рассказал нам Илья Григорьевич, напомнили мне поведение индусов из романа Уилки Коллинза «Лунный камень». Они – как призраки – появлялись перед зданием ЦК, постоянным своим присутствием давая понять тому партийному функционеру, что не уедут из Москвы до тех пор, пока им не покажут их районную – или какую-нибудь другую, более высокого ранга – газету, в которой черным по белому будет напечатано, что никогда – ни теперь, ни до революции, ни в самые древние времена их единоверцы не употребляли с мацой кровь христианских младенцев.
В конце концов взбешенный инструктор ЦК уже в более резких тонах порекомендовал им возвращаться в свой Дербент и даже чуть ли не пообещал отправить их домой с милицией, поскольку так долго жить в Москве без прописки не полагается.
И вот тогда-то они и пришли к Эренбургу.
Я не знаю, как и чем закончилась эта история. Помню только, что, завершив свой рассказ, Илья Григорьевич недовольно пробурчал что-то насчет того, какими только делами не приходится ему заниматься. Но при всем при том нам было совершенно ясно, что дело этих татов теперь в надежных руках. Раз уж он согласился взять эту их игру на себя (а он безусловно согласился), можно было не сомневаться, что так или иначе, но он своего добьется: древний грязный навет с маленького народа будет снят.
Несколько лет спустя мы с моим другом Валей Петрухиным, о котором я когда-нибудь, Бог даст, еще расскажу, и с нашими женами пересекли на Валином «Жигуленке» весь Кавказ. Побывали, конечно, и в Дагестане. В Махач-Кале нас встретил мой коллега – дагестанский (кумыкский) писатель Магомет-Султан Яхъяев, книгу которого я в свое время «перепер на язык родных осин» – не с кумыкского, конечно, а с подстрочника (этот сюжет тоже заслуживает отдельного рассказа). На все время нашего пребывания в Дагестане Магомет-Султан стал нашим гидом и, надо сказать, очень помог нам хоть немного сориентироваться в этом пестром, многоцветном уголке вселенной. Хотя по-настоящему сориентироваться нам там, конечно, не удалось: это было просто физически невозможно.
Вот идем мы с Магометом-Султаном по какой-нибудь махачкалинской улочке, и Магомет-Султан говорит:
– Обратите внимание, вот идет даргинец.
Мы пялимся на даргинца, пытаясь понять, чем он отличается от нашего Магомета-Султана. Спустя несколько шагов Магомет-Султан сталкивается и знакомит нас со своим приятелем, который оказывается аварцем. Потом появляется еще какой-то его знакомый – лезгин. И все они кажутся нам на одно лицо. А Магомету-Султану стоит кинуть лишь беглый взгляд на очередного прохожего, чтобы сразу определить, к какому из сорока народов, населяющих Дагестан, тот принадлежит.
Шли мы однажды вшестером – мы с Валей, наши жены и Магомет-Султан со своей женой Умой – и забрели в какой-то подвальчик, где продавались разнообразные меховые изделия. Наши жены решили купить себе по бараньей шапке – что-то вроде папахи.
Валина жена Оля выбрала себе папаху по вкусу, спросила сколько она стоит. Цена оказалась сходная, всего-навсего четвертак – 25 рублей.
Пришел черед моей жене выбирать себе папаху. Выбрала, приценилась. Хозяин подвальчика – черноусый смуглый дагестанец – то ли кумык, то ли лезгин, то ли аварец, то ли даргинец – поди пойми, кто он такой! – назвал цену: тридцать пять рублей.
– А почему та стоила двадцать пять рублей, – удивилась моя жена, – а эта тридцать пять?
– Потому что йета – йета, а йета – йета, – ответил дагестанец.
Ответ был не слишком вразумительный, но папаха жене понравилась, и я безропотно выложил за нее тридцать пять целковых, после чего мы все дружно выкатились из подвальчика на улицу.
– Я все-таки не поняла, – сказала моя жена. – А кто-нибудь из вас понял, почему моя шапка стоила на десять рублей дороже?
– Он же тебе объяснил, этот еврей, – сказал Магомет-Султан.
Тут уже пришел черед удивиться мне.
– Постой! – сказал я. – Какой еврей?
– Ну, этот, у которого мы были. Хозяин этой лавки.
Забыв о разнице цен на бараньи шапки, мы переключились на эту тему. Спрашивать, каким образом Магомет-Султан узнал в хозяине меховой лавки еврея, было бесполезно: узнал – и все. Так же, как узнавал в даргинце даргинца, в аварце аварца, а в лезгине лезгина. Но о горских евреях они с Умой нам кое-что все-таки рассказали.
Я, правда, так и не понял: горские евреи и таты – это один народ или все-таки разные? Получалось, что скорее разные. Но что было совершенно несомненно для наших дагестанских друзей, так это то, что у меня с этими горскими евреями нет ничего общего, кроме названия. Нас – меня и моих соплеменников – Магомет-Султан и Ума называли «европейские евреи» и почитали совсем другой нацией.
Так ничего толком и не поняв, я решил: ладно, приеду в Москву – разберусь. Но приехав в Москву, начисто забыл про это свое намерение, как, впрочем, и про самое существование каких-то неведомых мне горских евреев.
Вспомнил только, что несколькими годами раньше я уже задавался этим вопросом.
Было это году в 72-м или в 73-м. Мы провожали в аэропорту «Шереметьево» кого-то из наших друзей – то ли Воронелей, то ли Манделя. Проводы были тяжелые, мы не сомневались, что никогда в жизни больше не увидимся. Поэтому после того, как отъезжавшие прошли уже все паспортные и таможенные процедуры и скрылись с наших глаз, мы стояли и ждали, когда они появятся наверху, за стеклом, чтобы в последний раз махнуть им рукой. А там, за тем стеклом, стояла, тоже, видать, отъезжающая на свою историческую родину, большая семья вот этих самых горских евреев. Черноусые мужчины в кепках-аэродромах, женщины в платочках и дети – мал-мала меньше.
– Ну что? – глядя на них, сказал я жене, все эти годы упрямо уговаривавшей меня признать себя евреем и присоединиться к уезжающим в Израиль. – Ты в самом деле считаешь, что у меня с этими людьми есть что-то общее?
И даже моя упрямая жена вынуждена была признать, что да, действительно, найти что-нибудь общее у меня с этими людьми – трудновато.
Я не думаю, конечно, чтобы Эренбург чувствовал, что у него есть что-то общее с теми татами, делом которых он считал себя обязанным заняться. Может быть даже он не счел для себя возможным отказаться от этого дела не как еврей, а как русский интеллигент. Как Короленко, защищавший от обвинений в ритуальном убийстве не только еврея Бейлиса, но и крестьян-вотяков.
Может, оно и так. Но ОНИ-ТО – эти самые таты – не случайно пришли именно к нему. Пришли именно как к «еврейскому печальнику», как назвал его в одном своем стихотворении Слуцкий. И он не отмахнулся от этой своей миссии, от этой своей роли. (В отличие от Б. Л. Пастернака, который не то что с татами, но и с «европейскими евреями» не хотел иметь ничего общего.)
Уже одно это начисто снимает с Эренбурга обвинение в беспринципности и сервилизме. А между тем была по крайней мере еще одна область, где он ни разу не изменил себе.
5Эренбург редко прибегал к классическим стихотворным формам. Но среди его последних стихотворений есть одно, написанное в чеканной форме классического сонета. Оно так и называется: «Сонет».
Это его поэтическое – в сущности, даже не поэтическое, а жизненное – кредо:
Давно то было. Смутно помню лето,
Каналов высохших бродивший сок
И бархата спадающий кусок —
Разодранное мясо Тинторетто.
С кого спадал? Не помню я сюжета.
Багров и ржав, как сгусток всех тревог
И всех страстей, валялся он у ног.
Я всё забыл, но не забуду это.
Искусство тем и живо на века —
Одно пятно, стихов одна строка
Меняют жизнь, настраивают душу.
Они ничтожны – в этот век ракет,
И непреложны – ими светит свет.
Всё нарушал. Искусства не нарушу.
Это правда. Не нарушил.
Во втором томе эренбурговских мемуаров я прочел его рассказ о том, как в июле 41-го, в Переделкине, в чьей-то пустующей даче, под вой немецких самолетов и грохот зениток вдвоем с Борисом Лапиным, мужем Ирины, он читал русский перевод романа Хемингуэя «По ком звонит колокол». Наутро Лапин должен был уехать под Киев, откуда не вернулся. И они читали всю ночь напролет, передавая друг другу прочитанную страницу машинописи.
Прочел я об этом в самом начале 60-х, а незадолго до того сам читал этот роман Хемингуэя примерно таким же способом.
Это было незадолго до моего ухода из «Пионера» в «Литгазету», стало быть – в 59-м.
Среди множества никому не известных, как правило, начинающих авторов заглянул ко мне однажды симпатичный толстый увалень, лет, как мне показалось, двадцати. (На самом деле ему было больше: он сообщил, что только что окончил Институт востоковедения.) Держался он как профессионал. Рассказал, что только что закончил большой роман, который будет печататься в таком-то издательстве. (Кажется, даже показал верстку.) Делился новыми своими литературными планами. (Закончив один роман, он тут же засел за другой).
Пока он плел мне все это, я читал принесенный им коротенький рассказик и тоскливо думал: «Бог ты мой! Какой роман! Да ведь он двух слов связать не умеет. Как говорил в таких случаях мой друг Поженян – ни складу, ни ладу, поцелуй кошку в трамвае».
В общем, никаких литературных перспектив для этого милого парня я в том прочитанном мною его рассказе не углядел. (Забегая слегка вперед, должен признать, что ошибся: это был будущий Юлиан Семенов.)
Он легко и свободно болтал о своих литературных симпатиях и вкусах, сыпал именами знаменитых западных писателей. Мелькали там и Олдингтон, и Хаксли, и Скотт Фицджеральд, и Дос Пасос. Несколько раз промелькнуло, конечно, и имя папы-Хэма.
Слушал я все это вполуха. Но вдруг сделал стойку.
– Я только что прочел «По ком звонит колокол», – небрежно сказал он.
Я задрожал.
О романе этом я только слышал (от друзей, читавших его по-английски). О том, что уже существует русский его перевод, я, кажется, даже не подозревал. А он вроде сказал, что прочел его по-русски.
В общем, слово за слово, выяснилось, что у него есть машинопись русского перевода этого романа, и он – ну конечно, что за вопрос! – может дать мне его почитать. К сожалению, ненадолго. На неделю? О’кей, на неделю. Но это – максимальный срок.
К этому нашему разговору с интересом прислушивалась моя коллега Джана Манучарова, и когда будущий Юлиан Семенов нас покинул, мы с ней быстро договорились, что если всё это не окажется пустым трёпом, читать «По ком звонит колокол» мы с ней будем, конечно, вместе.
Будущий Юлиан Семенов трепачом не был. На другой же день он принес нам толстенную папку с хемингуэевским романом, и, оставшись после работы в редакции, мы с Джаной приступили к чтению. Точь-в-точь как Эренбург с Лапиным: передавая друг другу очередную прочитанную страницу.
Но очень скоро выяснилось, что так у нас дело не пойдет. Джану дома ждал муж и любимый пёс: скотч-терьер Томка. Меня – ревновавшая меня к Джане (как, впрочем, ко всей женской половине человечества) жена.
И тут остроумная Джана нашла гениальный выход. Давай, сказала она, скинемся и отдадим рукопись машинистке. За неделю она его нам перестукает. Нет? Ну, значит, надо найти двух машинисток.
Так мы и сделали. Машинистка (или машинистки) сделали четыре закладки, и сумма расходов, таким образом, была разложена на четверых: я приобщил к нашей авантюре моего друга Володю Корнилова (он тоже тогда бредил Хемингуэем), четвертого компаньона нашла Джана.
Вот так вышло, что я стал счастливым обладателем собственной рукописи не напечатанного у нас знаменитого хемингуэевского романа.
Под впечатлением некоторого сходства этого сюжета с эренбурговским я рассказал всю эту историю Илье Григорьевичу. Поводом, а также движущей силой моего рассказа был тот замечательный факт, что вот, оказывается, уже в сорок первом этот роман был переведен на язык наших родных осин, а читать его сегодня, даже тем, кому это посчастливилось, приходится, как и двадцать лет назад, тем же способом: передавая из рук в руки каждую прочитанную страничку.
Рассказывал я ему все это, и вдруг – осекся.
Заминка эта и даже некоторая неловкость, вдруг смявшая мою пылкую речь, была вызвана тем, что в памяти моей вдруг вспыхнула сцена из этого, недавно прочитанного мною хемингуэевского романа, одним из персонажей которой был не кто иной, как он сам, – тот, кому я сейчас изливаю свои восторги. И изображен он был в этой сцене – стараюсь выбрать самые мягкие выражения – в высшей степени нелицеприятно.
– Карков, – окликнул его человек среднего роста, у которого было серое, обрюзглое лицо, мешки под глазами и отвисшая нижняя губа, а голос такой, как будто он хронически страдал несварением желудка – Слыхали приятную новость?
Карков подошел к нему, и он оказал:
– Я только что узнал об этом. Минут десять, не больше. Сегодня под Сеговией фашисты целый день дрались со своими же. Им пришлось пулеметным и ружейным огнем усмирять восставших. Днем они бомбили свои же части с самолетов.
– Это верно? — спросил Карков.
– Абсолютно верно, – сказал человек, у которого были мешки под глазами. – Сама Долорес сообщила эту новость. Она только что была здесь, такая ликующая и счастливая… Она словно вся светилась от этой новости. Звук ее голоса убеждал в истине того, о чем она говорила. Я напишу об этом для «Известий». Для меня это была одна из величайших минут этой войны, минута, когда я слушал вдохновенный голос, в котором, казалось, сострадание и глубокая правда сливаются воедино. Она вся светится правдой и добротой, как подлинная народная святая. Недаром ее зовут la Pasionaria.
– Запишите это, – сказал Карков. – Не говорите все это мне. Не тратьте на меня целые абзацы. Идите сейчас же и пишите…
Его собеседник постоял еще несколько минут на месте, держа стакан водки в руках, весь поглощенный красотой того, что видели его глаза, под которыми набрякли такие тяжелые мешки; потом он вышел из комнаты и пошел к себе.
Сейчас, когда я переписывал эту коротенькую сценку из книги, изданной в 1982 году, мне показалось, что в том, рукописном варианте, который я читал в 1959-м, Эренбург (а в том, что это именно он, не может быть никаких сомнений) был изображен еще нелицеприятнее. Помнится, в том его описании упоминалась даже перхоть, которой были обсыпаны плечи его пиджака.
Но даже если это у меня явления так называемой ложной памяти, даже если этот портрет Эренбурга и не был слегка причесан и приглажен позднейшей редактурой, нельзя не признать, что и в этом печатном варианте выглядит Илья Григорьевич не самым лучшим образом. И дело, конечно, не в тяжелых мешках под глазами, и не в голосе его – таком, словно он хронически страдал несварением желудка. Даже и не в перхоти, если она там и была.
Гораздо обиднее тут то, что рассказанная им новость, по всей видимости, – полная лабуда. Во всяком случае, на фоне тех жестоких и страшных событий, которые читатель романа перед этим уже пережил вместе с его героями, она не может глядеться иначе как лабуда, способная ввести в заблуждение разве что читателей «Известий», для которых он напишет свою статью. А он, верящий в эту лабуду и вдохновляющийся ею, выглядит – и это в лучшем случае – прекраснодушным мудаком. Что, кстати сказать, подчеркивается иронической репликой Каркова (Кольцова): «Запишите это… Не тратьте на меня целые абзацы».
В общем, у меня были все основания предполагать, что Эренбург наверняка обиделся на Хемингуэя за этот явно карикатурный и даже издевательский его портрет. Не мог не обидеться! Да и то сказать: тут было на что обижаться.
Смяв свой восторженный монолог, я не сомневался, что увижу на его лице хотя бы мимолетный след этой давней обиды. Но ничего такого я на нем не увидел. А увидел только растроганность и нежность, вызванную то ли воспоминанием о том, как они вдвоем с Лапиным читали под грохот зениток тот хемингуэевский роман, то ли еще какими-то, другими, может быть, еще более ранними воспоминаниями. И в голосе его, когда он произнес несколько слов о Хемингуэе (он называл его «Хемингвей», – может быть, даже «Гемингвей», – ударяя на первый слог и произнося английское «дабл-ю», как русское «в») слышалась только влюбленность.
Я, конечно, не рискну утверждать, что его художественные склонности, привязанности и вкусы оставались неизменными. Но неизменной оставалась его верность этим своим привязанностям. И привязанность к тем, к кому он был привязан, любовь к тем, кого любил, всегда была для него выше личных обид и меняющихся личных отношений. (Так было не только с Хемингуэем, но и с Цветаевой, и с Пастернаком, и с Гроссманом – со многими.)
Один из появившихся в печати откликов на вышедший в свет первый том мемуаров Эренбурга был написан моим коллегой, а в то время даже и приятелем Эмилем Кардиным.
Эмиль был критиком отнюдь не официозным. Напротив: «левым», как это тогда у нас называлось. Можно даже сказать – крайне левым: чуть ли не после каждого его выступления в печати обрушивалась на него суровая партийная выволочка. (Писал он обычно на темы скорее общественные, чем литературные: о разного рода исторических штампах и фальсификациях; о том, например, что гвардейцев-панфиловцев было не двадцать восемь, а больше; о том, что никакого залпа «Авроры» в октябре 17-го года на самом деле не было: был не залп, а одиночный, да к тому же еще холостой выстрел.)
Отклик Кардина на первый том эренбурговских мемуаров был, разумеется, вполне хвалебным: учитывая политическую ориентацию Эмиля, он и не мог быть иным. Но по канонам советской критики в самом положительном и даже восторженном отзыве на рецензируемую книгу полагалось непременно отметить и ее недостатки. И Эмиль не нашел ничего лучшего, как упрекнуть Эренбурга за то, что он якобы преувеличил роль и значение в истории российской поэзии таких «поэтов-модернистов», как Осип Мандельштам и Максимилиан Волошин.
Встретив как-то Эмиля на улице вскоре после появления этой статьи, я его спросил, не сошел ли он с ума. На что он отреагировал такой раздраженной фразой:
– Ну не люблю я их. Не люблю! Понимаешь? Не обязан же я любить всех ваших кумиров!
Раздражение его я истолковал однозначно: наверняка я был не первым и далеко не единственным, выразившим ему свое удивление и неодобрение по этому поводу. О том же говорило и невольно вырвавшееся у него словечко «ваших» вместо «твоих». (Мы с Эмилем, разумеется, были на ты.)
И случилось так, что чуть ли не в тот же день посетил я Илью Григорьевича. И чуть ли не на пороге он встретил меня вопросом:
– Скажите: кто такой Кардин?
Ага, подумал я, значит, до него уже дошло. И торопливо стал защищать – ну, не защищать, но во всяком случае, по мере сил оправдывать Эмиля.
Смысл моего невнятного и сбивчивого монолога сводился к тому, что Эмиль сделал это не по злому умыслу, а по глупости.
– Но вы ведь читали эту статью? – раздраженно прервал И. Г. мои разглагольствования. – Он там называет Мандельштама и Волошина модернистами. А вы ведь знаете, что У НИХ это псевдоним. «Модернист» – это у них значит «реабилитированный».
– Да нет, Илья Григорьевич, – еще горячее вступился я за Кардина. – Поверьте, в данном случае это совсем не так. И ОНИ со своими псевдонимами тут совершенно ни при чем. Кардин к НИМ не имеет никакого отношения. Это НАШ человек. Уверяю вас! А модернистами он их назвал просто, ну… по невежеству…
Я говорил еще довольно долго. Но смягчить Эренбурга мне не удалось.
А когда я исчерпал все свои аргументы, он, пожевав по обыкновению губами, сказал:
– Нет, все-таки вы не убедили меня, что этот ваш Келдин…
Это у него была такая манера: если человек, о котором шла речь, был ему почему-либо неприятен, он нарочно искажал его фамилию: так он несколько раз, поминая в разговорах со мной В. А. Косолапова, назвал его Косолапиным.
– …не убедили меня, что этот ваш Келдин человек добропорядочный… Порядочный человек не стал бы кидать камень в убитого, замученного поэта, даже если этот поэт ему и не нравится. А человеку, которому не нравится Мандельштам…
До этого он говорил спокойно, вроде как даже благодушно. Но тут голос его дрогнул, и закончил он вдруг неожиданно жестко и даже зло:
– Человеку, который не понимает, кто такой Мандельштам, вообще нечего делать в литературе!
И тут я снова увидел перед собой того Эренбурга, который бросил в зал, в лица не к месту засмеявшихся студентов Литинститута:
– Вы смеетесь? Значит, вы не писатели!..
Я уже говорил, что когда я делал самые первые свои шаги в литературе, кругом была пустыня, в которой, как одинокий зуб в выбитой челюсти, торчал один Эренбург. И всему, что я тогда понял и усвоил (усвоил на всю жизнь), научил меня он.
Главным из этих усвоенных мною его уроков, было его отношение к искусству.
Когда на той редколлегии, где мне крутили руки, уговаривая «для пользы дела» изувечить мою «крамольную» статью, и «Блеонтьев» сказал, что свою концепцию развития советской поэзии я заимствовал у Эренбурга, я подумал: «Вот болван!»
Это и в самом деле была глупость.
Ведь никакой концепции развития советской поэзии – ни заимствованной у Эренбурга, ни своей собственной – у меня тогда не было.
Все было очень просто.
Книги (романы, повести, стихи, поэмы), которые мне нравились, которые я любил, ОНИ называли ущербными, упадочными, идейно порочными. А от книг (романов, повестей, стихов, поэм), которые У НИХ считались высшими художественными достижениями, меня тошнило.
Какая же это концепция?
Но в высшем смысле «Блеонтьев» был прав.
Ведь это правда, что никто иной, как Эренбург сформировал мое понимание самой природы художественного творчества. И сделал он это в тот самый день, когда рассказал нам, студентам, про Бальзака, который чуть не умер, описывая смерть папаши Горио. Возвращаясь сейчас мысленно в то время, в тот наш небольшой актовый зал, я вдруг вспомнил, как был тогда рад и горд, что не засмеялся вместе со всеми.
Но главным для меня в том эренбурговском рассказе стало даже не то, как близко к сердцу принял писатель смерть своего героя.
Больше всего поразило меня тогда то, что эта смерть никогда прежде не существовавшего, им самим выдуманного героя для него, его творца, его создателя оказалась – это прямо вытекало из того эренбурговского рассказа – полной неожиданностью.








