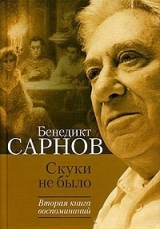
Текст книги "Скуки не было. Вторая книга воспоминаний"
Автор книги: Бенедикт Сарнов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 44 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Увы, этот диагноз касался нас всех. У всех у нас – во всяком случае, у большинства из нас – было именно вот такое «шизофреническое», двойное сознание.
Не избежал «плюрализма в одной голове» и сам автор этой блестящей формулы.
Незаурядный ум, а может быть, не ум, а мудрость поэтического дара открыла ему глаза гораздо раньше, чем мне. То, что я смутно чувствовал, о чем лишь догадывался, он не только осознал, но и очень рано сформулировал:
Гуляли, целовались, жили-были…
А между тем, гнусавя и рыча,
Шли в ночь закрытые автомобили
И дворников будили по ночам.
Давил на кнопку, не стесняясь, палец,
И вдруг по нервам прыгала волна…
Звонок урчал… И люди просыпались,
И вскрикивали женщины со сна…
…………………………………………………
А южный ветер навевает смелость.
Я шел, бродил и не писал дневник.
А в голове крутилось и вертелось
От множества революционных книг.
И я готов был встать за это грудью,
И я поверить не умел никак,
Когда насквозь неискренние люди
Нам говорили речи о врагах…
Романтика, растоптанная ими,
Знамена запыленные – кругом…
И я бродил в акациях, как в дыме.
И мне тогда хотелось быть врагом.
Желание «быть врагом» для человека, которому так ясно открылась истина о происходящем вокруг, было естественным. Никакой иной реакции тут, казалось бы, не могло и быть.
Но автор процитированных стихов не в силах стать на этот путь:
Иначе писать не могу и не стану я.
Но только скажу, что несчастная мать.
А может, пойти и поднять восстание?
Но против кого его поднимать?
Вот он – вопрос вопросов. Против кого поднимать восстание? Против единственной в мире страны победившего социализма?
Нет, это невозможно!
И сразу овладевает им сознание своего (нашего общего) гамлетовского бессилия:
Можем строчки нанизывать
Посложнее, попроще,
Но никто нас не вызовет
На Сенатскую площадь…
Мы не будем увенчаны,
И в кибитках, снегами,
Настоящие женщины
Не поедут за нами.
Не потому мы не сможем (не захотим) поднять восстание, что мы ничтожнее, трусливее тех, кто сто двадцать лет тому назад вышли на Сенатскую площадь, а совсем по другой причине. Потому что тот мир, против которого надо было бы поднять восстание, не только не враждебен, но даже и не чужд нам.
Нет, он не может, не в силах ощутить себя врагом этого мира, кровинкой которого он привык себя ощущать. И тогда остается только один выход: оправдать всю его неправедную, кровавую жестокость – приползти «на красную Лубянку, в готическое здание Чека».
Все это – далеко не так внятно, а весьма сумбурно и даже сбивчиво я попытался тогда высказать Эренбургу.
Не знаю, в какой мере это мне удалось.
Заключая свой длинный и маловразумительный монолог, я сказал, что да, конечно, каша в голове у моего друга тогда была. И немалая. Но первопричиной этой самой каши было естественное для нормального, психически здорового человека стремление убежать от шизофрении.
Илья Григорьевич, сколько мне помнится, никак на эти мои сбивчивые объяснения не прореагировал. Скорее всего, даже не понял, что я хотел сказать (или не захотел понимать). А между тем он ведь и сам не чужд был этого двойного сознания, этого плюрализма в одной голове. Он тоже – по-своему – пытался убежать от этой шизофрении. Только другим способом. Прямо сказал в одном из своих стихотворений, что слепоту зовет находкой.
Что это, как не такой же самообман, как у юного Манделя с его du cacha в голове? Другая форма того же самообмана.
* * *
Но я, кажется, слишком далеко забежал вперед.
Возвращаюсь назад, в тот день, когда мы явились к нему втроем – Лазарь и я по делу, а случайно встретившийся нам Эмка – просто так, за компанию.
Хоть Эмка и уверял нас, что его появлению в компании с нами Эренбург обрадуется, особой радости по этому поводу Илья Григорьевич не выказал. Но и удивления своего не показал тоже, хотя удивлен таким составом нашей делегации, судя по некоторым признакам, был немало.
Когда мы уже сидели – все трое – напротив него и беседовали, он время от времени как-то странно поглядывал – то на нас, то на Эмку. Видимо, пытался понять, что может быть общего у официальных представителей нелюбимой им «Литературной газеты» с приходившим к нему когда-то нелепым молодым поэтом, сочинявшим и публично читавшим крамольные стихи и лишь недавно вернувшимся из ссылки.
Задать нам вслух этот вопрос, легко прочитывавшийся в его глазах, он так и не решился. Но, как мне показалось, присутствие Эмки не только не помешало успеху нашей деликатной миссии, но, может быть, даже немало ему способствовало. (Во всяком случае, когда мы с Лазарем нанесли Эренбургу следующий, второй наш официальный визит, он встретил нас уже гораздо теплее.)
Усадив нас прямо перед своим письменным столом, за которым сидел, он слегка откинулся в кресле, и тут я отметил, что кресло это было особое, сделанное, как видно, на заказ: из того же светлого дерева, что и стол, и не только вертящееся, но еще и откидывающееся назад, так что, сидя в нем, можно было покачиваться, как в кресле-качалке.
Мог ли я тогда знать, что годы спустя, когда Ирина после смерти отца перевезет весь его кабинет к себе на Красноармейскую, я, бывая у нее чуть ли не ежедневно, частенько буду сидеть в этом кресле, вот так же, как он сейчас, откидываясь назад и слегка покачиваясь. И мог ли я думать, с любопытством оглядывая знаменитые его трубки (их, правда, было не тринадцать, а гораздо меньше), и старинный дуэльный пистолет, и мраморный барельеф какого-то индийского божка, и какие-то причудливые керамические фигурки, стоявшие на книжных полках, – что все эти поразившие мое воображение предметы я буду не только рассматривать вблизи, но и запросто брать в руки. И так же запросто буду брать в руки стоящие на этих полках книги, среди которых обнаружу не только первые издания «Евгения Онегина» и «Горя от ума», но и подаренные хозяину этого кабинета с самыми нежными дарственными надписями томики Цветаевой, Зощенко, Есенина…
Сидя в тот день напротив покачивавшегося в своем кресле Эренбурга, я обо всем этом, конечно, не думал. Но что этот сидящий сейчас напротив меня старый человек во время оно был «на дружеской ноге» с Маяковским, Есениным, Цветаевой и Пастернаком, конечно, знал. И знание это в моем тогдашнем взгляде на него тоже, конечно, участвовало. Не могло не участвовать.
Наверняка это знание участвовало и в том, что, впервые глядя на живого Эренбурга вблизи, я начисто забыл обо всем, что меня в нем раздражало, что мне в нем не нравилось, что я в нем не любил, не принимал и даже осуждал, глядя на него издали. Какую-то роль тут, конечно, играла и смена ракурса – вот эта самая разница между взглядом с расстояния в два шага и взглядом издали. Но главной причиной этой перемены моего отношения к нему было все-таки другое.
Главной причиной того, что, в отличие от Эренбурга, которого я знал издали, Эренбург, сидящий сейчас напротив меня, мне сразу понравился, был, как ни странно, вот этот самый его кабинет с бестолково громоздящимися вокруг вещами самого разного происхождения и самого разного достоинства.
В тот момент я об этом, конечно, не думал, никак этого не осознавал. Но сразу почувствовал. И именно это чувство было главным – и самым сильным – тогдашним моим впечатлением.
Смысл же этого впечатления состоял примерно в следующем.
В том кабинете были собраны вещи уникальные по своей художественной (да и чисто материальной) ценности. Довольно уже того, что со стен его на нас глядели картины Коро, Шагала, Пикассо, Матисса, Марке, Фалька…
Но вся обстановка этого кабинета, вся царящая в нем атмосфера внятно говорила нам, что ни реальная стоимость этих воистину музейных вещей, ни громкость этих имен не имеет для их обладателя ни малейшей цены. Ценит же он их совсем за другое: за то, что каждая из них связана с каким-то глубоко личным его переживанием, каждая – это какая-то часть его жизни. Яснее ясного тут было видно, что какая-нибудь глиняная свистулька или тряпичная кукла, соседствующая на книжной полке с серебряным пистолетом и мраморным изваянием Будды, дороги ему не меньше, чем этот драгоценный Будда и этот антикварный пистолет. И даже чем изображавший хозяина рисунок Матисса или Пикассо.
В большой гостиной эренбурговской квартиры, минуя которую мы прошли в его кабинет, я обратил внимание на стол и кресла красного дерева, сразу привычно определив: «Александр». (Эту «красную», как тогда говорили, мебель я имел счастье видеть у многих наших соседей по Аэропортовской, и от них же были у меня на слуху эти небрежные – вскользь брошенные тоном знатоков – определения эпох: «Александр», «Павел», «Екатерина».)
В эренбурговском кабинете тоже стояли два-три «красных» стула, и я так же мысленно отметил, что это тоже «Александр». (На один из этих александровских стульев, нимало не смущаясь его благородным происхождением, уселся Эмка, на другом пристроился Лазарь.) Но, в отличие от наших аэропортовских соседей, стремящихся строго блюсти единство ампирного стиля (ни при какой погоде не могла бы у них рядом с «Павлом» или «Александром» оказаться кровать или даже тумбочка из какого-нибудь современного румынского или польского гарнитура), в эренбурговском кабинете эти мебельные аристократы запросто соседствовали с «плебеями».
Эти «плебеи» были, конечно, не совсем плебеями: и стеллажи, и письменный стол, и кресло с откидывающейся спинкой были явно сделаны на заказ. И заказ этот, конечно же, отражал вкус заказчика. Но вкус этот был бесконечно далек от вкусов любителей ампирной мебели. Скорее он выдавал в нем приверженца того конструктивистского стиля, которому молодой Эренбург некогда отдал дань в своей книге «А все-таки она вертится».
Я подумал об этом, когда Илья Григорьевич, увидав, что на троих визитеров стульев не хватает (ожидал-то он двоих!) подошел к стоящей возле книжных полок невысокой лесенке, сделанной из того же светлого дерева, что и стеллажи, – что-то там повернул у нее с исподу (откинул какой-то крючочек), и лесенка разломилась пополам, раскинулась на каких-то невидимых петлях и превратилась в стул, который тут же был предложен мне.
Сиденье этого «стула» было жестким, спинка тоже жесткая и чересчур прямая, так что сидеть на нем было довольно-таки неудобно. Но само превращение лесенки в стул меня восхитило. Эренбург, как мне показалось, тоже относился к этому украшению своего кабинета с особой нежностью. Во всяком случае, проделал он всю эту операцию с явным удовольствием и не без авторского, как мне показалось, тщеславия, так что я даже подумал: уж не сам ли он изобрел эту раскидывающуюся и превращающуюся в стул лесенку.
(Не знаю, часто ли приходилось Илье Григорьевичу демонстрировать своим гостям это хитроумное конструктивное устройство, но я, когда мы собирались у Ирины и сидячих мест не хватало, частенько раскидывал эту лесенку, превращая ее в стул. Даже сам мечтал заказать себе такую же, но мечта, увы, так и осталась мечтою.)
Сейчас я уже не могу точно вспомнить, какие из всех описываемых мною предметов я разглядел именно тогда, а какие при следующих наших посещениях этого кабинета. (Кое-что, может быть, даже и в более поздние времена, когда кабинет располагался уже у Ирины.) Одно могу сказать с достаточной степенью точности: ни Марке, ни Матисс, ни Шагал не были тогда замечены и отмечены мною. Ну, картины и картины. Я и раньше знал, что Эренбург приятельствовал и даже дружил с многими знаменитыми художниками, и они дарили ему свои шедевры. Нет, в картины я тогда особенно не вглядывался. Зато очень хорошо разглядел застекленную и окантованную фотографию, на которой Эренбург, сидя в каком-то плетеном – видимо, дачном – кресле ласкал вставшую на задние лапы и положившую морду к нему на колени лохматую собаку. (Тоже, конечно, тогда знать не знал и думать не думал, что годы спустя с этой вот самой собакой – рыжей Ирининой Чукой – чуть ли не каждый вечер буду гулять по нашей Аэропортовской.)
Мягкая, добрая улыбка, с какой Эренбург на фотографии ласкал тянущуюся к нему собаку, еще больше расположила меня к сидящему напротив живому Эренбургу, которого так близко я видел впервые.
И хотя этот живой Эренбург за все время нашего визита ни разу не одарил нас этой доброй, ласковой улыбкой (такая улыбка у него, видимо, предназначалась только для собак), понравился он мне не меньше, чем Эренбург на фотографии.
Положив руку на лежащую перед ним рукопись (это была только что законченная им первая книга его мемуаров, стало быть, время этого первого нашего визита можно датировать довольно точно: это был апрель или май 1960-го), он говорил:
– Эту книгу я хотел бы напечатать целиком. Кроме одной главы – о Троцком. Глава о Троцком пойдет в архив. Я сам не хочу ее сейчас печатать.
И на наш немой вопрос:
– Я встретился с ним в Вене, в 1909 году. И очень он мне тогда не понравился.
– Чем? – не выдержал кто-то из нас.
– Авторитарностью… Отношением к искусству… Может быть, даже из-за этой встречи я решил тогда отойти от партии, от партийной работы… Я не хочу сейчас печатать эту главу, потому что это мое отрицательное отношение к Троцкому может быть ложно истолковано…
Мы покивали в том смысле, что да, конечно, если сейчас он напечатает эту главу, его отрицательное отношение к Троцкому, конечно же, будет истолковано ложно.
– А вот главу о Бухарине, – продолжал И. Г., – я бы хотел напечатать.
И, глядя на Лазаря (понял, небось, что он – самый ответственный человек в нашей компании), спросил:
– Как вы думаете? Напечатают?
Лазарь, не ожидавший такого вопроса (вернее, не ожидавший, что Эренбург, куда лучше, чем мы – так, во всяком случае, нам тогда казалось – знавший, куда дует политический ветер, станет спрашивать об этом у нас), ответил осторожно.
– Одно во всяком случае для меня ясно, – сказал он. – Решить это может только Хрущев.
– А что, – вмешался Эмка. – Хрущев, наверное, к Бухарину относится хорошо.
– Вы думаете? – повернулся к нему Эренбург.
Эмка подтвердил, что да, он почти уверен, что Хрущев в глубине души симпатизирует Бухарину.
– Ну, мне он это просто говорил, – пожевав губами, сказал Эренбург.
Реплика эта только подтвердила нашу уверенность, что для него не составит труда как-нибудь при случае выяснить этот вопрос (как и любой другой) непосредственно с самим Хрущевым. Но почему же тогда он интересуется мнением на этот счет таких, мягко говоря, не шибко влиятельных особ, как мы?
Прочитав этот немой вопрос на наших лицах, Эренбург тут же рассказал нам о читательских письмах, которые он получает во множестве. Чуть ли не все они начинаются словами: «Неужели вы не можете сказать Никите Сергеевичу…»
Рассказав это, он раздраженно проворчал:
– Они там думают, что я с Никитой Сергеевичем каждый день чай пью.
Дав нам таким образом понять, что, несмотря на доброе отношение Хрущева к Бухарину, о котором ему известно непосредственно от самого Никиты Сергеевича, он все-таки не уверен, что бухаринскую главу напечатать ему удастся, он заключил:
– Во всяком случае эту книгу, – он сделал ударение на слове «эту», – если не считать главу о Троцком, я писал для печати. А вот вторая книга, над которой я сейчас работаю… С ней будет сложнее. Из нее, дай Бог, чтобы мне удалось напечатать две трети. А треть пойдет в архив…
Он помолчал, пожевал губами и продолжал, обращаясь, кажется, уже не к нам, а словно бы разговаривая сам с собою:
– С третьей книгой будет еще сложнее. Из нее только треть будет напечатана. А две трети пойдут в архив… Ну, а что касается четвертой и пятой книг, то они, я думаю, целиком пойдут в архив…
«Вот молодчина!» – думал я, слушая его монолог, за точность которого (смысловую, во всяком случае) ручаюсь. «Старик» с каждой минутой нравился мне все больше и больше. «Значит, он все-таки решился на это!» – ликовал я. – «Ну наконец-то!»
Это мое ликование было связано с давним моим убеждением, что рано или поздно именно он, Эренбург, напишет «Былое и думы» XX века. Кто же еще, если не он? Больше некому!
Никто из писателей его поколения не был так приспособлен к осуществлению этого «социального заказа», как он. И биографией, и человеческой своей судьбой, и самой природой его писательского дарования.
Так во всяком случае мне тогда казалось. И именно этим и объяснялось то восторженное состояние, в какое привел меня рассказ Эренбурга о том, как он представляет себе судьбу своих будущих мемуаров. Однако это мое радостное «Вот молодчина!» имело еще и другой, более важный для меня смысл.
Когда в печати впервые промелькнуло упоминание о том, что Эренбург пишет мемуары, я испытал чувство радостного удовлетворения: «Наконец-то!». Уже тогда я подумал, что, быть может, впервые в жизни Эренбург решил отойти от недолговечной злобы дня и начать работать, выражаясь высокопарно, для вечности. Во всяком случае, для будущего.
И вот теперь, этим своим признанием (шутка ли: большая часть того, о чем он собирается писать, заранее предназначена не для печати, а для архива!) он подтверждал: да, он выполнит то, чего я от него ждал, на что втайне надеялся.
Помню, я даже подумал: а где, интересно, будет он хранить этот свой архив? И тут же решил: где-нибудь за границей. Скорее всего – в Париже.
Господи! Как же я был наивен!
Когда после смерти Ильи Григорьевича Ирина стала разбирать его архив, оказалось, что публиковать-то, в сущности, уже нечего.
Он написал не пять книг, как объявил тогда, делясь с нами своими планами, а – шесть. И все шесть были напечатаны при его жизни. Смерть оборвала его работу над седьмой книгой, в которой, как оказалось, были только три труднопроходимые главы (именно их он, судя по всему, предназначал для архива): глава о Сталине, глава о венгерских событиях 1956 года и глава о евреях.
Твардовский, прочитав эту неоконченную седьмую книгу, сказал, что готов ее опубликовать, но, конечно, – без этих трех глав: для них, мол, время еще не пришло. Еще до Ирины вдова Ильи Григорьевича Любовь Михайловна отказала Твардовскому, сказав, что без этих глав печатать седьмую книгу не стоит. Когда проблема эта встала перед Ириной, она, прежде чем принять окончательное решение, советовалась со мной. И, разумеется, дала мне прочесть всю рукопись, включая и те главы, которые Твардовский публиковать не решался.
Прочитав всё это, я согласился: да, конечно, Любовь Михайловна была права, без этих трех глав печатать седьмую книгу, конечно, не стоит. Но при этом – в более или менее тактичной форме – дал ей понять, что и с этими крамольными главами, если бы Твардовский решился их напечатать, седьмая книга выглядела бы довольно жалко. А про себя даже подумал, что с ними она, пожалуй, выглядела бы даже более жалко, чем без них: такие были они робкие, беспомощные. Сказать о них, что это была полуправда, значило бы сделать автору совершенно им не заслуженный комплимент. Это была даже не четверть правды и даже не одна восьмая. И то обстоятельство, что официальная советская точка зрения продолжала стоять на том, что дважды два – шестьдесят четыре, а Эренбург посмел доказывать, что не шестьдесят четыре, а, скажем, шестнадцать – дела не меняло: ведь читатель (во всяком случае, ЕГО читатель) уже знал, что дважды два четыре!
Что же, выходит, он врал? Просто морочил нам голову, когда говорил, что большая часть того, что он напишет, пойдет в архив? Или – скажу мягче – слегка кокетничал перед нами, давая понять, что существенная часть задуманной им книги будет содержать некую информацию, о которой нечего даже и думать, что в сколько-нибудь обозримом будущем это может быть напечатано?
Или (самое вероятное предположение) по ходу дела, в процессе писания изменил свои первоначальные планы?
В одном я во всяком случае уверен: говоря нам, что ему удастся опубликовать лишь малую часть того, что он собирается написать, он был искренен.
Вышло иначе.
Отчасти потому, что ему шло навстречу время. Ведь первую книгу он закончил еще до того, как Сталина вынесли из Мавзолея. Многое из того, о чем в 1959-м или 60-м нельзя было даже и мечтать, в 1962-м или 63-м стало возможным.
Тут, кстати, не мешает отметить, что немало этому способствовал и он сам, впервые прикасаясь ко всякого рода запретным темам и с огромным трудом добиваясь, чтобы они перестали быть запретными. Мемуары Эренбурга не просто вписывались в социальную атмосферу тех лет, приспосабливаясь к ней. Они самим фактом своего существования меняли эту атмосферу, «поднимая планку» общепринятых представлений и «дозволенных» сюжетов и тем. Его критиковали, с ним спорили, его даже одергивали, иногда весьма грубо. Но, как бы то ни было, тема, к которой вчера еще нельзя было даже прикоснуться, становилась предметом спора, обсуждения, пусть даже эти споры и обсуждения, в соответствии с тогдашними советскими нравами, принимали, как правило, вполне дикую форму.
* * *
Первый раз – вживе – я увидал Эренбурга году в 48-м или в 49-м. Он приехал к нам в институт и три вечера подряд рассказывал нам о тайнах писательского ремесла.
Встретили его нельзя сказать, чтобы восторженно: мы ведь были избалованы постоянным общением с живыми классиками, каждую неделю встречались с Фединым, Паустовским.
Но с Эренбургом они все-таки равняться не могли. Он был живой легендой. Война кончилась совсем недавно. А тогда, в войну, как написал об Эренбурге в одной своей статье Вениамин Каверин, «на весь мир раздавался стук его пишущей машинки».
В общем, его приезд был для нас событием. И слушали его, что называется, разинув рот. Но на исходе третьего вечера произошел такой небольшой казус.
Сказав, что, описывая гибель своего героя, писатель как бы примеряет свою собственную смерть, Эренбург припомнил хрестоматийную историю про Бальзака.
– Однажды к Бальзаку, – рассказывал он, – пришел его приятель. Он увидел писателя сползавшим с кресла. Пульс был слабый и неровный. «Скорее за доктором! – закричал приятель. – Господин Бальзак умирает!» От крика Бальзак очнулся и сказал: «Ты ничего не понимаешь. Только что умер отец Горио…»
И тут в зале засмеялись.
Не стану утверждать, что гоготал весь зал, но это не был смех двух-трех белых ворон. Смеялись многие, могло даже показаться, что все.
Эренбург побелел. У него задрожали губы. Видно было, что этот смех ударил его в самое сердце. Он воспринял его как личное, смертельное оскорбление, ответить на которое можно было только пощечиной. И он ответил.
– Вы смеетесь? – с презрением кинул он в зал. – Значит, вы не писатели!
О, – подумал я тогда. – Он и в самом деле поэт!
В нашем кругу принято было в слегка издевательском тоне говорить, что Эренбург – этот блестящий публицист и довольно посредственный романист – сам считает себя прежде всего поэтом. Впрочем, некоторые признанные наши литинститутские поэты помнили и одобрительно цитировали некоторые эренбурговские стихотворные строчки.
Но подумав, что Эренбург, оказывается, и в самом деле поэт, я имел в виду совсем другое. Уж очень подлинной, искренней, какой-то совсем детской была его обида на тех, кто встретил смехом его рассказ о Бальзаке, едва не отдавшем концы из-за смерти своего героя.
Вот с этого момента я и поверил Эренбургу. Поверил, что он не лжет, не притворяется.








