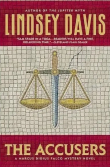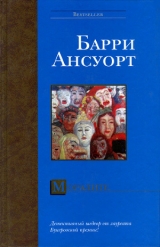
Текст книги "Моралите"
Автор книги: Барри Ансуорт
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 12 страниц)
Глава шестая
Это мое первое выступление как комедианта, чувствовал я, было очень успешным. Но, присоединившись к остальным, я постарался скрыть свою радость, потому что они были в угрюмом настроении. Маргарет было поручено сторожить у ворот и собирать деньги. Собрала она шиллинг и одиннадцать пенсов, из которых содержатель гостиницы забрал три пенса и три фартинга. Наем сарая обошелся в пять пенсов. Нашего торжественного въезда в город повозка не выдержала: одно колесо искривилось и требовало починки. Тобиасу она была не под силу, и он Полагал, что заплатить за нее потребуется три пенса, не меньше. И чтобы добавить к общему кошельку, нам останется меньше шиллинга. А нас ведь было шестеро и еще коняга. А к Рождеству нас обещали в Дареме.
Вечер был ясный и очень холодный. Булыжники во дворе уже покрылись инеем, и там, куда падал свет, они блестели, как атласные. Мартин дал каждому из нас по два пенса. Прыгун достал жаровню и развел огонь, подкладывая хворост, который мы привезли с собой. Соломинка сидел рядом с жаровней, скорчившись под одеялом. Тобиас остался в одеянии Сатаны и сидел с псом поперек колен. Никто не упоминал про Брендана. Получив деньги, Маргарет и Стивен ушли вместе.
Мы поговорили о представлении. Соломинка, всегда ценивший себя невысоко, приписал малочисленность зрителей себе и начал подыскивать других виновников. Тоскливо обхватив колени, он высказал мнение, что Бог был чересчур многословен, а Сатана слишком гладок на язык.
– Слишком мало было движений, – сказал он. – А люди не могут сидеть и только слушать так долго.
– Слушать они могут, когда есть что слушать, – сказал Тобиас, рассерженный таким порицанием его игры. – Ты хочешь, чтобы все выражалось в жестах, – сказал он, – но Игру делают слова и жесты вместе. И сегодня вина была никак не наша. Просто жонглеры отобрали у нас зрителей.
– Еву можно играть без слов, – сказал Прыгун, который сел рядом с Соломинкой, укрывшись тем же одеялом. – Я так и делал.
– Еву – да, – сказал Мартин. – И Адама тоже. Они не персонажи, а просто мужчина и женщина. Но Богу и Дьяволу слова необходимы. – В свете факела лицо его выглядело изнуренным и голодным. Высокие скулы и узкие глаза придавали ему сходство с волком, и то, как он наклонялся вперед и горбился от холода, усиливало это впечатление. Меня поразили его одиночество и суровость, столь неразделимо смешавшиеся в нем. Бремя нашей неудачи лежало на нем, и все же он намеревался поправить нас, объяснить, что он имеет в виду.
– Бог и Дьявол – персонажи, – сказал он. – Бог – судья, а Сатана – адвокат. Для того чтобы судить и доказывать, нужны разные манеры говорить. В этом различии заключается истинное представление, если найдется кто-то, кто напишет истинные слова.
– Да, конечно, тут есть смысл, – сказал Соломинка, чье мнение управлялось его чувствами и изменялось столь же быстро, как они.
Глаза Прыгуна, едва он ощутил первый жар огня, начали смыкаться. Усталость разгладила его худое лицо.
– Что могут сделать слова? – сказал он. – Бог и Дьявол оба знают, как кончится история. – Он говорил медленно, будто сонный ребенок. – И люди тоже это знают, – сказал он.
– Они знают, как кончится история, – повторил Мартин – тоже медленно, будто в насмешку, как могло показаться сначала, но его глаза были неподвижны, а на лице появилось полуудивленное выражение, будто ему что-то стало ясно.
Он собирался сказать еще что-то, но я не стал ждать, слишком возмутило меня то, что говорил он о нашем Отце Небесном как о существе, поддающемся описанию, тем более что я следую Уильяму из Оккама, великому францисканцу, веруя, что Бог непостижим для нашего разума, пребывая в абсолютной свободе и всемогуществе.
– Никакие слова не могут приблизить нас к природе Бога, – сказал я. – Наш язык – язык человеческий, и мы создаем правила для него. Грех гордыни полагать, будто наш человеческий язык может привести нас к познанию Творца. И говорить о Боге, как говорил ты, значит нарушать седьмую заповедь.
Странное оживленное выражение теперь исчезло с его лица. Он поглядел на меня с жалостью к моему пониманию.
– Мы говорим об Играх, брат, – сказал он. – И первой сделала Бога комедиантом Святая Церковь. Священники играли Его перед алтарем и играют по сей день, как они играют и Христа, и Его Пресвятую Матерь, а также и других святых, дабы способствовать нашему пониманию. Как комедиант Он может иметь собственный голос, но Он не может пользоваться чужими голосами. У Отца Лжи положение тут лучше, он может заимствовать язык Змия.
– Кощунственно говорить о Боге так, будто он всего лишь голос среди других голосов.
Увидев, как я угнетен, он улыбнулся, но без насмешки. Его улыбка была ленивой, медлительной, противоречащей напряженности его лица в покое.
– Так или иначе, но мы должны видеть Его, раз вводим Его в Игру, – сказал он. – Так увидим же Его как могущественного вельможу, хозяина обширных владений. Адам и Ева – его крепостные, обязанные ему службой. Они не платят оброка покорности, они хотят сами владеть своим наделом. Если он дарует им все, о чем они просят, то карать будет не за что, и что тогда останется от его власти?
Еще того хуже! И я уже приподнялся, чтобы встать, но он снова улыбнулся, поднял правую ладонь жестом Бога, призывающего к молчанию, и сказал:
– Сегодня ты играл удачно, Никлас, особенно для первого раза. Упал ты в конце неуклюже, но обратить к Сатане его собственные слова было смелым замыслом, и жесты ты делал четко, и бегал вокруг него ловко. Мы все это чувствовали.
Такие слова заставили меня забыть про спор и преисполнили мое сердце радостью. И дороже самой похвалы было для меня доказательство, что он внимательно следил за мной, замечал все, что я делал и как. Мартин умел заставить себя любить богохульствам вопреки. А сам он не чувствовал себя богохульником, то есть когда он говорил об Игре. Для него жизнь Игры лежала вне окружающей жизни, имела собственные законы поведения и речи, которым подчинялись все – сильные и слабые, высокого положения и низкого. Тогда я не увидел опасности этого, Бог да простит мне мое безумие.
Между нами воцарилось молчание, и мы расслабились в тепле, веявшем от огня. Я думал про нашу Игру об Адаме и о том Саде, которого наши прародители лишились, подстрекаемые Сатаной. В отличие от многих я знаю, где он расположен. В библиотеке Линкольнского собора, где я служил в сане младшего диакона, есть карта, на которой указано его место – на самом краю ее восточного предела, где высочайшая гора укрыла его от остального мира. Бог все еще сохраняет его и иногда гуляет там по вечерам. Пока же Сад пустует в ожидании, чтобы святые вновь стали его владыками. Я думал: как странно, что подобный сад пустует, и как восхитительно было бы в обществе Блаженных душ прогуливаться между кущами из яшмы и хрусталя, среди рощ, где произрастают всевозможные деревья и цветы, и птицы поют, не зная усталости, где льются тысячи благоуханий, никогда не рассеивающихся, и ручьи струятся по драгоценным камням и песку, сверкающему ярче серебра. Туда не проникают холод, ветер или дождь. Там нет ни печали, ни болезни, ни тления. Сама Смерть не может преодолеть эту высокую гору. Вот что мы изобразили во дворе гостиницы с помощью выпиленного из доски дерева с бумажным яблоком, выкрашенным красной краской, и на краткий миг люди поверили, будто это Рай. Я слышал, гора, его загораживающая, так высока, что касается сферы луны, но в это трудно поверить, ведь тогда бы она вызывала затмения…
Я уже почти засыпал, когда Мартин встал, подошел ко мне и попросил меня прогуляться с ним. Он сказал это тихо, не для остальных. Я сразу же вскочил.
– После Игры я не могу сидеть спокойно или оставаться на одном месте, – сказал он, когда мы пошли через двор. – Слишком уж она занимает меня в уме, оставляя тело в покое, но ум тянет тело за собой. Это труд, не похожий на черную работу, после которой члены тяжелеют и приходит сон, если только ты не таков, как бедняга Прыгун, чьи страхи не гасят лихой смелости, – ему же только пятнадцать, и он еще растет. А сегодня мне тяжко, даже хуже обычного из-за денег.
Так мы шли по улицам города. Людей там теперь было мало. Грязь затвердевала от холода. Ночь была черная, без единой звезды – от недавней ясности неба не осталось и следа. Мы несли фонарь на палке, и только его пляшущий свет позволял нам видеть хоть что-то.
Я чуял в воздухе снег, чувствовал, как во мраке громоздятся снежные тучи, делая ночь еще непрогляднее. Мы дошли до маленькой харчевни – одна жалкая комната со скамьями и камышовыми циновками на утоптанном земляном полу. Свет был скудным, от дыма защипало глаза, но в очаге пылал огонь, и возле нашлись места.
Мы пили жидкий эль и ели соленую рыбу – ничего другого там не нашлось. Мартин вначале молчал, уставившись на огонь. А когда заговорил, то снова о комедиантстве и тихим голосом, чтобы другие его не услышали – все, что было связано с его ремеслом, он оберегал очень ревниво.
– Мой отец был комедиантом, – сказал он. – И умер от чумы, когда мне было столько же лет, сколько теперь Прыгуну. Когда мы представляли в городах, посмотреть нас стекалось много народа. А теперь полдесятка жонглеров и пляшущий медведь переманивают половину зрителей. Нас всего шестеро. В Дареме перед родичем нашей госпожи мы можем показать Игру об Адаме и Игру о Рождении Христа, потому что их уже приготовили. Если найдется время на подготовку, мы также сможем показать Игру о Ное, Гневе Ирода и Сне жены Пилата.
Он мрачно поднял глаза и встретил мой взгляд.
– Нас всего шестеро, – повторил он. – Что могут шестеро? Все, что мы имеем, умещается в задней части повозки. А теперь гильдии все чаще и чаще устраивают многодневные представления. От Шотландии до Корнуолла, повсюду, где люди живут вместе в большом числе. В Векфилде или в Йорке они устраивают по двадцать представлений, начиная от Падения Люцифера до Судного дня, и на это у них уходит неделя. В их распоряжении богатство гильдии, и они не считают расходы, ибо это добавляет славы их городу. Как нам тягаться с ними?
Глаза у него расширились. Он говорил с чувством, но выражение его лица оставалось смутным, будто источником его чувства не были произносимые им слова.
– Мы не можем тягаться с ними, – сказал он. – В Ковентри я видел Христа, восстающего из гроба с помощью блоков и возносящегося на Небеса, где облака висели на невидимых глазу веревках. Я видел обезглавливание Крестителя, когда комедианта подменили на чучело с помощью люка и игры света, и так искусно это было сделано, что зрители ничего не заметили и закричали от ужаса, увидев безголовый труп. И вот тогда я понял – когда услышал, как они кричат при виде пучка соломы, облитой бычьей кровью. Завершился день бедных комедиантов, которые странствуют с Мистериями и Моралите. Мы трудились, делали все что могли, и мы искусны в своем деле, и вот сидим здесь и пьем затхлое пиво. Отсюда и до Дарема утолять голод нам придется только затирухой из желудей с нашими соплями вместо соуса, разве что Тобиас поймает в свой силок кролика, но в такую морозную погоду это нелегко. Нет, брат, мы должны найти что-то еще. Остальные ждут этого от меня. Я старшой труппы.
Он тяжело кивнул и снова посмотрел на меня, но теперь его взгляд посветлел.
– Прыгун сказал дело, пусть он и спал, когда говорил, – продолжал он. – История Падения – старая история, люди знают, как она кончается. Ну а если бы история была новой?
– Новая история про наших праотцов в Раю?
– Это убийство, про которое ты говорил, – сказал он. – По дороге к священнику мы кое-что о нем узнали.
Мне ниспослан дар предвидения, как я сказал, начиная это повествование. Иногда мы не знаем, чего ожидаем, пока ожидаемое не сбывается. И вот оно сбылось теперь с этими его словами, которые должны были бы удивить меня, но не удивили. Я ощутил первый страх там, в этой убогой харчевне, когда увидел свет на его лице, свет безрассудной смелости.
– Конюх в гостинице говорил про него, – сказал я. – Вот не думал, что ты станешь слушать такие сплетни.
– Да нет, – сказал он. – Наше ремесло в том и состоит, чтобы подмечать все. Говорили между собой одни женщины. Протяжными голосами, как бывает, когда женщины согласны, обсуждая что-то скверное, и довольны своим согласием. – Он широко открыл глаза, опустил вниз уголки рта и, говоря почти шепотом, изобразил этот женский разговор. – Да-а-а, она всегда была такой скромницей, кто бы мог подумать про нее такое, на мужчин даже не смотрела… Так, соседушки, какой мужчина захотел бы взять ее за себя? – Он умолк и посмотрел на меня очень серьезно. – Все их голоса были одинаковыми, – сказал он. – Будто хор. Почему никто не захотел бы взять ее за себя?
– Когда она совершила подобное…
– Нет, – сказал он. – Они говорили о времени до убийства. Может быть, она уродлива, может быть, она колдунья.
Я не хотел говорить об этом, но его воля была сильнее моей и подавила мою – и тогда, и позже. Его желание, свет интереса в его лице понудили меня. Я подкормил его интерес кусочками, которые он дал мне сам.
– Деньги нашел духовник лорда, – сказал я. – Нашел их у нее в доме.
– Не в ее доме, а в доме ее отца, – сказал он. – Она молода, не замужем. У нее нет дома.
– Откуда ты знаешь? – спросил я его и увидел, как он слегка пожал плечами. Во дворе стоял сильный запах нужника. Ночные уборщики нечистот еще не побывали тут. Меня теперь томила усталость, и я исполнился страха, хотя и не знал, что меня страшило. Внезапно мне вспомнилось лицо конюха, когда он повернулся из тени на свет.
– Я поговорил с женщиной священника, пока ждал, – сказал Мартин. – Тобиас остался снаружи, потому что с ним был его любимый барбос.
– Ты расспросил ее?
– Да, задал вопрос-другой.
Я выждал, но он ничего не добавил. И даже тогда я не унялся.
– И все-таки, – сказал я, – очень странно, очень необычно, что женщина без чьей-нибудь помощи могла вот так убить мужчину.
– Как – так? Мы ведь не знаем, как он был убит.
– Я про то, что он был убит на проезжей дороге. Женщина может убить мужчину из злобы или из ревности, выбрав время, когда он не будет настороже.
– Это же был не мужчина, а мальчик двенадцати лет.
На это у меня не нашлось ответа. Значит, Томас Уэллс был почти ребенок. Разрешение мелких недоразумений не уменьшает злодейства. Женщине нетрудно убить ребенка, да… Женщине священника он задал не просто вопрос-другой, понял я.
Теперь он улыбнулся и заговорил со мной знаками, что делал часто и всегда без предупреждения, чтобы я поупражнялся. Он сделал змеиный знак тонзуры и брюха, обозначив монаха; затем быстрые рубящие движения, рисующие крышу и стены; затем знак настоятельного вопроса: большой, указательный и средний пальцы левой руки сложены в щепоть, и рука быстро качается взад-вперед под подбородком – знак, очень похожий на обозначающий еду, но только в этом случае большой палец наложен сверху, локоть выставлен, а движения более медленные.
Как Монах оказался в доме?
Он ждал, прижав руку к затылку, настаивая на ответе. Стыжусь сказать, но истина понуждает меня, что я наклонил голову вперед, выражая нетерпеливость, и постарался как мог лучше изобразить блуд торопливыми движениями языка, хотя и не сумел достичь лихорадочной быстроты Соломинки.
Мартин засмеялся, глядя на меня. Он, казалось, был теперь в превосходном настроении.
– Но она на мужчин даже не смотрела, – сказал он, – если верить нашим почтенным горожанкам. – И он сжал губы и провел правой ладонью по щеке в знак стыдливого румянца, а затем обеими руками словно плотнее закутался в шаль, как Целомудренность в Моралите.
Вот и все, что мы сказали в тот вечер об этом деле. И потому что под конец он засмеялся и не поскупился на шутку, мой страх был погребен. Необузданность, которую я почувствовал в нем, готовность преступить заповеди – им я нашел сносные объяснения. Он был удручен неудачей нашего представления, его угнетала наша бедность. Вот так я старался успокоить себя. Я все еще недостаточно знал его, не знал, что все в нем было серьезно. Быть может, потому-то он в тот вечер и позвал погулять с ним меня, кому его натура еще не была достаточно знакома, с кем он мог поговорить, не выдав своего намерения. Теперь я уверен, что намерение это уже созрело в нем.
Я знаю это, ибо теперь узнал Мартина получше, а тогда я ничего и заподозрить не мог. Но дурное предчувствие не исчезало. С помощью памяти не так уж трудно изложить события в должном порядке. Но ужас, овладевающий натурами вроде моей, проследить непросто. Он пробуждается толчками вперед-назад, он лепится к новому. Страх, который я испытал в харчевне перед властью человеческого желания, властью ради зла или добра, я и сейчас его чувствую. Природа власти всегда одна, пусть она и носит разные личины. Личины безвластия тоже разнообразны. Я помню, что было сказано между нами в тот вечер, и смену выражений на его худом лице. Он уже совершил то, что всегда совершал с пугающей легкостью: он перешел от мысли к намерению, к стратегии, будто их не разделяла никакая завеса, даже легкий полог тумана.
Глава седьмая
Брендана в последний путь проводили мы все, даже пес, которого Тобиас держал рядом с собой на короткой изгрызенной веревке. Я было подумал не ходить, ведь мы должны будем обнажить головы, а моя вихрастая тонзура все еще обличала мою другую жизнь. Выход нашла Маргарет, и очень простой, хотя никто из нас о нем не подумал в привычной уверенности, что мне всегда следует чем-нибудь прикрывать голову.
– Мы его обреем, – сказала она своим обычным бесцветным голосом, почти не открывая рта, так что слова сливались в бормотание, не изменяя складок на ее лице. Маргарет натерпелась нужды, унижений своего тела и теперь не желала отдавать миру ничего сверх самого необходимого. Однако руки у нее были ловкими и ласковыми, как я уже знал по тому, как она прибирала беднягу Брендана. С помощью бритвы Стивена и воды из колодца во дворе я был обрит без единой царапины.
– А если кто спросит почему, мы скажем, по причине лишая, – сказал Прыгун. Робкая и мирная душа, он всегда придумывал причины и оправдания, и он знал, что такой ответ надежен, ибо в детстве сам страдал этим недугом и цирюльник обрил ему голову.
Церковь стояла на склоне холма, и из кладбища мы могли видеть ту сторону лесистой долины, по которой струилась река, и голые холмы за ней в отблесках морского света – земля за ними круто спускалась к морю. Это был край невысоких холмов и широких долин. Деревья теперь стояли голые, не считая упрямой рыжины дубов. Склоны в папоротниках над рекой были цвета ржавчины. Везде полная неподвижность – день был безветренным. Небо над головой темнело, набухшее снегом.
Последним одеянием Брендану служил саван нищего. Гроба не было. Мы смотрели, как Мартин со Стивеном опустили его в землю ожидать там Судного дня, до которого теперь, наверное, уже совсем близко. Наше упование и моление за Брендана было тем же, что и за нас самих: хотя его бренное тело стало добычей тления, да будет он вновь облечен сиянием, когда могилы отдадут своих мертвецов.
Ночной иней теперь стаял с концов травинок, и они отливали темной зеленью. Кладбище хранило отметку высокого прилива смерти – земляной вал, под которым в общей могиле покоились жертвы летней чумы. В эти северные края Черная смерть вернулась после затишья в двенадцать лет. Смерть никогда не насыщается. Теперь на каждом кладбище видно, как этот прилив неторопливо накатывается на зелень. У стены апсиды, там, где трава была укрыта от непогоды и потому не тронута инеем, паслись четыре овцы священника. За чумным валом виднелась единственная свежая могила, маленькая могилка ребенка с просмоленным крестом. И за ним я увидел, как над деревьями долины взлетела цапля на тяжелых крыльях. Священник торопливо прогнусавил последнее благословение, и тут пошел снег, большие мягкие хлопья, которые замирали в неподвижном воздухе и скользили вбок, будто примеривались, как упасть, чтобы не рассыпаться. И священник тут же зашагал назад в церковь с неподобающей поспешностью. Свои деньги он уже получил в ризнице. И оставалось только поглядеть, как под уже густо валящим снегом земля с лопаты начала засыпать Брендана, а потом пойти назад в гостиницу.
Но Мартин не пошел с нами, а остался позади, и я увидел, как он приблизился к могильщику и заговорил с ним. Когда мы свернули на дорожку, которая вела через кладбище к церковной калитке, я отстал от остальных, пересек заиндевелую траву, вал чумной могилы и вышел к могилке. Земля была свежевскопанной. Имени на кресте не было, слишком мало прошло времени, чтобы успеть вырезать буквы. Когда, сказал конюх, его нашли? «Позавчера утром». Торопливое правосудие в этом городе, как сказал Соломинка. И торопливое погребение жертвы. Но, может быть, это все-таки была могила кого-то другого?
Я стоял и смотрел, как снег запорашивает могилку, и впал в состояние ума, знакомое книжникам: одновременно и внимательное, и рассеянное, которое наступает, когда текст неясен или испорчен. Чаще всего – когда, не вопрошая, ждешь, чтобы истинный смысл мысли автора стал постижим без твоих усилий. Неуверенно, осторожно, как падали первые хлопья.
Я пребывал в этом состоянии и когда нагнал остальных. Мы остановились у калитки и, поджидая Мартина, укрылись под аркой над ней. Я стоял чуть в стороне, почти снаружи. Без всякой причины я шагнул вперед и посмотрел на дорогу в направлении города. Снежные хлопья сливались в завесу, и в первое мгновение я видел только ее, а во второе – за ней возникли темные силуэты, медленно движущиеся вверх по склону: два всадника, а с ними огромный черный зверь, чья голова поднималась над ними, и глаза у него были красные, а поверх головы вместе с ним двигалось нечто багровое, темно-багровое в белизне снега, и я понял, что это пламя дыхания Зверя, и я понял, какой это Зверь и кто эти всадники, и я сотворил крестное знамение и громко застонал от ужаса, увидя, что Зверь грядет, а моя душа не готова.
Услышав мои стоны, остальные подошли ко мне, посмотрели, но что они сказали и сказали ли они что-нибудь, я не знаю и по сей день; я только увидел, как Прыгун упал на колени, а мгновение спустя и Стивен. У меня самого ноги подгибались, но я устоял, борясь по мере сил с муками ужаса, ибо Христос сказал, что смерть вторая не имеет власти над Побеждающим, он войдет в Новый Иерусалим. И еще я знал, что свидетели в Откровении, обезглавленные Зверем из Бездны, потом ожили и вознеслись на Небеса. Но они блюли веру, а я-то нет.
Они приближались ровным шагом, и все мое мужество уходило на то, чтобы не спускать с них глаз и молиться об избавлении от зла. Но с «Отче наш» на устах я увидел, что плывущее багровое нечто находилось над головой первого всадника и неизменно оставалось над ней: будто полог или балдахин. Затем я услышал голос Тобиаса, говорящего, что это рыцарь с оруженосцем, ведущим в поводу боевого коня, и я увидел, как Стивен поспешно поднялся на ноги и помог подняться Прыгуну, будто с самого начала встал на колени только для этого.
Тобиас не ошибся. За глаза я принял красные шоры, мешавшие скакуну озираться по сторонам. А затем я увидел, что к его боку подвешено длинное турнирное копье, торчащее спереди и сзади. Над головой первого всадника был полог из красной ткани, возможно, шелка, очень тонкий – тусклый свет просачивался сквозь него и падал на бледное лицо всадника. Ехал он на вороном жеребце, который вскидывал голову и фыркал от холодного прикосновения снежных хлопьев. Второй следовал за ним, опустив голову, так что перо его шляпы падало ему на лоб, но когда они приблизились, я узнал в нем оруженосца, который в гостинице накануне вечером помогал заводить вороного в стойло – этого самого беспокойного жеребца. Он ехал на серой кобыле и вел боевого коня на короткой веревке, а конь этот был огромный, тот, на которого жаловался конюх, и тоже вороной. Щит был приторочен к седлу, и я снова увидел герб со свернувшейся змеей и с голубыми и серебряными полосами. Но поистине странным в этом рыцаре был квадрат шелка над его головой, который я счел огненным дыханием и который меня напугал так, что мое сердце все еще стучало о ребра. Видимо, это была его собственная выдумка: шелк был натянут между четырьмя палками, прикрепленными к сбруе, – две спереди, две сзади, а передний край свисал бахромой, неплохо защищая его лицо от снежных хлопьев. Шелк намок и потемнел, он отбрасывал красноватую тень, а рыцарь сидел на коне совершенно прямо, пышно одетый, словно в гости – в красный бархатный шапелен и в модное нынче красное сюрко без рукавов и открытое спереди, чтобы была видна его белая туника с высоким воротником. Он был молод, и лицо под нарядным шапеленом было спокойно. От левого виска до подбородка тянулся шрам. Когда он поравнялся с нами, его взгляд коротко и невозмутимо скользнул по нашим лицам, и мы потупили головы. Затем они оставили нас позади, все тем же ровным шагом поднимаясь вверх по склону. Я вышел на дорогу и смотрел им вслед, а на глаза мне ложились холодные хлопья. Где-то вверху курился дым. Мне показалось, что я различаю зубцы донжона, но падающий снег и дым мешали разглядеть что-нибудь как следует. Рыцарь и оруженосец слились с завесой снега и дыма, скрылись в ней от моих глаз. Люди по-разному справляются со страхом. Я попытался скрыть свой за словами.
– Они едут в замок, – сказал я. – Шестидневный турнир, так я слышал в гостинице. Он будет продолжаться до Дня святого Стефана. Я еще никогда не видел, чтобы рыцарь ездил под пологом.
– И я не видел, – сказал Тобиас и сплюнул на дорогу. – Он боится, как бы снег не попортил его шапелен. У них вся жизнь в том, чтобы выставлять напоказ свои наряды и доспехи.
Соломинка засмеялся тем странным смехом, который всегда звучал как рыдание.
– А наша нет? – сказал он. – Они такие же, как мы, странствующие комедианты. – Он тоже перепугался, я понял это по его облегченному смеху. – Все, что им требуется, они возят с собой, совсем как мы, – сказал он.
Из нас всех только Прыгун признался, что ему было страшно. Возможно, потому что страх всегда был его близким товарищем.
– Я сначала думал, это грядет Антихрист, – сказал он. – И уж лучше я буду комедиантом, буду заставлять людей смеяться, чем шляться туда-сюда и вышибать других людей из их седел.
Легким движением плеч и правой руки, уставившись в одну точку и робко вздернув брови, он изобразил боязливого рыцаря на ристалище. Это было смешно, потому что так он передразнил собственный страх и наш, и все засмеялись, кроме Стивена, который перепугался не меньше остальных, но теперь попытался скрыть это, попрекнув нас за нашу непочтительность.
– Они умеют биться, – сказал он. Бывший лучник, он видел рыцарей в сражениях, а мы нет. И он всегда был великим защитником знати, думается, из природного преклонения перед богатыми и могущественными – быть может, потому-то, пришло мне в голову теперь, на ходулях и с золотым лицом Стивен так убедительно изображал Бога-Отца.
– Пятьдесят фунтов брони, – сказал он, с мрачным осуждением глядя на Прыгуна. – В жаркий день это как голову в печь засунуть. И они сражаются верхом с зари и до зари в любую погоду, что Бог пошлет. Я видел, как с полдесятком ран, ослепнув от крови, они продолжали наносить удары. А ты, Прыгун, не смог бы даже поднять рыцарский меч, а не то чтобы рубить им.
– Если они не могли видеть, кого рубят, лучше бы им отправиться восвояси, – сказал Соломинка. – Размахивая мечами куда попало, они же опаснее для своих, чем для врагов. И вообще они опасны для всех и каждого. – Он был зыбок и изменчив в своих мыслях и чувствах, но всегда вставал на защиту Прыгуна. – И с какой это стати Прыгуну поднимать меч? – сказал он теперь. – Понять не могу, чего ты так расхваливаешь рыцарей, когда один из них приказал отсечь тебе палец.
Это упоминание его калечества оскорбило Стивена, и дело могло бы дойти до драки, но тут вернулся Мартин, и мы все вместе начали спускаться с холма, наклоняя головы навстречу снегу. В гостинице Мартином словно бы овладел дух безрассудства. Мы насыщались густой гороховой похлебкой с бараниной и мясным пудингом. К хлебу у нас было масло и добрый эль. Пес тоже попировал хлебом, обмокнутым в похлебку, а Тобиас дал ему баранью кость. Обошлось все это в одиннадцать пенсов и совсем опустошило общий кошелек.
Стивен и Тобиас собрались нагрузить повозку, но Мартин остановил их.
– Надо обсудить одно дело, – сказал он. – Разведем-ка огонь. Хворосту осталось еще порядком.
Мы утвердили жаровню у двери, которую оставили открытой, и сели внутри полукругом, глядя на огонь и двор за ним. Снег продолжал падать, укрывая булыжник белой пеленой. Хлопья влетали в дверь и шипели в пламени. Мы сидели сытые, удобно устроившись на соломе, и смотрели на яркий огонь. Вокруг нас курился пар подсыхающей одежды, пахло соломой, коровьим навозом и резко воняло лошадью.
Для начала он сообщил нам то, что мы и так хорошо знали: заработали мы мало, денег почти не осталось, а до Дарема, где родич нашей госпожи ожидал нас на Рождество, чтобы развлекать своих гостей, оставалось еще несколько дней пути. Сколько именно, предсказать было невозможно: из-за этой метели дороги станут еще менее проходимыми.
– А денег нам еле-еле хватит на два дня, – сказал он, опять возвращаясь к нашей нищете.
– Так чего же мы столько потратились на баранину? – спросил Прыгун. Детский вопрос, ибо он заранее знал, во что обойдется мясо, по которому он истосковался. А теперь, сытый по уши, он попрекал.
– Нам надо поддерживать силы, – сказал Мартин. Думаю, он потратил деньги с умыслом, чтобы лишить нас выбора. Теперь он наклонился вперед, подставил ладони огню, и выглядело это странно, будто он готовился к прыжку. Вновь я заметил в нем что-то волчье. Но только грешное и коварное сердце человеческое могло придать его лицу выражение, которое оно теперь приняло: одержимость своим замыслом, поиски наилучшего способа убедить нас.
– У нас есть один путь, и я его нашел, – сказал он. – Есть что-то, что мы можем сделать, а жонглеры не могут. Но для этого нам надо задержаться здесь еще немного.
– Чего ты ходишь вокруг да около? – Мгновение темное лицо Стивена ничего не выражало, затем я увидел, как сдвинулись его брови. – Что ты придумал для нас? – сказал он.
Мартин вновь окинул нас взглядом, но кратко. Теперь его лицо было спокойным и очень серьезным.
– Добрые люди, – сказал он, – мы должны сыграть убийство.
Слова эти погрузили мир в безмолвие, во всяком случае, так показалось мне. Никто из нас не издал ни звука, наши тела сковала неподвижность. Во дворе снаружи цокот копыт и людские голоса тоже стихли – или же на мгновение я стал глух к ним. Когда безмолвие окутывает мир, всегда какой-то слабый звук становится все громче. Я слышал шепот и вздохи снега, и звук этот был во мне и вне меня.