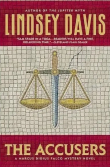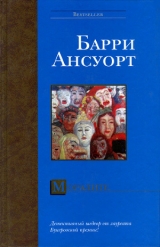
Текст книги "Моралите"
Автор книги: Барри Ансуорт
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 12 страниц)
Гордыня теперь повернулась к наблюдающим, но так, что я сглотнул тошноту и почувствовал, как меня в этой ледяной комнате обжег пот. Он поворачивался очень медленно, делая короткие шажки, понурив голову, будто какой-то чудовищный зверь, чей покой нарушили, и он наконец оборачивается, угрожая нарушителю. И вот она, угроза Лорду, и нанесла удар мне в сердце, дала ощутить, будто порыв к рвоте, его намерение.
Теперь он опять выпрямился лицом к ним. Вновь он начал вытягивание шеи и медленное оглядывание по сторонам. Он делал жесты пловца, разгребающего тину.
– Старшая из всех, – сказал он снова. – Она стоит здесь и сидит там.
Я стоял вровень с ним и видел его маску сбоку, видел судорогу его горла, когда он сделал паузу.
В эти мгновения факел в скобе позади меня вспыхнул ярче, и отблески огня заиграли на безобразных бровях и клюве маски – и на плечах его плаща.
Лорд чуть пошевелил рукой первое движение, которое я у него заметил, – и сокол переступил для равновесия на запястье кожаной перчатки.
– Меня называют многими именами, – сказал Мартин. – И Гордыня, и Надменность, и Вельможность, и Власть. Но что мне прозвища, если я владычествую над тем, что мое?
Он использовал не свой голос. Этот голос выходил из злого рта маски, медлительный, размеренный, с призвуком металла – голос наблюдающего Лорда. Я посмотрел на остальных, которые стояли неподвижно, окостенев, лишенные своих ролей. Соломинка и Прыгун придвинулись друг к другу и держались за руки. Теперь Гордыня заговорила снова, и снова заимствованным голосом.
– Что мне до одного мертвого мальчика, или пяти, или пятнадцати, если мое имя и положение не пострадают! Гордость, вот кто держал суд, кто схоронил мальчика в ночной тьме, кто повесил предателя-монаха в рубахе кающегося…
Теперь это был не просто голос. Пока я переводил взгляд с маски Гордыни на лицо сидящего в кресле, моему потрясенному уму и горячечным глазам казалось, что они сближаются в сходстве – и вот в мерцающем свете факела осталось только одно лицо, лицо маски с ее презрительным ртом и выпученными глазами и торчащими бровями.
И от этого сходства ужас возрос. Мартин в своем безумии вздумал обличать судью, восседающего среди теней на престоле правосудия, важно расхаживать перед Лордом и подражать голосу Лорда, который зажал нас в кулаке. Само по себе это смертельное оскорбление. Но тут было нечто большее, чем просто оскорбление. Если эта тройственная комбинация действительно существовала, то, опираясь на логику, найти можно было лишь одно-единственное объяснение: сэр Ричард де Гиз не хотел, чтобы кто-нибудь увидел тело Томаса Уэллса, потому что оно хранило следы чего-то, и Лорд это знал, он знал это потому, что именно в его руки Симон Дамиан доставил живого мальчика.
Как далеко было бы нам дозволено зайти, я не знаю. Я увидел, как Тобиас, который был создан сильнейшим из нас, теперь доказал это, обретя способность двигаться и шагнув вперед в Игру, к Мартину, с рукой, поднятой в знаке упрека, который подобен знаку рогоносца, но с той разницей, что руку держат так, чтобы торчащие пальцы указывали перед собой. Я думаю, даже теперь он попытался спасти нас от гибели, укорив Гордость за ее самонадеянную наглость, но прежде, чем он успел заговорить, дверь отворилась, и в покой торопливо вошла девица с непокрытой головой, в темном плаще поверх голубого вечернего платья.
Она сразу остановилась при виде нас, являвших, без сомнения, странное зрелище в этой безмолвной комнате – Гордыня все еще делала плавательные движения, Тобиас неподвижно протягивал к ней руку, а мы, остальные, по-прежнему застыли тесной кучкой. Затем она подошла к креслу Лорда сбоку, он резко махнул нам рукой, и Игра остановилась.
– Прошу прощения, батюшка, что побеспокоила тебя, – сказала она. – Я не знала, где поместили комедиантов. Сэр Роджер Ярм, которого нынче ранили, совсем плох, бедная душа. До утра он не протянет, а капеллана, чтобы дать ему отпущение грехов, нигде не могут сыскать.
При ее появлении управляющий отошел в сторону, и Лорд повернулся к ней в кресле. Мы воспользовались этим, чтобы посмотреть на Мартина с укоризной. Соломинка жестом показал ему, чтобы он снял маску, но он не шевельнулся.
– Сожалею об этом, – сказал Лорд голосом не таким холодным, каким говорил с нами, – но не понимаю, зачем ты пришла сказать мне об этом теперь, когда я занят тут.
– Меня послала матушка, – сказала девица. – Она услышала от служанки, что среди скоморохов есть священник. Не тот ли, который одет так?
Теперь глаза отца и дочки обратились на меня. Затем Лорд заговорил с управляющим, тот согнул палец и поманил меня. Я подошел и встал перед креслом, покинув пространство Игры. Теперь я был Никласом Барбером, беглым священником, обмирающим от страха смерти. Лорд поднял голову, чтобы взглянуть на меня, а сокол, почувствовав это движение, сделал изящный шажок, и такая в комнате стояла тишина, что я услышал царапанье когтей по коже перчатки.
Лорд поднял веки и остановил на мне взгляд – упорный и холодный, лишенный любопытства или хотя бы намека на вопрос. Я выдержал этот взгляд не более мига и посмотрел вниз.
– Ну, – сказал он, – одеяние на тебе такое. Это правда, что ты священник?
– Да, милорд, это правда, – сказал я.
– Он может пойти совершить таинство, – сказала девица. – А потом я прикажу отвести его назад к тебе. Это будет недолго. – Она поколебалась, затем сказала: – Рыцарь не может говорить.
Лорд коротко задумался, подняв руку без перчатки к уху и зажав мочку между большим пальцем и указательным. Затем он кивнул.
– Пожалуй, я уже видел достаточно, – сказал он и посмотрел на управляющего. – Один стражник пойдет с ним. Ты и другой останетесь со мной. После нашего попика отведут в покой, где их держали прежде.
Следом за девицей с топочущим стражником позади я вышел из комнаты с превеликой радостью, и мы направились путем, который я почти не заметил от снедавшей меня тревоги, туда, куда они поместили умирающего рыцаря.
Он лежал в покое без окон на низкой умягченной подушками скамье, укрытый по подбородок белым покрывалом, с повязкой из белого полотна на голове, будто еще одним шлемом. Слева и справа горели свечи. Оруженосец стоял на коленях у него в ногах, он плакал.
У дверцы в дальней стене виднелся стол – доска на козлах, и на нем были белые тряпицы, кувшин с водой и почти плоская чаша с елеем. Возле стояла служанка, а госпожа дома сидела у одра. Она встала, когда я вошел, и отошла, не сказав ни слова, а оруженосец посторонился, освобождая мне место.
Повязка почти достигала бровей рыцаря, и его лицо было таким же белым, как полотно. Глаза, карие с длинными ресницами, были устремлены на что-то очень близкое или очень далекое. Рот был чуть приоткрыт, и дышал он с трудом. Я спросил его, искренне ли он раскаивается в своих прегрешениях и готов ли исповедаться, но взгляд не изменился, и я понял, что удар копья лишил его способности слышать и говорить. Он показался мне очень юным, почти мальчиком. Кожа на лице была совсем гладкой, отчего шрам поперек щеки казался еще более странно неуместным. Незаметно подкрадется Смерть унести рыцаря в цвете его юности. И она была близко – его глаза уже созерцали Смерть.
Я не мог дать отпущения тому, кто не мог подать знака раскаяния или назвать свои грехи. Я взял чашу с елеем и благословил его и начал произносить слова для помазания больных и умирающих, касаясь освященным елеем его век и ушей и рта. Он никак не показал, что понимает происходящее, – он, кто лишь несколько часов назад гордо нарядился для турнира в цвета своего рода и надел свой шлем необыкновенной формы, маскируясь для своей роли, как делают комедианты. Теперь он покидал место Игры, лишенный всех ролей, кроме этой последней – умирания, – которая ожидает нас всех. Что было там, кроме того, что я давал ему из моего скудного запаса? Я произносил слова, которые он не мог слышать, я благословил угасающие чувства. Я уделял ему от моего собственного раскаяния, от моей собственной надежды на Царствие Небесное.
Миг его смерти нельзя было уловить, ибо дыхание его стихло ранее, а глаза уже давно смотрели незряче. Где-то между одним мгновением и следующим без движения или звука, пока я держал перед ним мой Крест, его душа отлетела. Однако оруженосец понял сразу и шагнул вперед и опустился на колени, посторонив меня. А госпожа, увидев это, подошла с другой стороны. Служанка как будто не поняла, что он скончался, – повернувшись к столу, она смачивала тряпицу, чтобы стереть с его лица пот агонии. И в эти краткие мгновения никто не смотрел на меня. За дверью, через которую я вошел, по-прежнему ждал стражник. Но ведь была еще дверца.
В таком порыве самое трудное – это двигаться не торопясь. Три шага приблизили меня к дверце. Я встал к ней спиной и проверил ее. Она оказалась незапертой, она приоткрылась от моего прикосновения. Я долее не колебался, но попятился вон из комнаты, тихонько притворив дверцу за собой. В последней косой полосе света из комнаты, которую покидал, я успел увидеть сразу перед собой две ступени и коридор за ними, узкий, но прямой. На дверце был деревянный засов, и я его задвинул. Света теперь не было, но я пошел вперед со всей быстротой, на какую был способен. У меня не было никакого плана, да я и не верил, что мне удастся спастись. Меня гнал страх, но для таких, как я, страх – могучий союзник, обостряющий ум и дарующий крылья ногам.
Фортуна мне способствовала и уже поспособствовала в том, как скончался рыцарь. Я добрался до конца коридора, так и не услышав никаких попыток позади взломать дверцу. Поворот, еще один коридор, который я прошел ощупью. Под моей ногой разверзлись ступеньки, я споткнулся и чуть не упал. Лестница оказалась короткой – всего шесть ступенек. Я вспомнил, что к Лорду нас вели вниз по двум маршам лестницы, а потому заключил, что, возможно, спускаюсь на первый этаж замка.
Так оно и оказалось. С этой лестницы я сошел на галерею залы, смутно освещенной свечами и тлеющими в очаге углями. Она была совсем безлюдной. Перед угасающим очагом спал охотничий пес, но он не поднял головы, когда я проходил над ним. На длинном столе еще стояла посуда, а высокое кресло Лорда осталось отодвинутым, как и лавки по обеим сторонам. Я услышал голоса слуг на кухне, но никто не вышел в залу, пока я спускался с лестницы и шел через нее.
Наихудшим мгновением оказалось то, когда я вышел наружу, чего так жаждал: во дворе тотчас раздались голоса и задвигались факелы. Сначала я подумал, что за мной уже гонятся, и остановился в тени стены. Но тут я разглядел, что некоторые спешиваются и среди них дамы, и сообразил, что это прибыли запоздалые гости. Однако я опасался, что меня заметят и начнут расспрашивать, а потому начал тихонько отходить, держась близко к стене. Лунного света было достаточно, чтобы видеть дорогу. Я свернул в мощенный галькой проход, открытый небу, но между глухих стен. Я все еще не знал, каким образом выбраться из замка. О главных воротах нечего было и думать: стражу там, конечно, уже предупредили.
И вот теперь Фортуна одарила меня великой милостью и показала, что утверждение Теренция, будто она покровительствует смелым, верно не всегда. Проход уперся в высокую стену, но в ней оказалась калитка, и решетка была поднята. Я вышел на поле истоптанного снега. Прямо наискосок от меня была ограда ристалища и пустые скамьи: я оказался в наружном дворе для воинских упражнений.
Сколько бы ни продлилась моя жизнь, этот миг, я знаю, будет жив в моей памяти. Лунный свет серебрил гребешки снега и отбрасывал лиловатые тени между ними. Оставалось пересечь открытое пространство до столбов высокого павильона, воздвигнутого у самой внешней стены.
Я быстро перебежал двор. Как я уже упоминал, лазить я умею хорошо и с ранних лет был ловок и легок на ногу – это и склонило Мартина к решению принять меня в труппу. Мне не потребовалось много времени, чтобы взобраться на крышу павильона, а оттуда перебраться на парапет. Он находился над землей на высоте трижды моего роста, если не больше, но теперь я приобрел сноровку в кувырканиях и падениях, а ветер намел под стеной большой сугроб. Удар при падении сотряс мой становой хребет и выбил из меня дух, но все кости остались целы. Я выждал там, пока мое дыхание не восстановилось, а затем направил шаги туда, где слабо мерцали разбросанные огоньки города.
Глава пятнадцатая
Насколько было возможно, я держался деревьев, почти не выходя на дорогу из страха погони, – свет был достаточно ярок, чтобы углядеть человека, движущегося на фоне снега. Впрочем, погони за мной не послали. Быть может, решили, что я прячусь где-то в закоулках замка, или же сочли бесполезными поиски в темноте даже с собаками. Но какой бы ни была причина, я был благодарен ей – и за себя, и за остальных, рассудив, что, пока я на свободе, менее вероятно, что им причинят какой-нибудь вред.
Я промок от пояса и ниже, промерз до костей и был совсем измучен, когда добрался до гостиницы, еле-еле держась на ногах. Двор распростерся передо мной в полном безлюдии. Нигде ни звука, но в одном из верхних окон щель между ставнями пропускала полоску света. Это была комната в конце галереи, комната судьи. Дверь гостиницы была все еще открыта. Я поднялся по ступенькам и тихонько прошел по коридору к последней комнате. Из-под двери пробивался свет. Я постоял там, услышав сначала громкий стук моего сердца, а затем голос внутри, который что-то монотонно говорил, прерывался, снова начинал. Я собрал все имевшееся у меня мужество и постучал костяшками пальцев в филенку.
Я услышал, как голос оборвался. Затем дверь отворилась. На пороге стоял мужчина средних лет, худой, с острыми чертами лица, одетый в черную мантию, какие носят судейские. Его глаза оглядели меня: мою обритую голову, мокрые обтрепанные полы моей сутаны.
– Чего тебе надо? – сказал он не слишком дружески. Позади него на середине комнаты стоял мужчина более осанистый.
– Я пришел поговорить с судьей, – сказал я.
– По какому делу?
– Об убитом мальчике, – сказал я. – Я священник… я один из комедиантов.
– Час поздний, – сказал он. – Лорд судья занят. До утра это не подождет?
– Впусти его.
Сказано это было негромко, но голос принадлежал тому, кто привык приказывать. Человек в дверях посторонился, и я вошел в комнату. Там стоял стол со свитками на нем, а в очаге пылал веселый огонь. Высокие свечи горели в тройном медном подсвечнике, и пламя их было чистым, какое дает только лучшее сало. Ничего подобного гостиница предложить не могла, как и алые с золотом занавесы из дамаста на стенах. Лицом ко мне стоял дородный мужчина могучего роста в черной шапочке на голове и в черной бархатной мантии, заколотой у горла драгоценной булавкой.
– Священник, – сказал он, – который еще и комедиант, – не такая уж редкость, особенно среди священников, получающих повышение, э, Томас?
– Да, сэр.
– Комедиант, который еще и священник, согласен с тобой, птица более редкая. Это мой секретарь и очень многообещающий адвокат. Как твое имя?
Я сказал ему, но не думаю, что он его запомнил, не тогда. Пока я говорил, он посмотрел на меня внимательнее, и его лицо изменилось.
– Придвинь ему стул, – сказал он. – Вот сюда, к огню. Налей ему кружку красного вина, которое мы привезли с собой.
Поистине, я думаю, он спас меня от обморока – слишком теплой и ярко освещенной была эта комната после холода и темноты.
– Такого вина ты в подобном месте не найдешь, – сказал он, глядя, как я пью. – Я смотрел вашу Игру вот из этого окна. Отлично сыграна, куда лучше обычного. Ваш старшой – человек богато одаренный.
– Для нас было бы лучше, будь он одарен поменьше, – сказал я.
– Вот как? – Он задумался, глядя на огонь. Лицо у него было тяжелым, висело складками, словно слишком много плоти наросло на кости. Но лоб был высоким, а рот твердо очерчен. Глаза, когда он поднял их на меня, смотрели холодно и взвешивающе – кроме того, мне померещилась в них какая-то печаль, будто он знал что-то, чего лучше не знать.
– Что привело тебя сюда? – спросил он, сделав знак секретарю снова налить мне кружку.
И тут я рассказал ему все, что произошло, пытаясь излагать события по мере того, как они происходили, что мне в моем утомлении было нелегко и было бы нелегко, даже не устань я, ведь столько зависело от случайностей и домысливания.
Я рассказал ему, как смерть Брендана свела меня с труппой и привела труппу в этот город. Я рассказал ему о нашей неудаче с Игрой об Адаме и сколь необходимо нам было заработать денег, чтобы продолжить путь в Дарем. Я рассказал ему о замысле Мартина сделать Игру из убийства Томаса Уэллса, так как оно принадлежало городу.
– Сначала мы не сомневались, что девушка виновна, – сказал я. – Причин думать иначе не было, ее судили за это преступление и приговорили к казни. Но чем больше мы узнавали, тем труднее и дальше было верить этому. И не только из-за того, что мы узнали, порасспрашивав людей.
Тут я запнулся, так как подошел к той части моего рассказа, поверить которой было труднее всего. Его глаза смотрели на меня все с тем же выражением: внимательным, холодным, но не недобрым.
– Мы узнали через Игру, – сказал я. – Через наши роли. Объяснить это нелегко. Играть мне внове, но мне все время казалось, будто я вижу сон. Комедиант ведь тот, кто он есть, но и кто-то другой. Когда он смотрит на остальных участников Игры, он знает, что он – часть их сна, так же как они – часть его сна. Отсюда рождаются мысли и слова, какие вне Игры не пришли бы на ум.
– Да, я понимаю, – сказал он. – И пока вы играли убийство…
– Игра больше не указывала на девушку, а сначала на бенедиктинца, потому что он солгал.
Я начал пересказывать ему эту ложь, но он поднял ладонь.
– Я читал показания бенедиктинца, – сказал он.
В первый раз он дал понять, что знакомился с этим делом, и сердце у меня взыграло.
– Но тут его повесили, – сказал я. – Его одели в рубаху кающегося, связали ему руки и повесили. И мы подумали, что это должна быть кара за то, что он допустил, чтобы этого убитого нашли. Но так карать могут только могущественные, те, кто получил свою власть от Бога или от короля.
– Мы, слуги Короны, сказали бы, что это одно и то же, э, Томас?
– Да, сэр.
Говоря это, он чуть улыбнулся, и вновь я заметил в его лице какую-то печаль, что-то, что, мне кажется, было там не всегда, а пришло с годами приятной жизни и с прерогативами его должности.
– Так, значит, – сказал он, – Монах взял тело Томаса Уэллса после того, как кто-то другой его убил, и положил у дороги. Затем кто-то другой или кто-то еще убил Монаха. А вы не спросили себя, почему он выбрал это время, чтобы унести тело мальчика? Почему он выжидал так долго? Это же было опасное время, не так ли? Уже, наверное, светало. Ведь этот Флинт нашел мальчика очень скоро.
– Может быть, его тогда и убили.
Он покачал головой:
– Мальчика схватили днем, перед началом сумерек. Тот, к кому его привели, уже ждал, и, наверное, с нетерпением. И не похоже, чтобы Томаса Уэллса задушили по размышлении. Рассвет – обычное время, когда убивают себя, но не других. Разве что по королевскому указу, э, Томас? Налей ему еще вина, но только полкружки, ему пока еще надо сохранять ясность ума.
– А потом спешка, – сказал я. – Управляющий заплатил священнику, и мальчика похоронили при нем. Начало казаться…
Я умолк от внезапного страха, глядя на мясистое лицо с проницательными глазами совсем близко от меня. Вино развязало мне язык, но не таила ли такая откровенность угрозу? Спасся ли я из одной ловушки, только чтобы угодить в другую?
– Мы ничего дурного не хотели, а только думали про Игру, – сказал я. – И нас вело и вело шаг за шагом.
– Бояться нечего, – сказал он. – Даю тебе в том мое слово. Я ничего от тебя не потребую сверх этого рассказа.
Мне оставалось только уповать, что он сказал правду. Я уже зашел слишком далеко, чтобы взять свои слова назад или замолчать.
– Потом Мартина сразила любовь к этой девушке, – сказал я. – Чистое безумие, ведь он видел ее всего один раз.
Я рассказал ему про то, как нас схватили, как продержали ночь и день взаперти, а потом отвели к Лорду и заставили представить Игру, но в особом покое, только перед самим Лордом и его управляющим, и как Мартин предал нас.
– Вы первые комедианты, допущенные в собственные апартаменты сэра Ричарда, – сказал он. – Говорят, он любит музыку, но не зрелища и не Игры. Жизнь он ведет самую воздержанную. – Это было сказано почти с жалостью, словно речь шла о какой-то ущербности духа.
– Ну, – сказал я, – этот покой свидетельствовал о самом строгом воздержании. В нем не было ничего, кроме единственного кресла. И там нигде не было ничего примечательного, кроме смрада чумы, когда мы шли туда.
Сказал я это просто так, но он поднял голову и вперил взгляд в мое лицо.
– Чумы? Ты уверен?
– Я уверен, да. Этот запах не похож ни на один другой. Раз его учуяв, будешь узнавать всегда. Он доносился из комнаты, мимо которой мы проходили.
– Быть может, тот, кто был внутри, уже предстал перед своим Судией?
– Не думаю. – Я постарался припомнить, не потому, что придавал этому хоть малейшее значение, но из-за его нескрываемого интереса к моим словам. Короткий коридор, внезапно отворившаяся дверь, сестра под покрывалом и в капюшоне с белыми тряпицами, переброшенными через рукава ее одеяния, запах смерти в жизни, который преследовал нас.
– Это было лишь мимолетное впечатление, когда мы проходили мимо, – сказал я. – Мне кажется, за тем, кто находился там, еще ухаживали.
Он долго молчал. Потом слегка кивнул, словно бы равнодушно, и отвел взгляд.
– Да, понимаю, – сказал он. – Представь себе, Томас: этот комедиант является неизвестно откуда, надевает маску Гордости и отчитывает его в его же собственном покое. Сэра Ричарда де Гиза, одного из самых могущественных баронов к северу от Хамбера, земли которого простираются отсюда на восток почти до Уитсби, отправляющего собственное правосудие, а не королевское, имеющего собственное войско, собственный двор и собственную тюрьму.
– Этот человек, видимо, безумен, – сказал секретарь.
– Ты называешь это безумием? – Его взгляд снова обратился на меня. – Я думал, любовь внушает человеку желание сохранить свою жизнь, а не губить ее.
– Он человек крайностей. К тому же он утратил надежду спасти девушку. Он не знал… – Тут мне пришлось умолкнуть, чтобы справиться с собой, со слезами благодарности. – Никто из нас не знал, – сказал я, – что ты приехал сюда совершить королевское правосудие и исправить это гнусное зло.
Теперь он обратил свои глаза прямо на меня, сощурив их, будто что-то его забавляло или он просто недоумевал.
– Королевское правосудие? – сказал он. – Знаешь ли ты, что такое королевское правосудие? Ты думаешь, что я оставил бы дела в Йорке, проехал бы эти утомительные мили в такую погоду до этой жалкой гостиницы, где мне подают еду, годящуюся только для свиной кормушки, ради мертвого серва и немой козьей пастушки?
– Я не подумал, что могла быть другая причина твоего приезда. Я думал…
– Ты думал, что я один из твоей труппы, один из комедиантов, прибывший, чтобы надеть маску Юстиции в вашей Правдивой Игре о Томасе Уэллсе? Имелся Монах, и Лорд, и Ткач, и Рыцарь. А теперь еще Судья, который в конце расставит все по своим местам. Но я занят в другой Игре. Как, ты сказал, тебя зовут?
– Никлас Барбер.
– Сколько тебе лет, Никлас Барбер?
– Это моя двадцать третья зима, сэр, – сказал я.
Он откинулся в кресле и посмотрел на меня, потом покачал головой.
– У меня нет сыновей, только дочери, – сказал он. – Но будь у меня сын такой, как ты, меня тревожило бы, как бы простодушие не толкнуло его на легкомысленное безумство и не привело бы к беде. Ты ведь уже поддался такому безумству, не так ли? Ты покинул пределы своей епархии без разрешения, ты присоединился к комедиантам.
– Да, – сказал я, – это правда.
– Что привело тебя к этому? – Он все еще пристально смотрел на меня, но теперь словно бы просто с любопытством, которое испугало меня больше, чем его насмешливое недоумение. – Ты занимал достойное положение, – сказал он. – Ты образован. Ты мог бы надеяться на повышение.
– Я младший диакон… или был младшим диаконом Линкольнского собора, – сказал я. – Меня усадили переписывать пилатовского Гомера для щедрого благодетеля, книгу чрезвычайно скучную и многословную. Был месяц май, птицы распевали за моим окном, и расцветал боярышник.
– Так просто? – Он отвел глаза. – Не более чем бездумный порыв. – Его взгляд обратился на пышные занавесы по стенам, на яркое пламя, на безмолвного готового к услугам секретаря. – Томас никогда ничего подобного не сделал бы, верно, Томас?
– Нет, сэр.
– Томас когда-нибудь будет заседать в Суде Королевской Скамьи. – Он снова поглядел на меня. – Я тоже никогда не сделал бы подобного. Я учился и готовился только для одной роли. Если бы мной овладел такой порыв, я подумал бы, что заболел.
Он умолк, и некоторое время в комнате слышались только шорохи огня. Потом он сделал движение, будто просыпаясь.
– Мы с Томасом должны завершить одно дело не для посторонних ушей, – сказал он. – Я попрошу тебя недолго подождать где-нибудь еще. Потом мы вместе совершим короткую поездку. Но прежде я расскажу тебе кое-что о королевском правосудии, хотя и не надеюсь побороть твое простодушие. Десяток лет и более, с тех пор как я стал советником короля, этот упрямец де Гиз тревожит нас. Он держит под оружием больше людей, чем надобно, и они непокорны, буйны и угрожают миру в королевстве, подати – прерогатива короля – идут на уплату им. Он объединяется с другими такими же, чтобы отстаивать право лордов как пэров королевства выносить приговоры равным себе, таким образом опровергая право короля судить их. Он берет закон в свои руки. Только королевским судьям дано судить за тяжкие преступления в графствах, и все штрафы и конфискации должны поступать в королевскую казну, однако этот лорд присваивает право разбирать подобные дела суду своего шерифа, и все деньги поступают в его сундуки.
Он крепко сжал губы и помолчал.
– Ты понимаешь? – сказал он. – Такой человек уважает только силу. А сейчас не время для применения силы, когда верность народа зыбка, а Палата Общин всегда готова кричать о тирании. Но я следил за ним, мой доверенный в его замке доносил мне о нем. Затем год назад до нас начали доходить слухи о пропавших детях, тех, про кого ты знаешь, и других – бездомных детях в городе, детях-сиротах, приходивших просить милостыню к воротам замка. Всегда только мальчики. И вот теперь этот случай с Томасом Уэллсом, тем, которого нашли. Наконец-то тропка, которая привела к дому де Гиза.
Он помолчал, улыбаясь, и протянул белые руки к огню, словно все еще лелея дивное тепло этой удачи, и драгоценные камни в его перстнях засверкали в свете огня.
– И теперь я знаю правду.
– И теперь ты предашь его правосудию, одновременно служа делу короля.
Он покачал головой и опять улыбнулся.
– Вижу, тебя сажали переписывать не те книги, – сказал он. – Ты думаешь, де Гиз кротко согласится предстать перед судом? Правосудие труднее применить к сильному, чем к беззащитному. Больше всего он озабочен славой своего рода. Природа этого преступления для нас великая удача.
– Удача? Томас Уэллс не сказал бы так, имей он голос.
Улыбка исчезла, и глаза на тяжелом лице сощурились, глядя на меня, и я понял, что значит оказаться помехой на пути подобного человека.
– На то, чего нам не изменить, мы не тратим времени, если только не можем обратить случившееся себе на пользу, – сказал он. – Пора тебе усвоить это, Никлас Барбер. Смерть этого мальчика может нам пригодиться. Есть смертные грехи и смертные грехи. Некоторые из них могут прибавить блеска его гордости. Но не содомский грех. Нет, я поговорю с ним, и он прислушается, и будет продолжать прислушиваться до конца своих дней. – Он помолчал, и его лицо чуть смягчилось. – Только одно ставило меня в недоумение, но ты пролил полный свет на эту загадку. Я благодарен тебе.
– Каким образом?
– Узнаешь попозже. Некоторое время ты будешь нас ждать, потом мы вместе поедем кое-куда, и обещаю тебе, тогда ты все поймешь.
– В замок?
Он встал и посмотрел на меня с высоты своего роста.
– Нет, не в замок, – сказал он.
Я уже шел к двери, когда он снова заговорил:
– Ничего дурного с тобой не случится. Жди меня внизу, не убегай. После этой поездки в моей власти будет освободить девушку из тюрьмы и передать тебе.
– А остальные? Что будет с ними?
– Да, – сказал он. – Их тоже. Не бойся за них. Вчера, когда вас увезли, я отправил сэру Ричарду несколько слов, достаточных, чтобы он помедлил. Вот что я могу сделать для твоих друзей. Ну а за тебя я мог бы замолвить слово перед Линкольнским епископом, если ты хочешь вернуться.
Я поблагодарил бы его, но он сделал мне знак уйти, и секретарь подошел, чтобы выпроводить меня из комнаты. Я спустился по лестнице и вновь вышел во двор. Двигаясь бесшумно и держась стены, я добрался до сарая и подергал дверь, так что цепь зазвякала, но негромко. Изнутри отозвался пес – не то залаял, не то заскулил. Затем голос Маргарет, охрипший со сна, спросил, кто там.
– Это я, Никлас, – сказал я, почти прижимая губы к двери.
Несколько мгновений спустя я услышал, как ключ повернулся в замке, и дверь приоткрылась настолько, что я проскользнул внутрь. Маргарет зажгла свечу и теперь держала ее в руке. Свеча снизу освещала ее широкие скулы и растрепанные космы волос.
– Значит, ты вернулся, – сказала она. – Я собиралась ждать до утра.
Я не понял, что означали эти слова, но прежде, чем я успел что-то сказать, она сунула свечу мне в руку, повернулась и быстро порылась в соломе. Когда она выпрямилась, в руке у нее был ящик, в котором мы хранили сбор за представление.
– В этом нужном чулане я больше ни на одну ночь не останусь, – сказала она. – В ящике шестнадцать шиллингов и четыре пенса. То, что осталось от сбора. Мне пришлось заплатить еще за две ночи тут. Вонючка взял бы плату по-другому, да только я его на дух не терплю. Подними свечку повыше, Никлас, и я их пересчитаю. Половину оставлю для себя, раз я никогда не принадлежала к этой труппе и ни к какой другой.
Она начала отсчитывать монеты в мою ладонь. Ни слова сочувствия моему жалкому состоянию, ни единого вопроса об остальных.
– Маргарет, мы тебя не бросили, – сказал я. – У нас не было выбора.
– Не в том дело, – сказала она. – Погоди, не то я собьюсь со счета.
Одни пенни, и они уже не умещались в моей горсти.
– Складывай сюда, – сказала она и подала мне черный кошель убийства, который я в последний раз видел, когда Мартин поднял его перед зрителями на всю длину своих рук, будто Святые Дары.