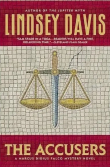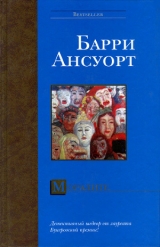
Текст книги "Моралите"
Автор книги: Барри Ансуорт
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 12 страниц)
Глава вторая
Слабость моего положения заключается в том, что, только объяснив всю его бедственность, я могу искать прощения. Но бедственность эта, в свою очередь, явилась следствием моих же легкомыслия и греховности. И значит, я ищу снисхождения к вине через признание вины предшествующей. Но этим винам предшествуют другие. И начала их цепи я не вижу, оно восходит к чреву моей матери.
Во-первых, стыд, что я причинил горе моему епископу, коему обязан тонзурой, коий всегда обходился со мной, как отец. Это же не в первый раз я ушел без разрешения, но в третий, и всегда в майское время года, когда кровь бродит. Причина на этот раз была иной, но брожение тем же: меня отправили послужить секретарем сэру Роберту де Брайену, благородному рыцарю и щедрому в благих деяниях, но профану в литературе и, короче говоря, весьма скверному поэту. Он усадил меня переписывать набело его многословные вирши, и, едва я успевал покончить с одними, как он уже нес ворох других. Все это я еще мог сносить. Но вдобавок он усадил меня переписывать напыщенное переложение Гомера, сделанное Пилато. Птицы распевали во всю мочь, распускался боярышник. Я уложил мой мешок и покинул его дом. Когда я повстречал комедиантов, был декабрь, цветы весны давно увяли. Беды обрушивались на меня одна за другой. Я лишился священной реликвии, которую хранил уже несколько лет, купив у священника, только что вернувшегося из Рима, – лоскутка от паруса ладьи святого Петра. Я проиграл ее в кости. И затем, утром того дня, когда я повстречал их, я лишился своего теплого плаща, бросив его в трусливой спешке. Когда судьба свела меня с ними, я промерз до мозга костей, изнывал от голода и впал в полное уныние под этими ударами судьбы. Я хотел вновь стать частью сообщества, не быть больше в одиночестве. Сообщество комедиантов предлагало мне приют, хотя они были бедны и сами голодали. Вот в чем заключалась истинная причина. Значок был лишь доводом, которым я убедил себя.
В довершение моего преображения я должен был облечься в грязные зловонные тунику и куртку Брендана, а его одели в мою сутану, потому что альтернативой были бы части иноземных костюмов в повозке. Раздела Брендана женщина, и она же надела на него сутану. Остальные отказались это сделать и даже смотреть не пожелали, хотя уж им-то переодевания были привычны. Но я смотрел. Ее движения были ловкими и бережными, а лицо светилось добротой.
Когда она закончила, Брендан теперь покоился в облачении священника, человек, который при жизни чурался благочестия и не скупился на кощунственные шутки. А я стоял в обносках мертвого комедианта.
Однако тут между нами разгорелся спор. Мартин хотел, чтобы мы увезли покойника с собой.
– Брендан умер без покаяния, – сказал он. – Нам следует похоронить его в освященной земле.
– Коняга и так еле бредет, – сказал Стивен. – Дороги скверные, и вот-вот начнется вьюга. Мы уже потеряли много времени, когда колесо сломалось. Нас послали в Дарем на Рождество играть перед родичем нашей госпожи. Если мы не исполним ее повеления, то лишимся милости. До начала Рождества остается одиннадцать дней. По моей прикидке, до Дарема еще пять дней пути. И мы будем пять дней тащиться с мертвецом?
– Священник потребует денег, – сказал Соломинка. Со странной лихорадочностью выражения он обвел взглядом наши лица. Как мне предстояло узнать, он никогда не оставался долго в одном состоянии духа, но быстро менял его под властью некой только ему внятной фантазии, то угрюмой, то ликующей. – Мы можем похоронить его в лесу, – сказал он. – Вот здесь, в темной чаще. Брендану будет спокойно спать здесь.
– Мертвые спят спокойно везде, – сказала Маргарет. Она посмотрела на меня, в ее взгляде был вызов, но злобности в нем не было. – Наш попик может прочесть над ним молитву, – добавила она.
– У Маргарет тут нет голоса, – сказал Мартин. – Она не член труппы. – Обращал он эти слова к Стивену, чьей женщиной она была, и в его голосе я, как, конечно, и все остальные, различил дрожь еле сдерживаемой ярости. Его правая рука сжалась в кулак, и костяшки пальцев побелели. – Вы хотите бросить его здесь? – сказал он, и мне, тогда его еще не знавшему, эта ярость показалась непонятно внезапной и сильной, как будто оспаривались не просто его намерения относительно Брендана, но и какое-то лелеемое представление о мироздании.
Никто сразу не ответил, такова была ярость в нем. Думаю, Стивен готовил ответ, но Мартин снова заговорил низким басом.
– Он был таким же, как мы все, – сказал он. – При жизни он никогда не сидел у своего очага и не ел за собственным столом. В горшках и мисках он более не нуждается, но свой дом в земле получит как положено, достаточно глубокий, и наконец-то обретет кров над своей головой.
– У Брендана были свои привычки, он первый это признал бы, и среди них пристрастие к элю, – сказал Тобиас. – Но пьяный ли, трезвый ли – он играл Шута Дьявола лучше всех, кого вам доводилось видеть.
– И чем же вы выкопаете ему могилу? – В голосе Мартина теперь звучало презрение. – Лопата Адама и грабли Евы ведь сделаны из проволоки и дранки.
– У нас есть ножи, – сказал Стивен.
Он имел в виду, чтобы копать, но теперь наступило страшное молчание, и Мартин смотрел ему в глаза, а он не отводил их. Затем Прыгун, мальчик, выступил вперед прежде, чем они успели сказать что-нибудь еще. Он всегда был миротворцем среди них, хотя и самым младшим, одним из тех блаженных, кого зовут детьми Божьими.
– Брендан научил меня кувыркаться, и ходить на ходулях, и играть женщину, – сказал он. – Мы не оставим его в канаве, Христос – упование наше, люди добрые. – И, чтобы позабавить нас, он подобрал болтающиеся концы своей шали и изобразил женщину, хвастающую длинными волосами.
– Вы помните, как он отплясывал на своих ходулях? – сказал Тобиас. – Как вдруг спотыкался, будто вот-вот упадет?
– Он никогда не падал, только нарочно, – сказал Мартин. Он совладал со своей яростью, когда почувствовал, что остальные уступают его воле. И сказал он это мне, включая и меня в воспоминания о Брендане, и я был благодарен. Его натуре была свойственна доброта, и он бывал внимателен к другим, когда ему не перечили и он оставался спокоен. – Он надевал колпак с бубенцами и ослиными ушами, а на лицо полумаску, – сказал Мартин. – А иногда маску с четырьмя рогами, как у Еврея.
Тот, кого они называли Соломинкой, внезапно захохотал все тем же рыдающим смехом и шлепнул себя ладонями по коленям.
– Он крал эль у Дьявола и так торопился его выпить, что выплескивал себе на колени, – сказал он. – Ты бы видел, как он семенил, сжав колени покрепче, а эль капал, а Дьявол где только не искал свой жбан.
– Ты бы просто подумал, что он обмочился, – сказал Прыгун с нежностью.
– А ты помнишь, как он утешал Дьявола своей песней? – сказал Стивен. Он обращался к Мартину, и я понял, что его гордость измыслила такой путь к примирению. – Он сочинял песни сам, – сказал он. – Сам придумывал слова. Когда Дьявол печалился, потому что Ева сначала не хотела сорвать яблоко, Брендан запевал песню собственного сочинения, чтобы развеселить Дьявола. «Эх, когда б моим мир будь», вот эту песню.
Прыгун взял свою тростниковую дудочку, заиграл мелодию, и все запели первый куплет дружным хором и глядели друг на друга, распевая во весь голос в студеную погоду среди голых деревьев:
Эх, когда б моим мир будь,
Я б от гор до синя моря
Проложил широкий путь,
Чтоб Шутам вольготно…
Так они оплакивали Брендана его же песней, и между ними вновь воцарилась гармония. Я снова их вижу, их лица, пока они пели, отблеск света, лежащий на сухих дубовых листьях, белый ангельский балахон Соломинки, круглый медный поднос у заднего края повозки. Но сильнее всего запечатлелась у меня в уме странность нашей натуры – что жестокая ссора из-за погребения одной бедной бренной оболочки чуть было не разгорелась в наши времена чумы и кровавостей, когда каждый день – это Праздник Смерти, когда мы видим мертвецов, сваленных в кучи на улицах без различия сословий, разлагающихся на телегах, сброшенных в общие ямы вместо могил. Да, миновало уже несколько лет, но тут, на севере, новая вспышка, и эта чума так сильна, что даже зима не может ее остановить. Поля лежат невспаханные, многие умирают от голода, они падают где стояли, и их спешно закапывают по темным углам. Шайки разбойников наводнили страну, крестьяне бегут, воины возвращаются из Франции с полей нескончаемых сражений – люди, с детских лет не знавшие ничего, кроме убийства. В приходах не уцелело и половины людей. И лишь немногие будут знать, где похоронены те, кого они любили. А тут столько забот о прахе одного бедного комедианта.
Больше почти ничего о нем сказано не было, ни тогда, ни после. Они спели то, что было его эпитафией. И больше никаких споров о том, везти его с собой или нет. Тут же его подняли, и он был уложен среди масок и костюмов со свернутой веревкой под головой и укрыт полосами алого сукна, которые они возили с собой, чтобы вешать как занавес в глубине сцены. Затем мы тронулись в путь. Вот так я начал свою жизнь комедианта.
Глава третья
Все последующие дни Брендан оставался в повозке, и мы накрывали его досками и мешковиной, чтобы уберечь от крыс во дворах придорожных харчевен, где мы останавливались на ночлег и спали то на соломе в сараях, то все вповалку на тюфяках в жалких каморках лачуг, гордо именовавшихся гостиницами. Мартин платил за все из общего кошеля. Денежного пояса он с себя никогда не снимал, а кинжал всегда был у него под рукой. Кошелек был тощ, а предстояло заплатить за похороны Брендана. Ни у кого из комедиантов денег не было, кроме Тобиаса, очень бережливого. Остальные уже потратили свои доли заработанных денег. На протяжении этих дней нам на пути не попалось ни единого места, достаточно многолюдного, чтобы имело смысл устроить там представление. Грабежи и чума превратили деревни в жалкие хуторки, дома стояли пустые, почти разрушенные, улицы тонули в мусоре от развалин. Снег все еще не шел, но погода стояла по-прежнему холодная, оберегая труп Брендана от тления.
Все это время Мартин без устали обучал меня. Он наставлял меня, пока мы были в пути. Обычно все шли позади повозки, а конягу вели по очереди. Он рассказывал мне о качествах, потребных комедианту: находчивость, легкость движений, бойкий язык для ролей, написанных лишь частично. Он показал мне тридцать движений руками, и каждое требовалось выучить, и заставлял меня повторять и повторять их, всегда пеняя меня за неуклюжесть, за скованность запястий и плечей. Жесты эти должны были выглядеть такими же естественными и непринужденными, как обычные движения головы и членов. Вновь и вновь он заставлял меня проделывать их, пока они не приобрели достаточную плавность, а кисти и пальцы удерживались под положенным углом. В этих наставлениях он был столь же беспощаден, как и во всем другом. Легчайшую его похвалу необходимо было отрабатывать вдвойне. Он гордился своим искусством и защищал его со страстностью – страстность была ему присуща во всем. Его отец был комедиантом и вырастил его таким.
Для моего обучения использовался всякий удобный случай. Как только мы останавливались, он заставлял меня практиковаться. Когда мы устраивали полуденный привал, чтобы съесть наши куски сыра с ржаным хлебом и кровяной свиной колбасой, запивая жидким элем; в убогих приютах, где мы оставались на ночь, и усталости вопреки – об усталости Мартин забывал в пылу своих наставлений. Он дал мне игру об Адаме, чтобы я заучил – страницы были истрепаны, а рука скверной, – я обещал сделать хорошую копию, когда время позволит.
Все они помогали мне, каждый на свой лад. И каждый тем самым открывал мне что-то о себе. Соломинка был прирожденным мимом и очень в этом одаренным. Он мог стать мужчиной или женщиной, молодым или старым без всякой помощи слов. Он странствовал один, пока Мартин не увидел его на ярмарке и не принял в труппу. Он был странным парнем, легко возбуждавшимся, очень непостоянным в настроениях, с припадками угрюмой немоты. Один раз он упал на дороге, извиваясь всем телом, и Прыгун держал его и утирал ему рот, пока он снова не пришел в себя. Трижды он для меня изображал путника, которого ограбили, обучая меня важности движений головы, и четкости жестов, и тому мгновению, когда мим застывает без движения и смысл выражается через неподвижность.
Прыгун говорил, что ему пятнадцать лет, но без уверенности. Он исполнял женские роли. Он умел петь высоким голосом, а лицо у него было словно гуттаперчевым – он мог растягивать его по всем направлениям и вытягивать шею, будто гусь, да так, что вы смеялись всякий раз, сколько бы он это ни проделывал. По натуре он был кротким, и робким, и беззлобным. Он дружил с Соломинкой, и обычно они держались вместе. Происходил он из семьи жонглеров – его отец, акробат, бросил его, когда он был еще малым ребенком. Пока мы шли, он прямо на дороге в назидание мне ходил колесом и кувыркался. Он умел изогнуть спину обручем, касаясь земли только пятками и затылком, а затем из этой позы прыгнуть вперед и встать прямо. Мне нечего было и надеяться проделать такое, однако в кувыркании я упражнялся, когда мог. Я гибок, легок на ногу и приобрел неплохую сноровку; Соломинка и Тобиас держали веревку на высоте, которую мне полагалось достичь.
Мне казалось, что Стивен уступает в сноровке этим двум. Она его не заботила так, как их. Но он был высок, обладал звучным басом и хорошо запоминал строки ролей. Роли эти требовали достоинства и величия – Бог-Отец, царь Ирод во гневе, архангел Михаил. Несколько лет он был лучником на службе у Сэндвиллов, графов Ноттингемских – тех самых, кому принадлежала эта труппа. Для них он участвовал в набегах, для них он сражался сначала против сэра Ричарда Деймори, а потом против графа Марча. В стычке его захватили люди графа Марча и отрубили ему первый сустав правого большого пальца, чтобы больше ему не быть лучником, вынудив его искать другое ремесло. Сделано это было по приказанию их лорда, тем не менее Стивен почитал знать и гордился своим участием в ее кровавых смутах. «Я знавал людей, которым выкалывали глаза, – говорил он. – Мне повезло». В сумке у пояса он хранил бронзовую медаль с изображением святого Себастьяна, покровителя лучников. И было величайшим знаком дружбы с его стороны, когда на третий день пути он показал мне эту медаль, а также и свой изуродованный палец.
Маргарет странствовала с нами ради него. Они постоянно ссорились, хотя в те дни, как мне сказали, реже обычного, так как у них не было денег, чтобы напиваться. Прежде она была шлюхой и особенно этого не скрывала. Язык у нее был грубым и острым, руки добрыми и умелыми. В представлениях она не участвовала вовсе, и очень мало – в обсуждениях наших дел. Свое место она отрабатывала стиркой, починкой одежды всех нас и стряпней, когда было что положить в горшок. А последнее часто зависело от шестого в нашей компании.
Тобиас играл Род Человеческий и по нескольку мелких ролей сразу; а еще представлял демонов. Кроме того, он умел играть на барабане и волынке. Во всем он придерживался практической точки зрения, а потому к нему прислушивались. Он был нашим подручным, приглядывал за конягой, чинил повозку по мере возможности, ставил проволочные силки на кроликов, а иногда сбивал своей пращой рябчика или куропатку. Он терпеливо старался обучить пса вспугивать дичь, но до сих пор без всякого успеха; пес старался, но его отличала безмозглость. Тобиас научил меня падать и не ушибаться. О своем прошлом он никогда не говорил.
Шут Дьявола, роль, которую я унаследовал от Брендана, по традиции должен быть еще и жонглером, но научиться этому в срок я не мог и надеяться. Все, что было мне по силам, я делал, упорно практиковался при всяком удобном случае, чтобы не разочаровать их, и в особенности Мартина, которому был больше всего обязан тем, что они меня взяли. А кроме того, он мне нравился. Была в нем нежность чувств. И он был постоянен, хотя постоянство это всегда оказывалось припряженным к его собственной воле и целям. Я лелеял его редкие похвалы и повторял их про себя, когда вел одра или когда на ровной дороге приходила моя очередь ехать с Бренданом, а также порой и ночью, когда лежал без сна. Я поставил себе целью преуспеть, стать настоящим комедиантом.
Я узнал от них, что Роберт Сэндвилл, их патрон, сейчас во Франции сражается за короля. Они принадлежали ему и были обязаны устраивать представления в зале его замка, когда он пожелает, и в таких случаях им платили жалованье. Но теперь случалось это редко. Большую часть года им приходилось странствовать. У них имелась грамота Сэндвилла, но пока они находились вне пределов его владений, он им не платил. Теперь же в отсутствие супруга их госпожа послала их, как рождественский подарок, устроить представление для ее родича сэра Уильяма Перси в Дареме. Они надеялись, что будут там щедро вознаграждены.
– Если доживем, – темно сказал Стивен.
Ноги нас еле держали, и в холмистом краю к северу от Йорка проходить за день нам удавалось немного.
Затем Брендан еще раз решил нашу судьбу. Накануне он начал смердеть. В повозке рядом с ним это было особенно заметно: от толчков тело под красным сукном тряслось, и запах его тления в морозном воздухе был несомненным и тяжелым. С каждым часом вонь становилась все крепче, а у нас не было ни масел, ни эссенций, чтобы заглушить ее. Возникли опасения, как бы его разложение, прежде чем мы доберемся до Дарема, не запечатлелось на костюмах и занавесе, необходимых для представления. Мартин созвал совет, чтобы обсудить это дело, и мы расселись у края дороги. Погода была сырой, сгущался туман, и мы совсем пали духом.
– Смердеть смертью – к беде, – сказал Соломинка и угрюмо поглядел на кучу костюмов, под которой лежал Брендан. – Наша игра будет погублена, – сказал он. Он легко поддавался унынию, а неудачи боялся больше, чем все остальные.
– Стирка тут не очень поможет, – сказала Маргарет. – Да и часть костюмов стирать вообще нельзя. Как выстирать костюм Антихриста, если он из конского волоса?
– Он уже смердит и без помощи Брендана, – сказал Прыгун. Именно в это одеяние он кутался от холода, как в шаль. – Смердит рвотой, – сказал он, встал в сердцах и ушел рассерженный, что случалось с ним очень редко.
– До того, как мы туда доберемся, – сказал Тобиас, – еще до того, как, мы доберемся до Дарема, его смердение не станут терпеть там, где мы будем останавливаться.
– Послушай вы меня, – сказал Стивен, – не было бы у нас сейчас такой заботы. Но и сейчас не поздно. Не надо нам везти его дальше. Давайте оставим Брендана здесь, и земля его всосет, потому что он вот-вот начнет разжижаться, как бы мы ни старались.
– О том, что делать с Бренданом, мы решили в тот раз, – сказал Мартин, – и то, что он завонял, ничего не меняет. Просто похоронить его надо поскорее.
Мартин сказал это с обычной бесповоротностью, только легче нам не стало, и мы сидели в молчании, но тут вернулся Прыгун.
– Совсем близко город, – сказал он. – Вон в той стороне и пониже нас. – Он махнул рукой через дорогу.
Мы все посмотрели туда, куда он указывал, но ничего не увидели.
– На той стороне, – сказал он, и мы всей гурьбой перешли дорогу и последовали за Прыгуном по короткому склону холма, поросшему травой, которую овцы ощипали по самые корни. Поглядев с гребня на запад, мы увидели широкую долину, густой лес в ней, струящуюся по ее дну прямую реку, а за рекой – городские крыши в гирляндах древесного дыма, башни и донжон замка на взгорье за городом. Снизу его застилал туман, но мы разглядели парапет и развевающиеся длинные флаги. И мне почудилось, что некие блики коснулись этих крыш, а также башен замка, как тот свет, который пролился, когда они пели над Бренданом. Где-то высоко на стене вспыхнул отблеск, возможно, от лат. Некоторое время мы молча смотрели на сверкание воды за голыми ивами, на окутанные туманом дома за ней. И пока мы смотрели, послышался колокольный звон, далекий, еле слышный, будто содрогания воздуха.
В этом крылось предназначение, как и в моей встрече с ними. В том, что невежда считает случайностью, мудрый видит предзнаменование. Прыгун убежал от нас в обиде, что с ним бывало редко. Он подчинился порыву перейти дорогу, взобраться по склону. Там был город, там был замок, звонили колокола. Никто из нас понятия не имел, как называется этот город. Значит, дар судьбы. Но дары ведь порой оборачиваются злом. Предоставляю тем, кто до конца прочтет мои слова, самим судить, был ли этот город подарен нам во благо или на беду.
Мы тут же приняли решение. Свернем в город, похороним там Брендана и представим Игру об Адаме для пополнения нашего кошеля. Мартин вел счет дням и сказал, что нынче День святого Лазаря [4]4
17 декабря.
[Закрыть]и, значит, люди отдыхают от трудов. И у нас достаточно времени, чтобы добраться в Дарем к сроку.
До города было около трех миль по дороге, полого опускавшейся в долину. Когда наш путь подходил к концу, мы сделали привал, чтобы подготовиться к вступлению в город. Мы задали коняге овса, напоили его и выпрягли, чтобы он отдохнул перед тяжким трудом: везти по городским улицам ему предстояло не только Брендана.
Костюмы, в которые мы оделись, предназначались для разных Игр и выбраны были только ради привлечения зрителей. На середине повозки очистили место, и там встал Стивен как Бог-Отец, в длинной белой мантии, с золоченой маской во все лицо и тиарой на голове вроде папской, склеенной из бумаги и покрашенной в красный цвет. Рядом стоял Мартин, одетый Змием до падения, все еще обитающим в Эдеме, с крыльями из перьев и в улыбающейся солнечной маске.
Мы, прочие, шли либо по сторонам повозки, либо позади. Прыгун в одеянии Пресвятой Девы, перепоясанном на талии, и в желтом, выкрашенном шафраном парике. Соломинка изображал Модника в белой полумаске, в сюрко с рукавами, волочащимися по земле, и острым капюшоном. Тобиас как Род Человеческий был без маски, в простой тунике и шапке. Ну а на меня надели власяницу Антихриста с рогатой маской Дьявола, вооружили трезубцем, чтобы я угрожающе тыкал им по сторонам, злобно бормотал и шипел. Это была моя первая роль.
Брендана мы уложили у заднего края повозки, завалив его нашей одеждой и придавив ее медным подносом. Повозку мы обвесили красными сукнами и заложили одру за уши красные розетки. Маргарет вела его медленно и плавно, чтобы не опрокинуть Бога и Змия. Она тоже прифрантилась – надела потрепанное голубое платье с рассеченными рукавами, а волосы причесала и подколола. Чуть мы вступили в пределы города, как добавили к зрелищу еще и разнообразие звуков: демоны и ангелы состязались в музыке. Прыгун играл на своей тростниковой дудочке, а Змий на виоле, Род Человеческий отбивал такт на барабане, а Бог отмечал паузы с помощью тамбурина. Для заглушения небесных звуков меня снабдили сковородой и железным половником, и я лязгал во всю мочь, а Соломинка гремел палкой по подносу над Бренданом, изображая гром. По временам, когда гармония и какофония достигали кульминации и было неясно, за кем останется победа, Бог поднимал правую руку ладонью вперед, слегка согнув пальцы в жесте, требующем тишины, и демоны сразу переставали лязгать и греметь.
Вот так, чередуя порядок с хаосом, пока тощий коняга вскидывал голову в такт музыке и грациозно вышагивал, видимо, по давней привычке, а пес, привязанный к повозке сзади, заливался лаем, вот таким манером мы торжественно двигались по улицам города, пока не добрались до рыночной площади с гостиницей на одном углу.
Не знаю, как другие, а я обрадовался, что мы добрались туда. Власяница была жаркой и липла к телу, маска, склеенная из нескольких слоев бумаги, была плотной и душной. В прорези для глаз смотреть было трудно, а вбок и совсем невозможно. Я должен был тыкать трезубцем и шипеть, пока музыка была небесной, кроме того, быть наготове со сковородой и половником, когда Соломинка подавал сигнал ударом по подносу, и притом еще одним глазом следить за Богом, чтобы сразу же прекратить шипение и лязг, едва он поднимет ладонь. У меня голова шла кругом от грохота и лязга и от мельтешения лиц по сторонам – кто пялил глаза, кто хохотал, кто разевал рот, присоединяя свои вопли к шуму, который поднимали мы. И вот тогда-то я понял – урок, который приходилось заучивать вновь и вновь в следующие дни, – что комедиант всегда в ловушке своей роли, но он не может допустить, чтобы зрители это заподозрили, они должны всегда думать, будто он свободен. И великое искусство комедианта состоит не в том, чтобы показывать, а в том, чтобы скрывать.
Мое смятение усугублялось ощущением, что моя маска и старая облезлая власяница уже пропитались смрадом Брендана. Мне пришло в голову, что, может быть, моя маска и мой костюм лежали вплотную к нему, и я спросил себя, не думают ли того же и другие. Мы ведь должны были прятать его запах, как прятали его тело.
С нами в город явилась Смерть, это бесспорно. Смерть ехала в нашей повозке, она витала над нашими одеяниями и музыкой, пока мы соблазняли зевак прийти на наше представление. И столь же верно, что Смерть поджидала нас там, ибо она может быть и там, и тут в одно и то же время. По милости Божьей я вышел из этого города живым, и Смерть все еще дожидается меня. Но время нисколько не затуманило это воспоминание: наше шумное вступление в город, душная маска и зловонное одеяние Антихриста. И страх небытия.