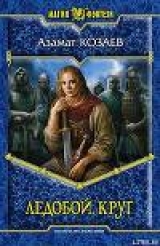
Текст книги "Круг"
Автор книги: Азамат Козаев
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 35 страниц)
– Мало ему приятного на меня смотреть, – усмехнулся купец. – Да и нам тоже. Пусть все идет, как идет.
– Лошади напоены, можно трогать, – отчитался кто-то из старших обозников.
– Да, иду. – Брюст задержался около изваяния, пристально взглянул еще раз, будто запоминал. А может быть, на самом деле запоминал. Дорога длинная, еще успеет понять самого себя и свое отношение к памятнику. – Прощай, баба-каменотес. Если придется рассказывать небылицы у костра, про тебя расскажу.
– И ты не поминай лихом. Свалились тебе на голову, ровно снег летом.
– Не снег, – покачал головой и холодно улыбнулся. – Будто коршуны.
А ведь правда. Свалились на голову, точно коршуны, и унесли в железных когтях полтора десятка. Боги, боженьки, смогу ли когда-нибудь хоть на мгновение забыть об этом?
– Трогай! – зычно рявкнул купчина и ловко взлетел в седло.
– В походный порядок разойдись! – крикнул Снегирь. Теперь он заступил на место дружинного воеводы взамен Приуддера, безвременно покинувшего этот свет.
Купец что-то вспомнил и повернул вороного вспять. Нескольких мощных скачков жеребцу хватило.
– Больше никого к обозу на перестрел не подпущу, – наклонившись ко мне, прошептал Брюст. – А с бабой тем более.
– Таких, как Сивый, больше нет, – не кривя душой, сказала то, что думала. – Дур, как я, тоже не найдешь.
– Береженого боги берегут. – Купчина холодно улыбнулся, и мне его улыбка очень напомнила Безродову, только мой бывший улыбался еще холоднее. Таких на самом деле больше нет.
Купец ускакал, а я провожала обоз глазами и шепотом просила у Брюстовичей прощения. Сивый даже не вышел. А если бы меня стали убивать?
Подо мной земля горела. Зуд в ногах обнаружился такой, что, не сбив дыхания, долетела бы до города и обратно. Но еще пуще чесался язык. Я должна была хоть кому-нибудь рассказать о том, что сумела сделать. Хоть кому-нибудь. Рассказала бы Потыку, но где стоит его деревня, знача весьма приблизительно. Тогда кому? А вот кому!
– Далеко наладилась? Даже кашки не поешь? – Старик замер на пороге шалаша, едва удержав равновесие. Я выскочила наружу, будто угорелая, чуть не снесла балагура.
– Нет, не стану есть. Время дорого. Боюсь, в конец изведусь, если не поговорю с ним.
– Да с кем же?
– С мастером Кречетом.
Только взбалмошная оторва, навроде меня, отправится в долгий путь, не перекусив. Но я такая и ничего поделать с собой не могу. Кто сдернул с места всех – Безрода, Тычка, Гарьку – и не дал насладиться теплом домашнего очага у Ягоды? А кто сорвался утром с места, из-за чего Сивому пришлось резать ватагу лихих? Надо полагать, нужен был именно Безрод, чтобы спутать мне ноги супружеством и надолго усадить на одно место.
– Скоро верну-у-усь! – уже в седле крикнула за спину и помахала на прощание.
Старый егоз искренне обрадовался тому, что на поляне встал Красная Рубаха, ведь он тоже приложил к изваянию руку. И даже не руку – приложился целиком, балагур возлежал на глыбище, пока я обводила чертами его тело для пущей правдоподобности. Не Безрода же просить. Гарька промолчала, от нее не услышала ни слова, впрочем, коровушка меня разговорами давно не балует. Сивый… Он принял изваяние как неумолимую данность. Есть и есть. Безрод непонятный. Иногда ловлю себя на том, что мало не качаюсь от чувств, что подняли в душе исполинскую бурю, на глаза наворачиваются слезы и от тоски хочется выть во весь голос. Но иногда накатывает и вовсе непонятное – смотрю в глаза, знакомые до боли, и словно перестаю существовать. Голова отказывает напрочь, только животный страх рвется наружу, члены сводит от желания вцепиться в белый свет ногтями, зубами и жить, жить, жить…
– Вернусь из города, и мы объяснимся. Хватит недомолвок, – прошептала себе под нос. А, собственно, почему шепчу? – Я вернусь, и мы объяснимся! Хватит недомолвок! Ты скажешь мне, что делал в дружине Крайра. Еще во время побоища положил на меня глаз, но умыкнуть не дали – общинного дележа не было! Не мытьем, так катаньем все же заполучил. Покоя не давала? Уплатил на торгу, ровно простой покупатель, и забрал с собой. И Крайра подговорил, дескать, незнакомы.
Да, хватит недомолвок! Объяснимся, и две мои половинки сольются в одну. Но ведь не только я раздвоилась?! Вас, благоверный, тоже двое – тот, что резал моих соратников на отчем берегу, и тот, что купил на торгу и не обидел даже словом. Обидные слова в амбаре, когда я лишилась рабского клейма, не в счет… Скорее, Губчик, скорее, миленький!
Глубоко в сумерках достигла города. Прости, Губчик, но много отдыхать не придется, в ночи двинемся в обратный путь, дабы к рассвету оказаться на месте. Хочу, чтобы наш разговор слушало солнце. Я могла бы попросить обмена сновидениями, как сделала это однажды, но больше не хочу лазить к нему в душу грязными руками. Хочу просто слушать и верить.
– Опять ты?
– Я тоже могу так сказать. Ты один в городской страже? Больше никого нет? Как ни приеду, ты на воротах!
– Просто… так получается! – Пузан сбил шапку на затылок и поскреб холку.
– Станешь спрашивать, зачем приехала?
– Да спрашивал уже в тот раз. – Вислоусый посторонился, пуская в город. – Иди уж. Вреда от тебя никакого, а пользу, глядишь, принесешь.
И непроизвольно огладил себя по брюху. Я рассмеялась. Весело стало на душе и хорошо.
По памяти, будто прошла здесь только вчера, нашла мастерскую Кречета. Он закрывался.
– Здравствуй, каменотес.
– Вы только поглядите! Никак, Верна? Или с устатку грежу на ходу?
– Я, Кречет.
– Да проходи же! Не стой на пороге. Рассказывай.
Собралась с духом, будто перед прыжком с обрыва.
– Сделала! Что задумала, сделала!
Кречет выглянул на меня исподлобья и улыбнулся.
– Что сделала?
– Я расскажу все. И ты расскажи соседям. Люди должны знать об этом.
– Люди должны знать? – Хозяин искренне удивился. – Да что такого ты сотворила? Откопала источник вечной жизни?
– Не знаю, может быть.
Каменотес мгновение подумал и кивнул.
– Сама расскажешь. Посиди, я мигом.
Кречет исчез и через какое-то время вернулся, да не один – его сопровождали люди, похожие на моего каменотеса, будто братья-близнецы. Кое-кто не снял даже кожаного передника.
– Это она. – Кречет кивнул на меня, и в мастерской стало вполовину темнее – каменных дел умельцы закрыли собой весь проход. – Та самая девка.
Мастера умолкли, будто увидели привидение. Смотрели на меня как на заморское диво.
– Она? – недоверчиво спросил рослый малый с ручищами неохватными, будто колбасы. Не уверена, что мне удалось бы сомкнуть на одном его запястье две свои ладони.
– Да. Готов поставить на кон свое дело – у нее получилось нечто стоящее!
Каменотесы примолкли, и лишь Кречет участливо мне кивнул:
– Давай, Верна, рассказывай.
Я прокашлялась. Конечно, хотела, чтобы люди узнали, но так быстро?
– В дне пути отсюда, если не гнать коня, а идти размеренной рысью, есть поляна…
– С ручьем? – переспросил невысокий сутулый крепыш, чьи руки самую малость не доставали до колен.
– Да, с ручьем. И на той поляне… – Запнулась. – Дружина Брюста схватилась с… величайшим злом. Помогал им… мой муж. Пятнадцать человек полегло, но кровь, раз пролившись, останавливаться не стала. Через несколько дней на наш стан напали… бродяги. Вознамерились живьем сожрать…
– Кого?! – прошептал изумленный Кречет.
– Моего.
– Знаю, босота голодает, но чтобы людей жрать… – Молодой каменотес, веснушчатый и рыжий, будто осенний лист, развел руками.
– Пришлось бить насмерть, – не стала вдаваться в подробности и объяснять, отчего калеки вдруг воспылали жаждой к человечине. Это наше с Безродом дело. Погибла ватага бродяг и погибла себе. Главное не это. Не ради того гнала сюда Губчика, чтобы смаковать подробности.
Каменотесы молча ждали.
– И я решила изваять каменного ратника, дабы увековечить память воев, проливших на той поляне свою кровь. Хорошие люди погибли из дружины Брюста, и ни на ком не было греха.
– Слышал что-то подобное, – трубным голосом прогудел парень по прозвищу Зубец, чьи неохватные ручищи так меня поразили.
– Я тоже.
– И я.
– Стало быть, твой муж, как и обозники, сражался на поляне, и теперь там стоит памятник в честь воев, сложивших головы?
– Да. И ни на ком не было вины, – прошептала я.
Мастеровые стояли неподвижно, даже с ноги на ногу не перемялись, пока рассказывала.
– А что, братья, побываем на поляне? Посмотрим, что девка наваяла. – Кречет оглядел соседей и, разбросав руки в стороны, будто крылья, обнял за плечи рядом стоящих.
– Не все сразу и не в один день, но побывать стоит, – подал голос длиннорукий, кого каменотесы звали меж собой Ущекот. – Глядишь, подправим что-нибудь.
– Ты, девка, руки покажи. – Громыхнул Зубец.
Протянула руки и растопырила пальцы.
– Да не так, ладошки покажи. – Здоровяк взял меня за руки и перевернул вверх ладонями.
Мастера сгрудились вокруг меня и как один разразились громким смехом. Я не понимала, в чем дело, и переводила взгляд с одного на другого.
– Наша девка! – смеялись каменотесы, и каждый протянул ко мне левую руку, ладонью вверх.
Не сразу углядела, тем более в полумраке, но все же заметила – руки похожи как сестры-близнецы. С большого пальца на указательный тянулась красная полоса; крепким хватом, сомкнув пальцы, я держала зубило и душила его под самой шляпкой. Только у меня полоса была свежей, красной, будто воспаленной, у Кречета и остальных – темной и ороговевшей, наверное, не сразу почувствуют, даже если мозоль прижечь огнем. Пальцы с внутренней стороны будто натерты, подушечки покраснели, ведь рука все равно соскальзывает вниз по зубилу во время работы. У мастеровых внутренняя сторона пальцев и вовсе походила на роговую кость – крепкая, желтоватая и скрипучая, сама слышала, когда они сжимают кулаки.
Я рассмеялась. Весело мне стало и хорошо, как будто в кругу родных оказалась. Хотела отдать молот и зубило, но Кречет не взял.
– У себя оставь. И серебро назад возьми. Даже слушать ничего не хочу! Людская память стоит серебряной денежки. Будешь поглядывать на зубило и нас вспоминать, а уж мы за памятником присмотрим.
– Там вот еще что… – замялась. – Изваянию сделала красную рубаху. Пока держится.
– Охрой?
– Не-а. Другим. Понадежнее.
– Чем же? Ягодным отваром? Не понима… – и осекся, углядев на моем запястье повязку.
– Ага, – кивнула я. Мастера переглянулись.
Каменотесы про такое явно никогда не слышали.
– Держится? – недоверчиво переспросил Ущекот. – Не облез памятник?
– Дождь выдержал, волок по земле выдержал, пока обмывала от земли да грязи – выдержал.
– Теперь пуще прежнего хочу взглянуть на изваяние. – Кречет оглядел собратьев. – И непременно съезжу. Кто со мной?
– Я!..
– Я!..
– Я!..
– Добро. Та седмица наша. Жди, Вернушка, в гости…
Хоть и вступила ночь в свои права, я возвращалась чиста и легка, ровно с небес улыбалось мне солнце. И не было преград и помех во всем белом свете. Точно камень с души отвалился. Смешно. Не тот ли это камень, что теперь стоит на поляне? Утром приеду на место и поговорю со своим бывшим. То есть не бывшим… это он так думает, и невдомек ему, что плевать мне на выброшенное кольцо. Кольцо найду. Но, если боги предназначили меня Сивому в жены, так тому и быть. Для того ли рыскал по стольким землям, чтобы отвернуться теперь? А что делал в дружине Крайра, сам расскажет. И только одно может встать между нами – кровь. Закляну, потребую правды и если выяснится, что нет на Сивом крови моих родных и соратников – отдамся в его руки и пробуду в таковых до самого последнего дня. А если окажется на мече Безрода кровь, просто уйду из жизни. Мы закончим начатое, только на этот раз все будет по-другому. Случится всего один удар, и под разящим клинком один из нас упадет. Я упаду. Знаю, что должна жить дальше, но так же хорошо знаю себя. В тот момент, когда узнаю горькую правду, у меня пропадет всякое желание жить. Никакие мудрые доводы жить не заставят. Он меня убьет, и я увижу родных.
Не гнала Губчика, ехала тихим шагом. Собиралась с мыслями. Ничего и никого не боялась. На всем пути от поляны до города лихих нет. Знала это доподлинно. А если нет опасности, почему бы не проехаться в свое удовольствие? В лицах представляла наш разговор и предвкушала окончание тревог и размолвок. Скажу ему… в общем… что наша свадьба вовсе не была ошибкой, как он полагает, и горячо схвачу за руки. А Сивый ответит… А я скажу на это… Безрод усмехнется и обнимет меня… А я лизну его в нос, как преданная собака…
Так размечталась, что не заметила, как на востоке заалело и густая сумеречная синь оттенилась розовым. Осталось пересечь дубраву, миновать два пологих косогора, и по обе стороны дороги раскинется наша поляна. А вот теперь, милый мой Губчик, мы понесемся вскачь, и пусть твои копыта не оставляют следов на этой земле.
– Давай, Губчик, давай! Неси меня во весь опор! Сегодня для нас начнется новая жизнь! Я долго медлила, но теперь выясню!
А когда мы на всем скаку вылетели на поляну, сначала не поверила глазам; стоит Красная Рубаха, стоит шалаш, только… палатки нет.
– Они переставили палатку? Зачем? – недоуменно спросила Губчика. – Зачем?
Объехала всю поляну, ничего и никого. Прочесала окрестности на несколько сот шагов в обе стороны – пусто, и лишь около памятника страшная догадка клюнула меня в темечко. Будто голову сунула в прорубь – захолодило нос, уши, щеки. Кончилась та седмица, по истечении которой Безрод обещал сесть в седло, да уж, видно, так сел, что слезать не стал. Ни палатки, ни забытых впопыхах вещей. Собирались обстоятельно, ничего не забыли.
– Он уехал, – прошептала, и меня качнуло в седле. – Безрод уехал. Не будет у нас общего дома, ничего не будет…
Перестала чувствовать голову, в ногах, наоборот, загудело, не иначе вся кровь отхлынула вниз. Небо и земля завертелись… Одного не поняла, если перед тем, как потерять сознание, я взлетела, обо что так больно ударилась? И как в небесах оказались копыта Губчика?
В голове завелся некто прожорливый и, словно грызливая мышь в амбаре, точил мысли. Отъедал окончание, и ни одну мысль до конца я так и не додумала. Последний слог растягивался, как протяжное послезвоние, и в ушах подолгу стояло незаконченное слово, длинное, ровно золотая канитель.
– Он уехал-л-л-л-л… – Я терялась и уходила в себя, будто привороженная убаюкивающим заклинанием.
– Он меня бросил-л-л-л…
– Я дура-а-а-а…
Раньше от мыслей в голове бывало тесно, они толкались и подпирали друг друга. А если бы каждая попадала на язык? Меня, болтушку, не выдержал бы ни один муж, даже такой холодный и долготерпеливый, как Безрод. Но теперь мыслям стало до жути просторно – проходили дни, пока одна сменяла другую.
Что произошло с миром? Что произошло со временем? Оно понеслось, точно горячий жеребец. Еще вчера мои штаны и рубаха сияли чистотой, сегодня измазаны грязью и травяным соком, колени и локти почернели от непрерывного катания по земле, волосы спутаны в колтуны, а шалаш сумасшедшим порывом снесен к такой-то матери. Что я делала все это время? И где спала?
– Он меня бросил-л-л-л-л…
Нашла себя лежащей у памятника, обняла колени руками и каталась по земле, пока не стукнулась головой об изваяние. В моей несчастной головушке образовалась такая глубокая пропасть, что не хватало дум ее заполнить. «Сивый меня бросил-л-л-л-л…», «Безрод не вернется-а-а-а-а-а…», «Я ду-ра-а-а-а-а…» Дни, вечера, утра, закаты… какая разница?
Иногда видела людей. По-моему, это были люди. Они часто проходили мимо – все-таки дорога – и странно косились. Что я делала – не знаю, только несколько раз будто в дреме подмечала обережное знамение, которым прохожие неизменно себя осеняли.
Постоянно хотелось забыться. Даже странно, что помню такие мелочи. Спала, точно сурок, под солнцем и под звездами, свернувшись клубком, как новорожденный в утробе. Убаюкивал собственный голос, денно и нощно звучавший в голове: «Бросил-л-л-л-л…», «Я – дура-а-а-а-а». Для меня время остановилось. И пусть вокруг оно неслось как сумасшедшее, но стоило пропустить его через себя – замирало, как замирает всякая жизнь в стоячем болоте.
Несколько раз ловила: «Смеется девка, видать, умишком тронулась». Кто смеется?.. И слышала еще более испуганное: «Ты гляди, сейчас горло выплюнет, так заливается».
Однажды кто-то еще более оторванный, чем я, решил мною попользоваться. Уже видела над собой окривевшее от похоти лицо, но затем что-то произошло, и насильника снесло, ровно лист ветром. Кто прогнал бродягу? Не знаю. Было лицо надо мной и не стало. Вроде не нашлось на поляне никого третьего, однако тот чего-то испугался, и след его простыл быстрее, чем расходятся круги по воде. Свернулась клубком, и в голове разнеслось привычное «…бросил-л-л-л…», «…дура-а-а-а…». Даже не испугалась, и в душу увиденное не упало. Там просто не осталось больше места, всю ее заняла одна нескончаемая мысль.
А потом я пошла. Сама не поняла, куда и зачем. Пришла в себя и равнодушно удивилась. Меня догнал Губчик и ткнулся в плечо. Я иду по дороге-э-э-э-э… Куда иду-у-у-у-у?..
Хотела пригладить волосы, рука застряла, пальцы увязли в колтунах. Распутывать сделалось лень, расчесываться сделалось лень, мыться сделалось лень, поймала чих, но даже сопли утирать сделалось лень.
Говорят, спать на земле неудобно. Не знаю, мне так не показалось. Когда сидела у Красной Рубахи, когда кругами ходила по поляне, а когда лежала, свернувшись клубком, глядела в обе стороны дороги и взглядом провожала мимохожих и мимоезжих. На обидные слова и жесты не обращала внимания. Как будто смотришь на что-то большое, прямо перед собой, и видишь только это, остальное замечаешь краем глаза, в памяти ничто не откладывается. Все замечаю, но ничего не вижу.
Не ела. Просто не хотелось. Ветром носило по поляне муку, рассыпанные крупы уже давно склевали птицы, котелок покрылся грязью и царапливой уличной пылью. Не могла вспомнить, как в руках оказались три заветные вещи, нарочно оставленные моими спутниками, от каждого по одной. Положили у шалаша, но, когда разгромила свое временное жилище, унесла подарки к памятнику. Так и лежали около меня Гарькина тесьма для волос, Тычковы кожаные рукавицы и Безродово обручальное кольцо, чью пару я так и не нашла. Бездумно продела тесьму в кольцо, положила все в рукавицу, а рукавицы сложила крест-накрест. Будто хлопают. Целыми днями глазела на подарки и ни о чем не думала. Только бесконечные «бросил-л-л-л», «дура-а-а-а» звенели в ушах и заполняли все мое несчастное естество. Не стало больше Верны, остался мешок с костями, до краев полный незаконченными мыслями, звенящими и нескончаемыми, ровно послезвоние.
Не сказала бы, на который день по счету случилось нечто, что разбило ряску на моем стоячем болоте. Сначала в лесу раздался шум, который со временем становился лишь громче, а затем и вовсе произошло такое, чего люди никогда не видели. Раздались крики, в которых я безошибочно узнала залихватское уханье охотников, затем на поляну выметнулся… огромный волчище. Зверь не колебался ни единого мгновения, бросился ко мне и, точно дворовая собака, улегся рядом, просунув голову под руку. Охотники немного отстали, через какое-то время четверо выбежали на поляну и остолбенели. Нечасто увидишь, как волк бросается к человеку под защиту. Собственно, я и не была человеком, человек отдает себе отчет в словах и поступках, сосредоточен и собран, жесток и силен… В тот момент я представляла собой клубок жалости и страданий. Удивительно ли, что зверь бросился ко мне за тем, в чем отчаянно нуждался, – помощью и спокойствием?
Волчаре досталось. Одна стрела торчала из-под лопатки, вторая продырявила шкуру в области крупа да так и застряла, болтаясь на ходу, словно второй хвост. Видать, на излете попала. Охотники, бравые парни, один другого здоровее, верховодил которыми седой, битый жизнью крепыш, опустили луки. Не в человека же стрелять, пусть даже в бабу, пусть даже полоумную! Что-то говорили мне, но я не слушала. Обнимала тряского зверя и вдыхала пряный запах дикого животного, готового грызть до последнего вздоха. Спрятали стрелы, освободили луки от тетив и, коротко посовещавшись, встали на поляне. Наверное, решили дождаться. Волк или сдохнет, или метнется дальше, учуяв, что преследователи не отступятся. Через какое-то время зверюга простится с жизнью, возьмут, что называется, тепленьким. Потому и спрятали оружие. Шкура волка намокла от крови и едкого звериного пота, но я продолжала обнимать серого и даже голову не убрала. Возлежала на нем, ровно на подушке. Никогда еще не было у меня такого изголовья.
– Отдала бы его нам. – Старший, тот самый седой крепыш подошел ближе, волк оскалился и утробно зарычал, собрав нос гармошкой. – Наш он. С утра за сволочью гонимся.
– Ты плохой волк? – шепнула подопечному, дотянувшись до лохматого, остроконечного уха. – Ты нехороший волк? Резал овец?
Охотник меня услышал. Присел на корточки и с чувством повел, кося то на меня, то на волка:
– Хитер, сволота, жить не дает. То теленок пропадет, то овцу приговорит. Сколотил волчью ватагу и словно кого-то из людей некогда сожрал – умен стал, описать невозможно. Вот и теперь, учуяли нас, разделились, будто заранее договорились обо всем! Вожак прыгнул в одну сторону, стая – в другую. Ну мы, конечно, за этим припустили, он всему безобразию голова. Мотал нас по лесу целый день, и на тебе!
– На тебе-е-е-е-е… – повторила я.
Волк уронил голову на лапы, задышал медленнее и ровнее. Почему-то охотники не стали вырывать обессилевшего зверя из моих рук, но я даже не задалась вопросом, отчего так. Вроде затея на два вздоха – подошли к полоумной дуре и вырвали зверюгу из рук, но ведь отчего-то не подошли?
Лежала на волке, и перед глазами зияла жуткая рана, стрела толщиной с мой мизинец глубоко сидела в рваной дыре, все вокруг покраснело от крови и успело потемнеть.
– Полежи, нехороший волчишка-а-а-а, – погладила серого по морде, и волк, что удивительно, умиротворился. – Лежи смирно-о-о-о…
Приподнялась на колени, одной рукой ухватила стрелу, второй – обняла волчка и потянула. Тянуть стрелу из тела дело нелегкое, живая плоть – не дерево, сноровка нужна. В общем, не вытянула, только сломала. Как волчище не вырвался, ума не приложу, хотя в тот момент прикладывать было просто нечего – не нашлось у меня даже толики ума. Серый только рычал в небо, скалился, по огромному телу бегала дрожь, однако зубами не рвал, не вскочил и не убежал. Может быть, со второй стрелой получится? Засела не так глубоко, как первая, и осторожно смертоносное древко вытащить удалось. Почитай, под шкуру вошла, ничего серьезного.
Виды на подранка охотники имели серьезные. Разбили стан как раз на том месте, где еще недавно стояла палатка моих спутников. На ночь решили остаться? Предположили, что эта ночь станет для волчища последней, утром заберут бездыханную тушу и сдерут шкуру. Всей деревне покажут, что не стало лесного разбойника, умного, будто человек. Огонь разожгли, расселись вокруг, и кто-то один постоянно смотрел в нашу сторону. Даже спали по очереди. Палатку с собой не взяли, на столь долгую погоню не рассчитывали, но скатка на поясе нашлась у каждого. Кутались в тонкие верховки на ворохе лапника. Охотник не пропадет в лесу, какое бы время ни стояло, лето или зима. Счастливо перезимует, удачно проводит летнюю ночь и встретит солнце, низкое и холодное зимой, высокое и жаркое летом.
– Никуда ты не пойдешь-ш-ш-шь… – прошептала я, поудобнее устраиваясь на волчьем боку, подальше от раны. – Они тебя не получат. Но резать овец без счету нехорошо. Ты меня понимаешь?
Зверь лениво водил ушами и тяжело дышал. Косил на меня умным глазом и дергал верхней губой.
– А меня Безрод бросил-л-л-л-л… Уехал-л-л-л…
Тягучее, нескончаемое «л-л-л-л» клубилось в голове до самого утра.
– Выспался, дурачок? – с первыми лучами скользнула взглядом по телу зверюги и потянулась к ране.
Огладила шерсть и едва не поранила палец, что-то острое накололо подушечку, и я медленно, чересчур медленно отдернула руку.
– Волчишка, шерсть у тебя спеклась в иголки. Стал ежом, – осторожно, кончиками пальцев ощупала рану и нашла «иголку».
Острый скол древка вылез наружу, и вовне торчал окровавленный расщеп. Сам собой вышел из раны, а ведь ничего подобного вчера не было. Гладила рану, пока не заснула, и никаких иголок, что кололи бы пальцы, не было. Точно не было.
Охотники, все четверо, стояли неподалеку, но перейти незримую границу им как будто что-то мешало. Переглядываясь друг с другом, смотрели на нас. Не ожидали, что волк выживет, а серый смотрел на преследователей серьезным взглядом, как умеют это делать волки, и вострил уши.
– Палец уколола? – Седой недоверчиво сощурился.
– Ага-а-а-а… – протянула и задумчиво поводила мизинцем по обломку. – Уколола-а-а-а-а…
Все четверо еще раз переглянулись.
– Ты гляди, жив.
– А ведь кровищи серый потерял столько, что и на жизнь могло не остаться!
– Однако осталось, – пожал плечами третий.
– Что-то здесь не так. Я перевидел много волков со стрелой в боку. За день, за два – брал всех. Этот же…
А этот лежал смирно, положение тела не менял, лапы не разминал, будто вовсе не затекли. Лежал себе на боку и косил по сторонам взглядом острым, словно копейный наконечник. Только я ворочалась как ужаленная, вертелась так и сяк, устраивалась поудобнее на сером, пушистом и таком необычном изголовье.
– У тебя не будет пролежней-й-й-й-й… – гладила волка по свалявшейся шерсти, пыталась просунуть руки под тушу и хоть немного приподнять.
За полдень серый прикрыл глаза, и лишь верхняя губа стала чаще собираться в гармошку, будто волка настигла опоздавшая боль. Четверо словно забыли о преследовании, то один в лесу исчезнет, то другой, но всякий раз я ловила на себе внимательные взгляды. Охотники, что говорить. Все время, что стояли на поляне, пребывали с мясом. Утренняя трапеза, полдник, вечерняя трапеза. Однако я на запах жаркого даже носом не вела. Не хотела есть. А может быть, хотела, но видела еду как будто краешком глаза и чуяла краешком обоняния. «Он меня бро-сил-л-л-л», «Безрод уехал-л-л-л-л…»
– Я проснулась, месяц спит, кровь свернулась, волк со-пит-т-т-т-т… – настало утро, прихода которого даже не заметила, и только люди, освещенные малиновым сиянием, подсказали, что ночь уже позади.
Охотники, все четверо, стоя у незримой черты, во все глаза смотрели за мной – рты раззявлены, как у детворы во время представления скоморохов. Еще и пальцами показывали. Я и сама водила пальцем по ране волка и приговаривала чушь, которую только что придумала. Складно получилось, но как всегда последний слог заполнил собой все. В голове звенело глухое «т-т-т-т…», которое со временем стало похоже просто на слабый выдох, а я водила по заскорузлой волчьей шерсти и напевала.
– У меня с глазами неладно или наконечник сам собой полез из раны? – Старший чесал бороду и косился на собратьев, столь же растерянных.
– Когда эта сумасшедшая сломала стрелу, древка, что осталось в ране, вообще не было видно, – угрюмо бросил кто-то из охотников.
Да, его не было видно, а теперь подросло, будто корень-переросток. Обломок, что теперь торчал из раны, потянул наружу волоконца плоти и лохматые волчьи жилы.
– Сколько живу, такого не видел. – Старший, остальные звали его Плеть, неотрывно смотрел на нас, только я не смогла бы сказать, на кого именно. Может быть, на изваяние? – Не выталкивает рана стрелу, ну не выталкивает!
Волк приподнял голову и долго смотрел на охотников, морща нос и скаля зубы. Наверное, между зверем и людьми пролегли странные узы – что-то мешало следопытам с ножами броситься на подранка, а серый отчего-то не бежал прочь. Изогнул шею, распахнул пасть и с третьей попытки ухватил обломок, перехватил челюстями раз, другой и… сорвал прихват – зубы соскочили.
– Волчишка, волчишка, не хватай лишка-а-а-а, – пропела я, вставая на колени.
Еще вчера не смогла бы даже двумя пальцами ухватить наконечник стрелы, теперь пристроила всю пятерню на окровавленное древко и легко потянула. Оно и болталось едва-едва, хорошо зубья, что застревают намертво и не дают вытащить стрелу, вылезли сами. Вылезли сами… Была бы в здравом уме, удивилась, а теперь смотрю, но не вижу. У охотников глаза на лоб лезут, у меня с губ не сходит дурашливая улыбка.
– Ваше. Забирайте, – швырнула обломок охотникам, и наконечник только лязгнул, попав на камень.
Старший забрал обломок, поскреб ногтем. Все как и должно быть – ошметки мяса, черная кровь. Понюхал. Переглянулся с товарищами и отдал наконечник дальше. Молчал и смотрел на нас. А что говорить? Не видел бы своими глазами, не поверил на слово. Мне бы, дуре, спросить, почему ближе не подходят, но куда там вопросы задавать…
Волк зализывался. Лежа, вывернув голову, без попыток встать, как будто берег силы. На самом деле берег. Встал лишь вечером, в преддверии ночи, когда солнце село, а по дальнокраю на западе разлилось малиновое свечение. Волчище даже в сторону охотников не покосился. Обнюхал меня, лизнул и вильнул хвостом. Думала, прощается, уходить собрался. Но нет. Серый лишь постоял на ногах, зевнул и улегся обратно, поднырнув головой мне под руку.
Исчез ночью. Я даже не заметила как. Уснула под убаюкивающее «л-л-л-л…», а когда проснулась, моего клыкастого знакомца и след простыл. Охотники неторопливо собирались. Уже, понятное дело, не в погоню, какая тут погоня, когда между беглецом и следопытами легла не то что пропасть – Вселенная. Четверо ни о чем не спрашивали и даже не разговаривали со мной. Кто разговаривает, допустим, с ослицей, коровой или нежитью? Многим ли я отличалась от нежити? Смотрю не прямо, а сквозь, говорю невпопад, странно выгляжу, еще более странно себя веду, не ем, почти не пью, отвратительно воняю. И все же охотники возвращались не пустыми, охота не прошла для них бесполезно. Парни разменяли два дня стояния на нечто небывалое, и еще неизвестно, что оценят выше – шкуру волка, пусть и умного, или то, что видели своими глазами. Затушили костер, убрали угли в ямку, прикрыли кострище дерном и были таковы. Ушли, как и не было их вовсе. Даже не попрощались. А чего с нежитью прощаться?
Солнце падало и вставало, по дороге шли и ехали, молча провожали меня глазами и осенялись обережным знамением. Я по-прежнему лежала на земле, у самого изваяния, свернувшись клубком. Не ела. Просто не хотелось. Изредка пила, ходила под себя – вставать было просто лень, и однажды из лесу вышли какие-то люди, четверо, которые несли пятого. Совсем ребенка, мальчишку, лет семи-восьми. Уж где пострел шастал и чьи острые когти распороли ему грудь от плеча до плеча, я, наверное, не узнаю. Спросила бы – сказали. Но не спросила. Здоровенные мужики, сами чем-то похожие на зверей, бородатые, косматые, без единого слова положили мальчишку около меня и ушли.







