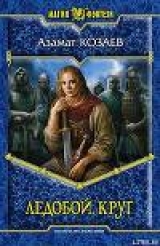
Текст книги "Круг"
Автор книги: Азамат Козаев
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 35 страниц)
– Туда! – в кольце неизменной «подковы» выскочила на площадь из переулка, чуть левее трех срединных улиц, и сразу попала в сущее столпотворение.
Раз-два, раз-два, раз-два… Света побольше, все остальное уже пережила. И выходило, будто идут старые приятели, не сбавляя шагу, и на ходу отмахиваются от заполошных голубей. Шагов двести пролегло от переулка до теремной стены, и поначалу защитники не придали значения десятку Верны, но уж больно много шума и криков полетело с той стороны.
– Давайте, давайте! Сюда, сюда!
Двести шагов от переулка до княжеских ворот так и прошли – шагом. А когда ступили на двор терема, Верна раскрыла рот. Дружинные избы полыхали, туда-сюда с гиканьем носились конные заломовцы и секли одиночных дружинных, и всюду, куда хватало глаз, кипела ожесточенная рубка. Люди братцев-князей здесь и там сбивались в какое-то подобие пешего боевого порядка и дорого просили за свою жизнь. Городские ворота уже закрыли, и две тысячи, рассредоточенные в окрестностях, просто не успеют вмешаться. Все кончится раньше, гораздо раньше. Приметив жаркую схватку, Верна повернула десяток в самую гущу. Перед горящей дружинной избой сотни четыре бубенецких сбились в колючего ежа, только вместо мягких иголок у того обнаружились остро точенные мечи. По двору в страхе носились лошади без седоков, и от всеобщего гвалта Верна мало не оглохла.
Когда помянутые четыре сотни неведомая силища взялась безжалостно избивать сзади, и ужасом зримо повеяло и запахло, истошный рев полетел в небеса. Его и видно не было, тот крохотный десяточек, что прошил несколько сотен насквозь, вдоль и поперек, сначала располовинил, а потом учетвертил, и каждую четверть заломовцы безжалостно «сожрали». Теперь Верна долго могла бы рассказывать, каково это, стать смертью – вокруг тебя падают люди, мощными взмахами воздух свит в плотные клубы, между небом и землей висит кровяное облачко, а под ногами девственно чисто. Ни один труп не упал в горлышко «подковы», кроме одного, что сама дорубила, зато голову в сторону лучше не отворачивать – замутит. Ты сама – Костлявая – холодна, равнодушна и почти слепа. Поглядеть бы на себя со стороны, в самом деле кожа истлела, вылезли скулы и ввалились глаза?
Две сотни намертво встали у теремного крыльца, и хоть Залом не разрешил пускать красного петуха, того и гляди, от жара схватки само займется. Защитники сбились плотно, плечом не раздвинешь, ощетинились копьями и закрылись щитами. Чуть поодаль в поту и крови стоял истинный князь и, тяжело дыша, обозревал поле битвы.
– Вели отойти и раздаться надвое! – прохрипела Верна. Говорить уже не могла – горло сорвала. – Прошьем их насквозь, вот тебе и ход в терем!
– Ты гляди, жива! – усмехнулся истинный князь, только мрачной и кривой вышла та улыбка – щека рассечена, бровь разбита до кости. – С вами пойду.
– Вперед гляди, на них не косись. – Верна кивнула на девятку. – Голова закружится.
Рог пропел «Сон и каша» – отойти. Возвращенцы сдали назад, выдохнули и расступились. Залом встал рядом, в горлышке подковы, коротко взревел: «Мы дома, братья!» – и десяток пошел. За несколько мгновений копья порубили в щепы, только свистело и трещало. Бубенецкие просто бросали древки – сушило руки и выносило пальцы из суставов. Больно скоро все произошло, глядь, а заломовцы уже щиты разбивают да народец мечут по сторонам. Вгрызлись в плотные ряды защитников, словно голодный в хлебную корку, и только волны кругом пошли, ровно по глади пруда, когда вои стали падать. Раз-два, раз-два, раз-два… Страшно и жутко, когда на силу находится большая силища и то, что вчера считал незыблемым, сегодня валится и падает, будто спелый колос под косой. Раз-два, раз-два, раз-два…
Разок Верна поймала донельзя удивленный взгляд Залома. Да, не мальчишка сопливый, от самого враги прочь отлетают, ровно соломенные чучела, но девятка творит вещи просто чудовищные.
Чудо, чудовище… слова похожие, только от одного хорошо на душе делается, от другого, напротив, страшно.
– Ого-го! – взревел истинный князь, делая Верне страшные глаза: «Где ты их нашла?»
«Это они меня нашли». Устала. Меч поднять невозможно. Провались все пропадом! Вот-вот кончатся силы, хоть наземь садись и тупо мотай головой. Не бабское дело – война.
Бубенецкие рты раззявили, широко раскрыли глаза, и непонятно, чего хочется больше – стоять и благоговейно смотреть или защищаться и подороже продать жизнь. Задние ряды ничего не понимают, а то, что непонятно, – пугает. Непонимающие и перепуганные равно легко стелются, порубленные, пронзенные и поломанные.
Не взялась бы сказать, как быстро рассекли надвое защитников, но шла, почти не останавливаясь. Да, так незатейливо – прошли насквозь. Девятеро бьют скорее, чем глазом моргнешь, за их мечами, будто привязанный, летит ветерок и гладит разгоряченное лицо. Позади десятка, как нитка за иглой, в провал немедленно ударили заломовцы, и вскоре две половины упорной дружины легли наземь. Верна привалилась к стене и опустила меч. Залом ошеломленно покачал головой и, оглядев молчаливый десяток, поджал губы. К чему слова?
На крыльцо вскочил Пластун. Ровно бойцовый пес, не мог унять дрожь, только била не тело – зубы. Стучали и лязгали, челюсть ходила непрерывно, будто что-то жевал, глаза горели.
– Бр-р-ратцы-князья в тер-р-реме! С ними отбор-р-рная дружина. Точно знаю!
– Эк тебя, дружище, перекосило! Рычишь, словно цепной пес.
– Он там, – зловеще усмехнулся Пластун и нехорошо улыбнулся. – И она в тереме.
Ох, Зазноба, и чего тебе дома не ночуется, в боярском конце? Не ко времени с мужем в тереме осталась. Истинный князь жестом указал сотникам вправо и влево – там еще огрызались несколько крупных отрядов, – кивнув, позвал десяток Верны за собой и первый взбежал по лестнице.
– Взлет, Барсук, вы дома? Старший брат вернулся, свидеться желает!
В сенцах ждал десяток. Одного Залом срубил, остальных – девятеро, лишь свистнуло, лязгнуло и чавкнуло. Верна даже меч поднять не смогла, устала, ровно гору по камешку перекидала. Только прищурилась, чтобы глаза кровью не забрызгало. И без того чумичка – шлем без личины, а с начала боя раз десять утерлась. И в нос бьет солоноватым смрадом, противно. Как мужиков не мутит? Носы по-другому устроены, что ли?
– В думной палате заперлись, – буркнул Залом. – Две лестницы, и мы на месте.
Хоть глаза не открывай, веки тяжелы, будто печные заслонки. И без того ясно, что дальше будет. Девятерым хоть сотня, хоть десяток – все равно. Только моргнуть. Терем вышел скорее широк, чем высок, площадь между лестничными пролетами вовсе не тесна, десяти воям встать в ряд да локтями не толкаться. Когда рубили второй десяток, Верна и впрямь равнодушно закрыла глаза. Раз-два, раз-два… Еле шла в горлышке подковы, Меч не держала – волочила, хорошо к запястью ремешком привязала. Было бы иначе – выронила. Пальцы не держат.
Залом, коротко ухнув, ногой пнул расписные двери думной палаты и громоподобно взревел:
– Ну здравствуйте, братья!
Десятка четыре самых здоровенных и опытных встали от стены к стене и отгородились от возвращенцев щитами. Верна все гадала, которые из них братцы-князья, где сотник, теперешний муж Зазнобы, и где она сама?
– Тебя никто не звал, – прилетело из боевого порядка голосом низким и холодным, впрочем, Залом, если захочет, может ниже и холоднее.
– Никак от хозяина сбежал? – Второй голос выше и теплее. – Нехорошо! Некрасиво!
Ишь ты, издеваются!
– Которые? – шепнула Верна. – Ведь не захочешь убивать?!
– В середине, – усмехнулся Залом. – Шлемы с золотой насечкой.
Вы только поглядите! Шлемы с личинами, ничего не видно, лишь усы и бороды, а глаза блещут испугом. Те же Заломы, только пониже и пожиже.
– Тех двоих в золоченых шлемах не трогать, – сипнула Верна девятерым.
Залом предостерег последний раз:
– Не губите людей. Сами сдохнете, других за собой не тащите!
– Куда князь, туда и вои! – рыкнул тот из братьев, чей голос показался Верне холоднее и ниже.
Залом только плечами пожал, и вспыхнула битва. Раз-два, раз-два, раз-два… В избе тело по-другому падает, не так, как на улице, звук другой. Воздуха меньше, стены кругом и деться некуда. Когда накатывает волна от девятерых, последних в ряду швыряет в стену и бьет, не жалея, только гул идет по всему терему. Раз-два, раз-два… Верна три раза моргнула – и почти не стало охранной дружины, только набрала воздуху в грудь крикнуть «Хватит!» – последние бойцы легли. Остались двое, зенки таращат, мечи в руках дрожат, губы трясутся. Поглядеть на них пристально – в глазах еще стоят четыре десятка, а кинешь взгляд по сторонам – лежат. Все, что знали, к чему привыкли, истаяло, как туман под сильным ветром. Так не бывает, не бывает… Несколько дней назад сама так же стояла, проморгаться не могла. Бывает, дружочки, уже было.
– Мечи наземь! – Залом выпростал руку к братьям и нетерпеливо тряхнул. – Ну!
Взлет и Барсук обреченно бросили клинки. За несколько мгновений сорок человек лежмя легло, стены и потолок забрызгало кровищей, пол, наверное, вовсе не отмыть, только скоблить заново. Интересно, до десяти сосчитала бы? А теперь… кто накануне плотно закусил, успевай отвернуться.
Девятеро разбрелись по думной палате. Оглушительно затрещали кожаные доспехи, скрипуче застонали кольчуги, а когда смачно захлюпала еще теплая плоть, братцев-князей зашатало. Верна вовсе не смотрела, закрыла глаза, но слышала все. Наверное, у кого-то по губам потекло – с шумом всосал – десятницу едва не вытошнило. Согнулась, руками сдавила грудь, кое-как удержала рвоту. Залом и тот поежился, побелел и сглотнул.
– А-а-а-а! – истошный бабий крик прилетел откуда-то слева, там располагались женские покои.
Пластун, поганец, наверняка он, кто же еще? Верна, шатаясь, пошла на крик, девятка, дожевывая, – следом. Залом с братьями сам разберется, им свидетели не нужны. При бабах наверняка осталось человек тридцать, кто же в здравом уме безропотно отдаст самое дорогое на растерзание? У страха глаза велики, как еще можно представить себе возвращенцев после предательства и семи лет рабства? Наверное, заломовцы виделись горожанам людоедами с горящими глазами, лицами, перекошенными злобой и клыками, торчащими из черных пастей. Дурачье, это просто злые и отчаянные парни, людоеды – здесь.
– Пластун! Пластун! – сорвала горло. Даже сипеть больше не могла. Только шептала: – Пластунишка, нехороший мальчишка! Не сделай непоправимого!..
Мерный грохот сотрясал уровень. Стены гудели, ровно терем кто-то превратил в огромное било.
– Открывай, паскуда! Терем по бревнышку раскатаю, а достану!
За углом обнаружился Пластун, исступленно молотящий ногой в дверь, затейливо расписанную красными и желтыми Цветами. И плевать молодцу, что дружинных в палате – как семян в подсолнухе. Его порубят, он даже не заметит. Дверь стонала, кряхтела и держалась из последнего. Не запорный брус переломится – целиком с петель слетит. Окунь встал рядом с Пластуном, приноровился – и ударили вдвоем, как выдохнули, слитно. Дверь не просто упала – вынесло из проема и швырнуло на середину палаты, а было в той на первый взгляд шагов тридцать от стены до стены. Как парни от бабьего клекота не оглохли, уму непостижимо. Верна поморщилась. Так и есть, три десятка воев закрыли баб и детей широченными спинами, а то, что измучились ожиданием, не увидел бы только слепой. Уж лучше драчка, чем томительное ожидание.
– Баб и детей не трогать! – крикнула Верна.
В стайке прочих углядела Зазнобу. Та Верну совсем не узнала. Еще бы – в мужском боевом облачении, в шлеме, лицо кровью перепачкано.
Пластун ударил лишь несколько раз, все кончилось гораздо быстрее. Девятеро в щиты не били вовсе, вскрыли боевой порядок, словно яичную скорлупу, почитай, так же уничтожили – р-р-раз, будто выпили. Плечом наддали, просочились между воями, и только кровь полетела во все стороны, а стук мечей о плоть слился в тошнотворную непрерывную дробь. Верна прикусила губу. Как в воду глядела, бабы в обморок посыпались одна задругой, точно спелые яблоки. Пожалуй, не все вернутся в здравое расположение духа.
– Этот мой!
Судьба на закуску оставила, что ли? В его теперешнем состоянии Пластун Зазнобиного воеводу порвет на части и схарчит без соли. Верна покосилась на десяток. Те разбредались по палате, равнодушно переступая через трупы; кажется, готовились рвать сердца и жрать прямо тут! Это просто доконает баб, девиц и детей.
– Отвернитесь, все отвернитесь! – сама, едва не пинками разворачивала обезумевших баб лицом к стене, тех, что еще не потеряли сознание. Ну точно стадо – глаза слюдяные, ничего не видят, губы что-то шепчут, слез больше не осталось, и даже крик в горле высох. Только Зазнобу не смогла оторвать от лавки – вцепилась так, что выносить вместе с лавкой или рубить руки. Два мужа – бывший и теперешний – стали в шаге друг от друга, тут и последний рассудок потеряешь. Словно из тьмы вынырнуло привидение, о котором семь лет ни слуху ни духу. Привыкла уже, успокоилась, а тебя из теплой, уютной постели швыряют в ледяную прорубь.
После девятерых показалось, будто сражаются два тяжелобольных, так же «проворна» бывает муха, застрявшая в патоке. Даже смотреть Верне стало больно. Растрясешь требуху на резвом скакуне, потом пересаживаешься на быка и «болеешь» неторопливостью.
Сотник бился умело, но против сумасшедшего напора Пластуна ему вышло не устоять. И когда Многолет встал против окна, Пластун воткнулся тяжеленным плечом противнику в грудь, достал из сапога нож и сунул в шею. Многолет замер, скривился и зашатался, а возвращенец ногой пнул раненого с такой силой, что тот выбил собой большое стеклянное окно и вывалился на крышу теремного крыльца.
– Сдохни, ублюдок!
Парня било и трясло, жажда крушить и ломать не остыла, и случиться беде, если бы Верна не загородила собой Зазнобу.
– Верна, уйди! – ревел ослепленный Пластун.
Девятеро насторожились, перестали жевать и как один покосились на спорящих соратников.
– Ты не сделаешь того, о чем станешь потом жалеть! – прохрипела Верна. – Не марайся.
– Убью тварюшку! Р-р-р-распущу на мясо и бр-р-рошу собакам!
– Мальца тоже?
– Какого мальца?
– Который у нее будет. Она беременна!
До Пластуна не сразу дошло. Какое-то время непонимающе глядел на Верну и морщился. Что она несет? Какой малец? Нож в горло, и вся недолга.
– Кто беременна? Эта? – морщась, кивнул на бледную Зазнобу, что так и сидела, вцепившись в лавку.
Попробуй останься тут в здравом рассудке. За несколько мгновений срубили три десятка, ровно кусты молодой бузины. Жуткие заломовцы рвут людей по-живому и едят. На глазах убили Многолета, а Пластун клацает зубами и точит по ее душу острый нож. Только откуда баба в доспехе узнала о ребенке?
– Да! И, клянусь, ты не сделаешь этого!
Пластун усмехнулся, поджал губы, и только чуб на лбу вздрогнул, когда возвращенец швырнул нож. Верна похолодела, показалось, будто внутри обрубили веревку, на которой все держалось. Медленно повернулась и широко раскрыла глаза. У самой щеки красавицы, точно лента на ветру, трепетал-колыхался нож. Пластун остервенело плюнул в сторону бывшей, подвывая «Девица-красавица, ты мне очень нравишься…», пересек палату и нырнул в дверной проем.
– Тебе повезло, дура! – еле-еле вытащила нож и чуть было не рухнула на лавку. Вовремя опомнилась. Если сесть – больше не подняться. Усталость не даст.
– Он его убил, убил… – глядя в никуда, шептала Зазноба.
– Кто-то из них должен был уйти, – прохрипела Верна. – Я же говорила, у судьбы на тебя свой расчет.
– Ты кто?
– Дед Пихто. Идти сможешь?
– Куда?
– Внизу в думной палате Залом. Собери баб, детей – и айда туда. Никто не тронет.
Ровно замороженная, Зазноба встала с лавки, взяла за руку кого-то из девок, и друг за другом, словно выводок утят, они потерянно вышли из палаты. На молчаливый жест Верны Маграб только кивнул и, отряхнув руки от крови, вышел следом.
Терем заполняли возвращенцы – уставшие, порубленные и вымотанные до предела. Победа вышла дорогой ценой, не менее трети воев полегло. Дружинные братцев-князей грызлись отчаянно, до самого конца. Взлет и Барсук будто чувствовали, стянули в город самых преданных, те и впрямь стояли упорно, никто не перешел на сторону истинного князя. Новые князья – новые приближенны, старых братцы-князья от греха подальше отослали.
– Зато две тысячи, что стоят в окрестностях, без боя вернутся под мои стяги, – усмехнулся Залом, оглядываясь.
Истинный князь поднялся в женские покои и мрачно прикусил губу. Причудливую роспись на потолке и стенах заляпало кровищей, труп лежит на трупе, все ожидаемо-предсказуемо, словно думную палату отразили в зерцале. Баб и детей уже увели в дом посадника, там по крайней мере не было крови, братцев-князей заточили в поруб.
– Что теперь? – все же рухнула на лавку. Усталость подрубила под самые колени. – Отдашь город на растерзание?
Терем наполнился мужскими голосами. Живых отделяли от мертвых, хотя… с девятью все проще, после них живых не оставалось, били насмерть или добивали. Так огонь выжигает сухую траву в степи – только черная пыльная пустыня расстилается куда хватает глаз.
– Это мой город, – сухо отрезал Залом. – Это их город. Своих найду, и все встанет на должные места.
– Своих?
– Жену и мальчишек. Когда ушел в поход, младшему год исполнился, старшему три.
– Братцы спрятали? И что, молчат?
– Молчат, поганцы. Торговаться будут.
– Станешь?
Залом недобро поморщился и отвернулся.
– Узнаю. Все равно узнаю. На ремни распущу, а узнаю…
Верна уже спала. Свернулась на лавке калачиком, подтянула ноги к груди, отпустила меч и негромко постанывала. По телу бегала дрожь усталости, руки-ноги тряслись, а лицо исказило ровно судорогой.
Глава 6
БЕГЛЕЦЫ
Спала день и ночь и даже не спала, а просто не появлялась в мире живых. Будто спряталась. Даже в сон просочилась гнетущая боль, в груди мутило, и самый распоследний дурак понял бы, что видится девке отнюдь не цветочный луг. Где прилегла, там и осталась, ей только лавку застелили мягкой шкурой да прикрыли теплым шерстяным одеялом. Лишь к следующему утру открыла глаза и долго лежала неподвижно, блуждая взглядом по сизой предрассветной хмари. На лавках вдоль стены лежали жуткие телохранители, и лишь один сидел – избела-бледные глаза Верна углядела даже сквозь муть в собственных – ровно огонь внутри горит и через глаза наружу лезет. Не поймешь кто, вроде Гогон Холодный, а вроде Тунтун.
Молчала. Будто язык отсох. Есть-пить не хотелось, даже естественная надобность тело не тревожила, словно отлетела Душа далеко-далеко, и лишь несколько пудов изможденной бабьей плоти безучастно лежат, ждут прилива сил.
– Долго спала? – Язык вялый, ленный, словно каша во рту.
– День да ночь позади. Светает.
Трупы убрали, но солоноватый запах крови остался. Пол и стены еще приводить в порядок и приводить, жаль, нельзя самой выбить кровавую память, как придверный половик. Стоит прикрыть глаза, будто наяву падают люди, жуткая девятка скупо, молниеносно кромсает дружинных князей-предателей, визжат бабы и одна за другой отпускают сознание.
Вот сидит Зазноба, бледная ровно смерть, вцепилась в лавку, хочется дуре кричать, а не может. На расписные цветы венчиком брызгает кровь… Три раза моргнула ~ три десятка рухнули, грохот мечей о щиты едва не оглушил… Душа не успевает за происходящим, людей уже нет, а ты глупо таращишься на место, где они только что стояли, и дышишь, словно рыба на песке.
– Мне плохо, – прошептала Верна. – Мне плохо…
Встала после полудня, не иначе солнечным светом напиталась. Разбудили крики и ржание лошадей. То сгоревшие дружинные избы раскатывали по бревнышку. В бабьи покои не входили, должно быть, Залом приказал не беспокоить – сколько проспит Верна, так пусть и будет. Едва появилась на крыльце, возвращенцы побросали дела, со всего двора сбежались и подхватили на руки. Не давая шагу ступить, вынесли на площадь, забросили на одну из четырех бочек, теперь пустых, и заставили держать речь. Туда же, на бочки, зашвырнули девятку, те отнеслись ко всему не в пример спокойнее. Ну хоть бы улыбнулись разок.
Заговорила через «не могу», язык показался тяжелее камня – отлынивает, не слушается, живет сам по себе:
– Мы победили…
Парни едва не всполошили город басовитым дружным ревом, хотя чего уж тут… Бубенец вторые сутки не спит.
– …а не надо было подличать и предавать!
Да, вот так просто. Какое-то время молчали, ждали вдохновенной, пламенной речи, а тут такое… по-бабски чувственно и по-детски правильно. Но, распробовав слова десятницы – чисто и прозрачно, ровно ключевая вода, – изошли таким криком, что на площадь должен был сбежаться весь народ. Может быть, еще одно нападение?
Жизнь возвращалась в привычное русло. Как Залом и предположил, две тысячи встали под знамена истинного князя, не обнажая мечей. На пограничные заставы вернулись дружины, трупы свезли в поле и подготовили тризнища. Вечером Залом позвал Верну к себе:
– Ну здравствуй, воительница! Как спалось?
– Круги под глазами видишь? Так и спалось.
– Людей рубить нелегко. Бывает, парни ломаются.
– Знаю, – буркнула Верна. – Едва душу не отдала. Всю ночь по трупам ходила. Отмоюсь ли?
– Встанет солнце – будет новый день. – Истинный князь неловко усмехнулся, ворожец на волчью жилку сшил щеку, тянет еще, смеяться не дает. – Что думаешь дальше делать?
– Не знаю.
– Вот что, голуба. – Залом пожевал губу, встал и отошел к окну. – Определяйся. Сроку даю седмицу.
– А в чем дело?
– В тебе и твоих парнях. Жуткий десяток. Не хотел бы иметь такой во врагах. Посему выслушай мое предложение: все десять или со мной, или очень далеко отсюда. В моем княжестве вам делать нечего.
А что тут думать? Сражение отполыхало, мирная жизнь берет свое, так и проходить в дружинных Залома до самой свадьбы? Потом девятеро возьмут под белы руки и отведут к жениху на съедение… Да, да, он силен и могуч, любая дура мечтала бы о таком муже, но отчего-то не получается укротить язык, и он бежит поперек головы:
– Мы уйдем.
Залом передернул челюстью, отвернулся в окно и какое-то время обозревал двор.
– Знал, что не останетесь. Знал и боялся. Надеюсь, уйдете далеко, еще дальше страны Коффир. Не хочу видеть вас в стане врага.
– Там нас не ждут, – усмехнулась Верна. – Разоренную заставу еще припомнят.
Залом помолчал.
– Пустые не уйдете. Дам золота и лошадей.
– Куда уж больше? – горько вздохнула. Время неумолимо истекает, а Костлявая дразнится, в руки не дается. Дожили! Теперь люди за Безносой охотятся, а та глазки строит, язык показывает.
– Дам! – упрямо буркнул князь и стукнул кулаком по стене. – Даже слушать не стану!
– Нашел своих – княжну, мальчишек? Братцы раскололись?
– Нашел. Заточили в пещеру в предгорье Сизого отрога. При них неусыпно десяток дружинных. Уже послал, скоро прибудут. Семь лет в пещерах… ублюдки!
– А братья?
– Вырежу языки, брошу собакам, самих скормлю медведям… Еще не придумал… Продам в рабство.
Верна быстро взглянула на Залома:
– А как звали того саддхута, чью галеру семь лет по морям таскал?
– Бейле-Багри. Та еще сволочь.
Помолчала, возя глаза по полу. Мутит еще.
– В те края собираюсь. Мир поглядеть охота.
– Вот братцев моих и прихватишь, – криво усмехнулся князь. – Дескать, сбежал один брат, получи взамен двоих. Лишь бы по дороге не сдохли.
– Решил бесповоротно? Братья все же.
– Отец глядит из палат Воителя, сердце кровью обливается. Нет у меня больше братьев, – жестко отрезал Залом. – Да, выходит, и не было.
– Что должно случиться, случается, – пробормотала Верна.
Утром посмотрела в зерцало. Мало того что зуба не хватает, еще и сединой обзавелась, как раз после взятия Бубенца. Что и говорить, жуткая ночь – даром что вышла из убийственной круговерти без единой царапины. Когда еще доведется спать спокойно, чтобы не снилось иссечение десятков и сотен, а в носу не стоял тошнотворный солоноватый запах?
– Сегодня в ночи проводим убитых, своих и чужих. Хотя какие они чужие? Так… заплутавшие бараны, свои же дураки.
– Мы обязательно будем.
– Уж будьте добры. – Залом усмехнулся. Хотел еще что-то сказать, да передумал, только губу прикусил.
Тризнища сложили в поле за городской стеной. Тысячу с лишним погрести – на это уйдет целый день и заниматься скорбным делом придется нескольким тысячам. Снести тела в одно место, заготовить тризные дрова, сложить.
Город не остался в стороне. Старшины концов отрядили по нескольку сот человек в помощь заломовцам, в конце концов, не чужаки погибли – свои. Всех забот на один день, зато потом несколько лет будешь голову ломать: как же так вышло, что свои рубили своих? Братцы-предатели лес валили как простые дружинные.
После заката в округе заполыхало. Верну растрясло, подойти не смогла. Стояла и укрощала дрожь в коленях, поджигать пришлось Гогону Холодному. На каждом тризнище упокоилось восемь человек, спина к спине, свои и чужие. А когда взревело пламя и недвижимые тела объяли лохматые костры, едва не разревелась. Парни ушли, их не вернешь, внутри будто сквозняк поддул. Десятки дружинных, запалив погребальные костры, бросили светочи в пламя и отошли.
Чуть поодаль, в тени деревьев, притихли семеро. Ни пленные, ни мертвые – они застряли где-то посередине, теперь свободные и раненые. Их сочли погибшими, на телегах с остальными павшими свезли в поле, но росяные утренники привели порубленных в чувство, и те с превеликим удивлением нашли себя живыми.
– Что там? – хрипел Зимовик. Встать не мог, так и сидел, привалясь к стволу. Кто-то из возвращенцев от души располосовал сотника чуть выше коленей.
– Костры жгут, – глухо бросил Многолет. – Хорошо, что не отдали воронью на съедение!
– Залом никогда сволочью не был. Если кто и был, только братцы-князья, чтоб им пусто стало. А мы – дураки.
– Жизни осталось на один вдох, а ты гляди, разговорился! Что же ты присягал сволочам?
– Я же говорю, дурак. Надоело в десятниках сидеть. Но и сотником побыл недолго. Видишь, как изукрасили. – Зимовик, горько усмехаясь, показал на ноги. Порубленные мало не до кости, они безжизненными колодами покоились на лапнике. – Вылез в первую тысячу, и где она теперь?
– На костре полыхает, – угрюмо бросил Прихват. Ему досталось по ребрам, кожаный доспех только смягчил рубящий удар, но несколько ребер как пить дать треснули. – Не свезло парням. Заломовцы ровно с цепи сорвались!
– Если твою шкуру семь лет плетью гладят, еще не так обозлишься, – хрипнул Горностай. Страшным ударом ему разбило грудь, в правой половине зияла сквозная дырища, оттого и кровавый хрип. – А тот жуткий десяток, наверное, волчьим молоком вскормили. Я видел, как они прошли две сотни перед княжеским теремом, ровно горячий нож кусок масла. Возвращенцы налетели, точно бешеная стая, думал, зубами рвать будут.
Многолет заскрипел зубами, встал. Перед глазами полыхнуло. Хорошо в ствол уперся, иначе рухнул бы. Жуткий десяток – правильно сказал Горностай. Уму непостижимо, как молниеносно они взломали боевой порядок… Так ветерок находит щель, вода проникает в малейшую трещину, а сам себе показался до того неповоротливым, ровно медведь в гончарной лавке. От удивления рот раскрыл, а трех десятков как не бывало. Лежат, стонут. А потом те в душу полезли…
– Ратник долго терпел, – усмехнулся Зимовик. – Семь лет. Парни приняли жуткую, но быструю смерть, мы обречены на жуткую и медленную.
– Погоди, не торопись, – буркнул Многолет. – Нам бы только повозку раздобыть. В Черном лесу укроемся. Переведем дух.
Несколько человек на траве почти не подавали признаков жизни, еле дышали, тяжело сглатывали и стонали.
– В Черном лесу, говорят, ворожец от людей прячется.
– Видать, не самый смирный, если прячется.
– Такой же черный, как лес. – Многолет хрипло закашлялся, горлом пошла кровь. – Друг друга стоят…
Ночами длинная телега для извоза бочат, влекомая смирной лошадкой, неспешно катила на восток, днями печальный поезд отстаивался в лесу. В пути «на козлах» друг друга меняли Зимовик и Горностай. Оба не могли сидеть, впрочем, для возницы гораздо важнее умение жестко править. Иногда раненые, «не сговариваясь», отпускали сознание, телега казалась безлюдной, крепкая рука не тянула вожжи, и лошадь, обеспокоенно косясь назад и всхрапывая от запаха крови, брела сама по себе.
На третью ночь кобылка свернула с дороги, и повозка долго мяла колею в полевых травах, к утру подъехала к заповедному лесу и встала перед непроходимой черной стеной. Многолет спрыгнул наземь, даже не спрыгнул – рухнул. Перевалился через борт и упал в траву. Какое-то время лежал, будто мертвый, затем все же поднялся.
– Эй, Зимовик… Прихват… Горностай… – одного за другим окликнул товарищей.
Соратники зловеще отмолчались. Хорошо бы посмотреть, живы или отдали концы, но много ли насмотришь, если в глазах двоится, а сам держишься за телегу, дабы не упасть? С трудом отлепился от борта, встал ровно и задрал голову. Небо синее-синее, облака белые-белые… до чего красиво. Только откуда в небесах красные пятна, а как моргнешь, летят куда-то вдаль, будто птицы?
Сделал шаг, другой. Над раной мошкара вьется, и душок занялся; хорошо оздоровление – баклажка крепкого питья, влитая в ножевую дыру. Там что-то мерзко хлюпает и плачется розоватой пеной. Хоть бы тропка вилась, подсказала; бредешь наугад, сквозь красный туман. Болтали, у черного ворожца зверье в подручных, кто говорил – волк, кто – кабан, иные несли полную чушь, дескать, медведь слушается человека.
Где искать того, о ком не знаешь ровным счетом ничего? Как далеко зашел в глубь жуткого леса? Показалось или на самом деле чаща сделалась темнее, непролазнее? Вот-вот могучий рог Воителя затрубит последнюю битву, и для Белого Света станет сражение с Тьмой. Где меч?.. Многолет зашарил по боку, нащупывая рукоять, зашатался, и лишь труха поднялась в воздух, когда беспамятное тело плашмя легло наземь.
Не терем, не избушка, серединка на половинку. Ни высока, ни приземиста, стены сложены из неохватных бревен, окно вырезано под высокого человека, внутрь льется дневной свет. Откуда свет, ведь деревья плотно закрыли солнце?
Кто-то сильным хватом облапил челюсть и заставил открыть рот. Едва щеки не продырявил ногтями… а может, когтями? Душное, горячее питье полилось прямиком в глотку, и хоть бейся, как зверь в силках, тошнотворное варево не выплюнуть – горло ходит вверх-вниз, даже в пузе горячеет.
Многолет, широко раскрыв глаза, смотрел на хозяина и едва держался в сознании – замерещилось всякое. Будто встал над ним здоровенный медведь, в нос едко шибает зверем, когтищи на лапах длиной с палец, глазки плотоядно сверкают. Ровно в Душу глядят, осмысленно и зорко. Проваливаясь в блаженное забытье, Многолет спросил богов: откуда у медведя человеческий хват, ведь не пальцы у чудовища, а когти? Мог и шею свернуть…







