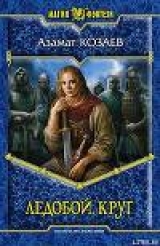
Текст книги "Круг"
Автор книги: Азамат Козаев
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 35 страниц)
– Подскочил? Чего не выспался? Не самый легкий день предстоит.
– Выспался, – буркнул Сивый. – Мать снилась.
– Видел?
– Да. Только неясно, ровно в тумане. И глядел на нее снизу вверх.
Стюжень присел рядом.
– Волосы густые, добрые, пшеницей отливают. Покров лазоревый, платье белое. Лицо… лица не видел. Хочу присмотреться и не вижу. Туманом заволакивает.
Ворожец развел руками. Что тут поделаешь? Парни уже встали, бегали на море, плескались. Теперь деловито сновали по двору.
– Пора. – Старик хлопнул Безрода по колену и первым поднялся со ступеней.
– Пора, – согласно кивнул. Спустился с крыльца, бережно поднял плащ и вышел вон со двора.
Друг за другом походники нырнули в пролом, Гюст нес горшок с углями, Расшибец – промасленные светочи. У тризнища Безрод остановился, задрал голову к небу, что-то прошептал и, Шагнув ближе, положил останки на край дровья. Одним рывком взлетел наверх и, развернув плащ, разложил кости, как лежал бы человек на погребальном костре. Последний раз погладил мать и выпрямился. Нахмурился. Что говорить?.. Как безмерно ее любил? Увы, не было любви, не случилось. Вывернута безжалостной судьбой, ровно дуб-исполин в кромешную грозу, только ямища от той любви и осталась, всякий раз спотыкаешься, как мимо ходишь. Сказать, как хотел жить ради близкого человека и защищать? Всякий хочет, если не дурак. Как не хватало понимающего слова и глазел туда-сюда, по крупицам собирая из воздуха чужую мудрость? Все и так понятно. Молча достал нож, пустил себе кровь, и оставил на черепе кровавую отметку. Выйдет мать из тени, где блуждала много лет, ступит в небесный чертог, погребенная как положено, и скажет: «Сын у меня есть, вот видите! Сын у меня есть!..»
Гюст подал зажженный светоч. Безрод спрыгнул и запалил дровье. Все, полыхает.
Ночью шли по звездам, благо небо выдалось чистое и безоблачное. Ветер трепал парус, ладья шла на запад, и к утру из морских вод поднимется Скалистый остров. Верна хотела уснуть, думала, что спит, а вышла только полудрема. Дрыгала ногами, отмахивалась от кого-то руками, стонала. Бабы говорили на отчем берегу, будто накануне свадьбы так же не спится, колобродит в груди, словно буря бушует. Год на исходе. Спросить бы у кого, отчего так получается, что все сбегается воедино и разрешится лишь за несколько дней до истечения последнего, урочного дня?
– Подходим! – разбудил Маграб. Казалось, только что улеглась на палубу под овчинную верховку, и вот поднимают. Уже утро?
Вставало солнце, разрумянило небо. Проснулся и ветер, потащил корабль.
– Гляди вперед, земля! – крикнул кормщик. Слава богам, дошли благополучно. Впрок деньги пойдут.
Верна умылась, прополоскала рот соленой водой, потянула из мешка зерцало. Волосы заплетены в косу, глаза в тенях усталости, лицо бледновато, а в общем ничего. Можно показаться на люди.
Оглядела каждого из семерых. Молча правят оружие, спокойно, без суеты. А у самой руки затряслись. В детстве подвешивали на веревочке куклу и закручивали до предела, а когда отпускали, веревочка, убыстряясь, раскручивалась, и несчастную игрушку било, вертело и трясло. Веревочка внутри раскручивается, конец близок?
– К пристани править, что ли?
– Да.
Стоит у причала граппр – наверное, Безродов. Кому еще тут быть? Кормщик подвел корабль к мосткам, встал чуть дальше, и мореходы, ссыпавшись на берег, веревками распяли грюг меж столбов.
Семеро и Верна сошли на пристань, свели лошадей и, не оглядываясь, пошли в сторону крепости, что стояла на пригорке.
– Так не ждать? – крикнул мореход. – Может, передумаешь? Возьму дешевле!
– Уходи! – не оглядываясь, махнула за спину.
Поднялись по холму, вышли к воротам. Верна все косилась на здоровенный таран, что валялся под стенами. В самой середине ворот зияла дыра, толстенные бревна злой силищей переломило, как соломины. Первым внутрь нырнул Маграб, огляделся, разрешил войти. С трепетом переступила такой странный, негостеприимный порог. Пуста застава, ни души, двор зарос, и отовсюду веет неухоженностью. Обошла кругом, заглянула в дружинную избу и нашла… вещи, мешок с пожитками, кувшин кислого молока. Не Безрода, чье-то еще.
– На поляне. – В избу вошел Серый Медведь, кивнул, приглашая за собой.
На приступке, что подпирала дальнюю от ворот стену, высился Гогон Холодный и смотрел вовне. Показал на восток. Там.
– Выходим, – точно ледышки выплюнула, голос холоден и скрипит.
Из ворот приняли вправо, шли вдоль крепостной стены, пока не увидели на поляне в сотне шагов огромное полыхающее тризнище. И люди вокруг, не то пять, не то шесть. И среди них Безрод, красную рубаху, не стреноженную поясом, трепал ветер.
Ну вот и все…
Часть четвертая
КРУГ
Глава 1
СЕМЬ
Ноги тяжелеют, веревочка внутри раскрутилась непомерно быстро, хотя все это мало похоже на счастливое замужество. Рядом с Безродом стоит высоченный, здоровенный старик, смотрит в сторону крепости, остальные четверо молоды, самых бойцовских лет. Сивый глядит на костер и даже головы не воротит в сторону семерых, будто нет их вовсе.
– Ну здравствуй, беглец! Далеко убежал? – не выдержала, крикнула во весь голос. Хотела степенно подойти, холодно поздороваться и молча потянуть меч из ножен, а не вышло. Веревочка раскрутилась – глазом не уследить – и крутится все скорее.
Безрод хмуро покосился одним глазом, отвернулся к пламени. Стоит, молчит, зубы стиснул.
– Кого сжег, боец? И где Тычок? Неужели преставился шебутной? Сам порешил, что ли? Надоел старик? – Дрянь полезла наружу, успевай воздух глотать.
Сивый бровью не повел, только подошел ближе к пламени, лицо подставил, ровно под теплый летний дождь. Как только волосы не затрещали?
Боец невысокого роста, но широченный в плечах, долго терпел, наконец не выдержал и шагнул к Верне.
– Дай человеку с матерью попрощаться. Прикуси язык. Видит второй и последний раз в жизни!
Крутись, веревочка, трепещи, бейся, кукла.
– Эх, Сивый, мамку не узнал? Расплакался? Слезы у костра сушишь?
Невысокий, коренастый вой, гневно полыхнул глазами, в сердцах плюнул наземь, отошел. Все правильно делаешь, полуночник, и если ты Безродов друг, только радостно за Сивого.
– Жалость какая! Встретились и сразу разлучились. Ей на тот свет дорожка, тебе здесь оставаться. Да и то ненадолго! Хочешь к мамке на ручки, а, Сивый?
Здоровенный старик смотрит исподлобья колко – не понять, злится или смеется. Странное у него лицо – спрятался за морщины да седые брови, никто не поймет, что на уме.
– Поболтать не удалось? Про папку не рассказала? Не ветром же тебя надуло! Должен же быть кто-нибудь!..
Старик что-то сказал Безроду, тот не глядя кивнул. Жаль, не услышала, о чем разговор.
– А где твой ржавый ножичек? Не забыл? Вон за мной семеро молодцов, крови твоей жаждут! Чем отбиваться станешь? Пятками засверкаешь?
Сивый хранил молчание. Едва в струну не вытянулся, руки вдоль тела, ноги чуть расставил, напряжен и сосредоточен. В поле разгулялся ветер, треплет подол рубахи. Играет с волосами, поддувает пламя.
– А чего же ты сбежал тогда, на поляне, когда у нас налаживаться стало? Испугался? Я, конечно, горяча, но разве не смог бы сделать бабу счастливой?.. Неужели сил не хватило бы? А-а-а-а-а… знаю! Статью не вышел! Испугался! То-то Вылега подбил не куда-нибудь – в самое причинное место! Иззавидовался?.. Ну как есть позавидовал! И ведь было чему! Мне ли не знать, что говорю, сама видела! Молод, конечно, Вылег, но своим удилищем воям поздоровее и повыше задел еще как даст! То не жалкий… недоудок, что у некоторых! Жаль только, не вовремя ты…
Старик ожил, сошел с места, валко приблизился и остановился в шаге. Поглядел так-сяк – Верна не договорила, ровно легла на дерзкие уста здоровенная каменная ладонь, – и низко громыхнул:
– Не мечи бисер, красота. Выйдет он биться. Пусть костер отгорит. Видишь, дымок столбится над пламенем?
Не говоря ни слова, кивнула. Запыхалась. Будто вокруг крепости обежала несколько раз. Едва дышать не забыла, крутись, веревочка, вертись, кукла. Тяжело бросаться грязью, та с непривычки выходит потяжелее камня. Старик смотрит прямо в глаза и не отпускает, хочется глаза опустить, а будто не дает что-то.
– Человек ввысь уходит, прощается. Немного осталось. Потерпи.
Не стал ругать-разоряться, дескать, закрой рот, дурища. Сказал – отошел. Кажется, ухмыльнулся.
Сивый встал еще ближе к огню и стоял до тех пор, пока дровяная кладка не обвалилась. Догорела и осыпалась. Безрод закрыл глаза, потянул носом и лишь теперь повернулся. Верна тяжело сглотнула. Видела его всяким – хмурым, непонятным, загадочным, но кто это отвернулся от погребального костра? Возьми уголь, нарисуй на чистой доске лицо, подойди ближе. Раскрой рот и обложи рожицу в тридцать три колена да с присвистом, да с придыханием. И сколько иголок с языка ни сорвется, нарисованный человек останется невозмутим. А Сивый еще хуже! На отчем берегу жил ваятель Чертан, топором, молотом и долотом изо льда рубил изваяния. Как-то вырубил голову человека, хорошо получилось. Девчонкой все бегала смотреть. Глядит на тебя лик, а глаз не поймать. Справа зайдешь – так смотрит, слева зайдешь – сяк. Играет солнце на льду, морочит. А куда смотрит Безрод? Осталось ли хоть немного жизни в этом лице? Ровно то ледовое изваяние, смотришь, ищешь взгляд и ничего не находишь…
– Нашествие, что ли? – удивленно крякнул кормщик грюга, когда вдоль западного побережья уверенно пошла к мосткам ладья. – Медом намазано, что ли?
Рыбацкая ладейка встала у причала, и двое – старик и бабка – сошли на берег, ведя лошадей в поводу.
– Вон, гляди! – Тычок показал на грюг, едва-едва отошедший от пристани, и двух перестрелов не будет. – Это они.
– А может, Безрод?
– Они! – убежденно буркнул старик. – Безродушка раньше всех сюда попал. Двинем и мы, старая?
– Сам ты старый! – Ясна выпрямилась и задрала подбородок. – И помни про лягушку, егоз!
– Где наша не пропадала!
– Туда. – Ворожея заглянула под крышку глиняного горшка, наполовину полного воды. На поверхности плавал седой волос, только не качался, как обычно бывает, если в воду упадет, а показывал куда-то за крепость, прямой, будто натянутый.
– Поторопимся!..
Рядом с Безродом встали трое, да такие, что у брошенной жены в горле пересохло. За эти годы намыкала много несчастий, рядом с девятью исполнилась особого чувства к бедам, и теперь вся звенела и тряслась. Тот, здоровенный, высокий, глядит, прищурив глаза, и там, где у обычных людей плещется чувство… темнеет провал. Второй поджал губы, гладит меч – и не сойти папкиной дочке с места, если не сумеет разменять мгновение ока на десяток резких и молниеносных ударов. Третий что-то шепчет Безроду, и тот кивает; оба неулыбчивые, холодные – глядят, а не смотрят. Умолкли птицы в лесу, стих ветерок, и вывесилась такая тишина, какой, думала, никогда не бывает. Ой, мама, мамочка…
– Убейте Сивого!
То не ветерок поднялся – бойцы рванули друг к другу, у самой вихор выбился из-под шапки, будто порыв налетел. Смотрела во все глаза и, как обычно, не поспевала. Тунтун и Змеелов пошли на здоровяка с глазами в синяках, и в кои веки ровно зерцало перед ними поставили. Гогон Холодный и Крюк налетели на противника, словно ударили камнем в камень – звенит, ревет и грохочет. Маграб на поединщика нарвался – будь здоров, не кашляй; жутковато сделалось, поежилась, точно снега за шиворот насыпали. Год приглядывалась к телохранителям, попривыкла к сумасшедшей быстроте и силище, а теперь голова кругом шла, и творится что-то запредельное. Глазик туда не простереть, носик любопытный не сунуть, словно упираешься в невидимую стену и будто с небес говорится: «Есть они и есть ты. Каждому свое».
А взглянув на Безрода, испугалась. Он всегда такой, молчит, Холодно глядит, а теперь бьется в Запределье – простому смертному туда не ступить, – и хочется крикнуть: «Ты живой или нет? За кого замуж вышла? С кем вещими снами менялась? И когда успел меч схватить, ведь мгновение назад еще не было?..»
Не успела рот раскрыть от удивления, Окунь взревел и, как подрубленный, рухнул наземь, а может быть, действительно Подрубили, в бою ведь дело нехитрое. Сивый, Сивый… за себя боязно, ведь рядом ходила, едва к себе не допустила, а тут непонятно, человек или нет. В клубок сплелись Безрод и Серый Медведь, ровно волки сгрызлись, только мечный звон заметался меж небом и землей.
Не увидела, как, отчего из вихря схватки вывалился Змеелов, на мгновение замер и с блаженной улыбкой рухнул наземь, разрубленный от бока до бока. Уже лежал Тунтун, а здоровяк стоял на коленях подле поверженных соперников и качался, ровно былинка на ветру. Зажимал дырищу в боку и улыбался. Рана смертельна. Ему не выжить.
Маграб неуловимо скоро полоснул противника мечом, сунул нож в подреберье и победил бы, не перехвати полуночник руку с ножом и не разбей головой лицо сухому чернявому мечнику. Оттнир бросил клинок, с обеих рук потряс юркого противника и, вырвав нож из собственного бока, рассек Безжалостному горло.
Крюк уже лежал на земле, а Гогон Холодный и невысокий крепкий воин еще рубились. Порой парни размывались в неясное пятно, и лишь ненадолго, в мгновения напряженного равенства сил, замирали. Верна таскала глаза от одних к другим и потому увидела лишь развязку – Гогон вдруг замер, руки с мечом бессильно опустились, в доспехе разверзлась дыра и порез медленно залило чем-то темным. Коренастый оттнир зашатался, шлепнулся на зад и остался сидеть, оглядываясь мутными глазами. Рана в боку, да такая обширная, что жизнь из нее вылетит скорее, чем саму закроешь.
А когда неистовое мельтешение вокруг прекратилось, Безрод и Серый Медведь замерли, ровно изваяния. У Верны голова закружилась, белый свет поплыл и потянулся, как тесто. Оба замерли в напряжении, один ломал другого, непонятно лишь, кто кого. Сивый посерел, плечи вздыбились, под глазом забил живчик. Серый Медведь трясся, лицо дрожало, ручищи давили Безродовы ребра, и непонятно делалось, каким чудом Сивый еще держится в звериной хватке порученца по особым делам князя Озерного края. Раздался громкий треск, гораздо более зычный, чем можно было ожидать. Будто сук треснул. Серый Медведь обмяк, ручищи сползли с тела Безрода, повисли ровно плети, голова задралась в небо, и пустыми глазами здоровяк уставился в небо. Сивый зашатался, разъял руки, выпустил противника из хватки, и тот повалился на траву.
Могучий старик присел около полуночника, что срубил Крюка и Гогона Холодного, гладил по голове и что-то говорил. Невысокий оттнир, что перед боем стыдил Верну, смотрел куда-то в сторону крепости, Безрод, пошатываясь, разворачивался к бывшей жене. Ну вот и все. Потянула из ножен меч, улыбнулась, крикнула:
– Ты готов?
Смотрел молча, кривился. Кажется, не слышал и не видел, грудь с правой стороны залило кровью, и оставалось догадываться, как велика рана, если кровь течет столь широко и обильно.
– Второй раз встаем друг против друга, и, наверное, последний.
Безрод не ответил, еле стоял и шатался. Облапил рукоять меча, что торчал вонзенный в землю, и потянул на себя.
– Ну же, подними меч! Вот и все! – крикнула, вздернула клинок над головой, закрыла глаза и ринулась вперед.
На этот раз повторения истории у Срединника не последует. У Безрода хватит сил на один-единственный удар! И вдруг, откуда ни возьмись, раздался топот копыт, со спины закричали, мощно обдало конским запахом, и меч, не встретив сопротивления, отведал плоти.
Кто-то вскрикнул, только вовсе не Безродовым голосом, рухнул под ноги, всхрапнула лошадь. Верна открыла глаза, увидела Сивого – стоит, качается, – а в ногах покоится… Тычок, и на спине старого егоза расплывается кровавое пятно. Много крови сегодня, слишком много. Лицо Безрода неуловимо изменилось, ледяное изваяние обрело взгляд, и тяжеленная ладонь выгнала дух вон из папкиной дочки…
Стюжень баюкал сына до тех пор, пока полуночник не отпустил дух Залевца. Бережно положил наземь, сложил руки на груди, закрыл глаза. Улыбнулся. Расшибец умер легко, дождался крепкого рукопожатия от «старшего брата», откинулся на спину и со счастливой улыбкой перестал быть. Дольше всех задержался на этом свете Брюнсдюр. Гюсту Стюжень крепко-накрепко запретил бросаться в схватку, несколько раз удержал за руку, и теперь кормщик, стоя на коленях, держал голову храброго воя на бедре.
– Нечасто простому смертному удается помереть дважды, – прохрипел оттнир. – Мне удалось. И тем более нечасто случается драться с такими противниками плечом к плечу со стоящими бойцами. Я счастлив!..
Безрод кивнул. Подступал озноб; начинало поколачивать зябкой дрожью; волнами, ровно ветер по заливному лугу, пронеслись по телу несколько судорог. Возвращается великий холод, к вечеру станет невыносимо.
– Я кое-что вспомнил… не знаю, ко времени ли. – Брюнсдюр хрипел, на каждое слово копил силы. – Крест… помнишь, крест в пещере… твоя мать…
Сивый кивнул.
– Карты… лед… кресты.
Гюст нахмурился, ворочая мыслями, наконец ругнулся вполголоса.
– На морских картах мы косым крестом обозначаем воды, где по морю ходят… – кормщик запнулся, – …корабли Исотуна. Громадные льдины…
– А ведь верно! Горные ледники володеи и понежен также метят на картах косыми крестами. – Подошедший ворожец оглядел всех по очереди. – По эту сторону моря лед обозначают тем же косым крестом. Эх, я, старая башка, мог бы и вспомнить!
Ворожцы слета распознали один в другом птицу своего полета и молча склонились над стариком.
– Как только успел? – Бабка с трудом держала голос «сухим». – Едва увидел побоище, вскочил на Востроуха и – лови ветер!
– Под самый меч сунулся. – Верховный щупал живчик на шее баламута. – Отчаюга. Тряпки! Живо!
Гюст кивнул, осторожно передоверил Брюнсдюра Сивому и рванул в крепость.
– Повезет, если жив останется, – скрипнула Ясна. С трудом держала слезы. – Уж так любил старый егоз Безрода, жить не мог! Не захотел отсиживаться в тепле и покое. Сначала Гарька, теперь вот он…
Говорила тряским голосом и глядела на Безрода. Сивый мрачно кивал: продолжай, бабка Ясна.
– Не выдержал, заставил ворожить, мол, из-под земли достань мне Безродушку. Избу на коленях облазил, двор по камешку просеял, а волос твой нашел! И вот поспел…
Скончался Брюнсдюр. И едва отлетел к небесам последний вздох ангенна полуночников, небо над полем брани потемнело, упал странный туман, и каждое слово зазвенело в молочно-белой дымке высоко и зычно, ровно клинок бьется о клинок. Догорал костер – схватка заняла всего ничего, но в эти мгновения канули десять душ. Безрода первый раз крупно сотрясло. Прибежал Гюст.
– Держишься, босота? – Стюжень тащил из мешка полосы льнины, Ясна, достав из седельной сумы травы, раскладывала неподалеку.
– Да, – хрипнул Безрод.
– Я девочку посмотрю. – Ворожея подсела к Верне. Послушала дыхание, оттянула веки, поджав губы, вздохнула. – Потряс ты ее. Ровно дубиной оглоушил! Глаза кровью нальются, синяками изойдут.
– Дадут боги, старик останется жить. – Верховный, закрыв рану полосами ткани, с помощью Гюста ловко перемотал Тычка. Шить все равно придется, только уже на заставе. – Рад, босяк? Что станешь делать?
– Что? – Сивый усмехнулся, опираясь на меч, встал, подошел ближе. – Убью.
– Кого? – не поняли Стюжень и Ясна. Подняли на Безрода глаза, полные тревоги.
– Если Тычок не выживет, убью дуру.
– Как убьешь?! – опешили старики.
– Не знаю, – холодно пожал плечами. – Сердце вырву.
Ворожцы мрачно переглянулись, Гюст поджал губы, Безрод, отвернувшись, медленно пошел в сторону крепости, шатаясь и спотыкаясь через шаг.
Раненых перенесли на заставу, Тычка на руках нес кормщик, Верну – Стюжень. Ясна вела в поводу лошадей. Первым делом верховный зашил Безрода – рана оледенеет, станет поздно, – и сидел тот на колоде у поленницы, окатывал двор невидящим, «прозрачным» взглядом и время от времени прикрывал глаза. Накрыли овчинной верховкой, и все равно зубы стучали, чувствовал – схватывается ледок.
В дружинной избе Тычка напоили отваром, сменили повязку, заштопали и развезли по шву травяную кашицу. Ясна, взяв Тычка за руку, зашептала наговор. Стюжень мешать не стал. Верну тошнило, кружилась голова. Она уже пришла в себя и требовала себе не меч, но меча. В грудь.
– Права бабка, сотряс тебя Сивый. – Усадив ее на лавку против окна, Стюжень заглядывал в глаза, показывал пальцы, требовал сосчитать. – Скажи спасибо, что не убил.
– Не для того сюда пришла, чтобы в живых оставаться, – буркнула, едва не падая. – Сильно я Тычка?
– От души.
– Выживет?
– Не знаю.
– Если не выкарабкается, жить не стану.
– Сивый тебя сам прикончит, – буркнул ворожец. Плохо или хорошо – знать должна.
– Почему не убил?
– У него спрашивай.
– А он жив?
– Да.
– Ты кто, старик?
– Мимо проходил, интересно стало.
– Ворожец?
– Да, ложись.
– Напои меня отравой покрепче.
– Спи.
За полдень ворожцы подошли к Безроду. Тот все так же сидел на колоде у поленницы под присмотром Гюста.
– Верховку долой.
Сивый еле открыл глаза. Немилосердно тряс озноб, кормщик по знаку Стюженя убрал верховку. Ясна прикрыла рот кулаком, ужас плескался в глазах ворожеи. Никогда не видела парня без рубахи, и увиденное старуху потрясло. Боги, божечки, весь из жил и шрамов, сам сух, а ручищи будто медвежьи лапы, покрыт гусиной кожей, волосы на груди встали дыбом. А рана… Ясну потянуло присесть, голова закружилась. Края схватились белой корочкой, кровь подмерзла, ворожец ковырнул ногтем, отколупал красный ледок, что сломался с гулким треском. Безрод открыл глаза.
– Держишься, босяк? – Верховный осторожно замыл кровь.
– Держусь, – выстучал зубами.
– Печь готова?
– Поддерживаю огонь. Хоть сейчас определяй в пекло! – кивнул Гюст.
– Спросить бы еще раз, правильно ли делаем, только не осталось времени, – улыбнулся верховный. – Давай-ка поднимайся, запеканец!
Безрод с трудом отлепился от колоды, обтирая плечом дровницу, пошел вперед, и когда та кончилась, шатко встал. Капли, что остались на теле после омовения, замерзли. Разок Сивый обернулся, и ворожея вскрикнула. Грудь будто ледяным панцирем схвачена – ледничок на груди, подмерзшие потеки на животе.
– И спина такая! – прошептала Ясна. – Вся в шрамах! Где же тебя так?
– Потом расскажу, – буркнул Стюжень. – Пришли.
Гюст забежал вперед, боевыми рукавицами ухватил заслонку, отодвинул, закинул дрова, поддал жару. Безроду Стюжень помог опуститься наземь, разоблачил и задвинул в дымоход, ровно сырой пряник.
– Сгорит ведь, – упавшим голосом прошептала Ясна.
– Оледенения тоже не должно быть, но ведь есть. Остается только ждать…
Павших проводили, и тех и этих. Верна сама зажгла огонь под семью. Краше на тризнище парни лежали – качалась, глаз почернел от крови, вокруг синячище с кулак. Окунь походил на Белопера – лицо изъедено, плоть истлела и сползла, кости рассыпались. Не лицо, а гниющий провал. Безрод хитер и опасен. Кровь, что пустил на тризном костре матери, собрал в ладонь, ровно в чарку, и полной пригоршней угостил телохранителя. Понятное дело, отчего лица на том не стало.
– Пусть успокоятся ваши души, – будто осиротела. Пусто стало вокруг и непривычно.
Под Залевцом, Брюнсдюром и Расшибцом огонь зажгли Стюжень и Гюст. Ворожец улыбался и смотрел куда-то ввысь, куда поднимался дым. Ветер стих, не гонял дымный столбец по полю, и тот прямиком, ровно корабельная сосна, уходил в небо.
Безрод в печи не подавал признаков жизни, все так же лежал, свернувшись, как младенец, и лишь изредка постанывал. Время от времени его колотило, била оземь судорога. Ясна подолгу сидела рядом, вглядывалась в темное от пота и копоти лицо и всякий раз поправляла мокрую тряпицу, что занавешивала дымоход, вроде бармицы, и давала дышать чистым воздухом. Пятую тряпку сменили, все сгорели. И шестая сгорит.
Тычок все так же лежал. На второй день пришел в сознание и первым делом спросил об исходе поединка. Ясна гладила старика по голове и будто впервые видела – смотрела с непонятным выражением на лице и отвечала на вопросы невпопад.
– Что? А-а-а-а… наши победили.
– Стало быть, не один Безродушка вышел на бой? Нашел дружину?
– Нашел. Троих, один к одному. Расшибец, Залевец и… Брюнсдюр, кажется.
Старик утих, и ворожее показалось – даже дышит через раз.
– Так ведь померли все трое.
– Я потом расскажу, лежи.
Два раза в день, как по заговоренному, Тычку становилось хуже, поднимался жар, выкатывала испарина, и ворожея тревожно хмурила брови.
– Простой ведь меч, так не должно быть!
– Простой ли? – Стюжень покосился на открытую дверь, в проеме которой была видна Верна. Ее ровно тянуло к печи, и едва вставала Ясна, на чурбак садилась битая. – Сколько девка с потусторонниками якшалась, против желания могла всякого набраться! Приметила, старая: подле нее трава вянет, вода горчит, в пот шибает? Ты бы не отходила далеко от Безрода, ему и так досталось.
Ясна кивнула и все чаще бывала у печи. Каждый день в закатных сумерках Стюжень вытаскивал Безрода, оглядывал раны и хмуро качал головой. Оледенение стало в два пальца, шире не пошло, только и меньше не делалось. И самое удивительное – не угорал. Минул седьмой день после битвы, верховный с тревогой ждал девятого дня.
– Говоришь, на девятый день ушло оледенение? – как-то спросил Тычка.
– Ага, – выдохнул старик. Только что ушел приступ дурноты, балагур мало-мало ожил. – Гарькина душа вверх вознеслась, и все поправилось.
– Залевец, Расшибец, Брюнсдюр, на вас надежда, – буркнул ворожец под нос.
Друг друга меняли с Гюстом у поддувала. Благо умная мысль озарила кормщика – приспособил под это дело ножной гончарный круг. Полегчало с третьего дня, как все наладили.
– Напои меня отравой покрепче, ворожец, – раз в день просила Верна. Глядела вокруг тоскливыми щенячьими глазами и что-то считала, Стюжень как-то расслышал: «Десять дней…»
– Сядь-ка рядом, красота. – Верховный кивком показал на лавку справа от себя. Верна села.
– Рассказывай.
– Что?
– Все. С самого начала. Раньше недосуг было, а тебя послушать, должно быть, презанятно.
Открыла было рот, потом задумалась и сцепила зубы.
– Не буду!
– Дура.
– Знаю. Упои меня отравой покрепче, ворожец.
Стюжень мерно давил ногами досочки, что Гюст хитроумно приспособил к гончарному кругу. Поддувало, мерно раздаваясь, нагнетало в печь свежий воздух.
– Не хочешь говорить… ладно. Но травить не стану.
– Мне нельзя жить, – прошептала. – Нельзя! Я приношу только несчастья!
– Что же такого случилось, если смерти ищешь, как голодный – хлеба?
– Не скажу!
– Ты упряма, я упрямее.
Молча встала и ушла…
Наступило девятое утро после битвы. Стюжень встал с первыми лучами и, подхватив мечи павших воев, отправился на пепелище. Еще вечером сложил там дровницу, выходил третий костер за последние дни. Преклонил колени, уложил клинки на дровье, зашептал, подняв лицо к небу:
– Лети, душа, в небко, откушай хлебка, отпей бражки из глубокой чашки, точи ножик о кленовый порожек, возляг в уголок на жесткий бочок, сопи, носишко, тихо как мышка, закрывайтесь, глазки, слушай ко сну сказки – протяни ручку, собери свое в кучку, забери до соринки, не забудь ни былинки…
Скинув рубаху, запалил огонь и прозрачным взглядом смотрел сквозь дым на линию дальнокрая. Пламя занялось, остервенело зализало клинки, и последнее, что еще помнило прикосновение воев, скукожилось, почернело, распалось. Кожаная обмотка рукоятей, сглаженная ладонями до блеска, свернулась барашками, обуглилась, осыпалась золой; кость пожелтела, потемнела, затем и вовсе стала черной. Языки жадно плясали на клинках, слизывая темную кровь потусторонников, мечи тускнели, будто умирали, ровно в пламени невозвратно уходило нечто живое, оставляя после себя мертвые сажные лезвия. Стюжень сидел до тех пор, пока мечи не провалились в костер, и весьма это походило на то, как сгоревшая изба складывается внутрь, заваливая в огне упрямых хозяев.
Ворожец шепнул: «Прощай, сынок, прощайте, парни», кряхтя, поднялся на ноги и мерным шагом двинулся в крепость. Наказал и носа на поляну не совать, а если кто углядит костер на месте погребальных тризнищ, пусть сделает вид, что ничего не видел, и вопросов не задает. Только Ясна понимающе кивнула и поджала сухие губы.
Ждал. Ходил по крепости чернее тучи, поглядывал на всех искоса, даже Верна, бродившая последние дни ровно в ступоре, не решилась надоесть здоровенному старику с просьбой об отраве. Стюжень сменил Гюста на поддувале и с особым рвением качал воздух в печь до самого заката, что-то бормоча под нос.
– Ты бы поел, старый. – Ворожея принесла миску с кашей.
– Я безотказный, – буркнул верховный. – Сказано – ешь, я ем. Что у нас там? Пшенка?
– Мешанка. – Ясна передала ворожцу плошку. – Пшенка с горохом.
– Чего только не придумают. – Стюжень зачерпнул каши. – Что думаешь, старая?
– Безрод странный. – Ворожея поняла сразу, о чем речь, присела рядом. – Может быть, и не странный, только другого слова не подберу. Иногда мне просто страшно.
– Мне тоже. – Старик вздохнул. – Помню, еще мальчишкой застала гроза в поле. Сам невелик, от страха глаза велики, ночь в спину дышит, смеркается, и тут как полило! Да не просто полило, а с молниями! Стегают землю через два счета на третий. Раз-два-молния, раз-два-молния. Гром уши рвет, а я, дурачок, стою в чистом поле и шагу от страха ступить не могу. Боюсь молний. Куда ударит? Вдруг сделаю шаг, другой, а туда ка-а-ак шарахнет! Или, наоборот, сойду с места, и туда, где только что стоял, попадет стрела Ратника!
– И что?
– Пока трясся от страха да раздумывал, как лучше поступить, ливень кончился, молнии ушли на запад, небо просветлело. И Безрод такой же. Что скажет – не знаешь, куда ударит – не угадаешь, что внутри делается, какие мысли думаются, – как в тумане. Лишь одно знаешь точно.
Старуха вопросительно покосилась.
– Бьет насмерть, поганец, – улыбнулся ворожец. – Солнце падает… Пора?
Ясна, глубоко вздохнув, кивнула. Стюжень, кряхтя, вылез из-за станка, мгновение колебался, наконец решительно одолел несколько шагов между поддувалом и дымоходом. Снял тряпку, черную от копоти, бросил под ноги.
– Которая по счету?
– А который день, множь на два.
– Дорого, подлец, обходится, – усмехнулся верховный. – Восемнадцать тряпиц извели, и то не ясно, с пользой ли!
За плечи вытащил Безрода, с замиранием сердца перевернул на спину и, тая дыхание, оглядел. Рана обуглена, запеклась кровяной коркой, от сажи сделалось почти невозможно отличить кровь от зольной черноты. Ковырнул пальцем края пореза, снял сажной налет, для верности потер тряпицей. Нигде даже следа льдистой корки, истаяло, ушло.
– Ушло! – мощно выдохнул Стюжень и на весь двор крикнул: – Ушло! Будет жить!
Сивый болезненно застонал, распрямился на земле, и ворожея бросила ему черную тряпку, дескать, прикройся. Безрод приподнялся на тряских руках, с колена встал на ноги и, шатаясь, обвязался.







