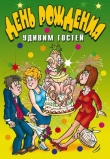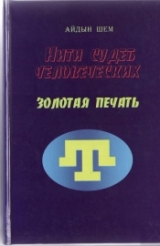
Текст книги "Золотая печать"
Автор книги: Айдын Шем
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 21 страниц)
Глава 11
Камилл практически перестал искать «нормальную» работу, но не по причине того, что прижился в бойлерной, а потому, что понял, что находится в полной безнадеге. Некоторые из его старых знакомых предпринимали попытки повлиять на его судьбу, но на стадии отдела кадров их усилия прерывались. Чтобы не обидеть удрученных товарищей Камилл не отказывался от участия в повторных попытках, но все заканчивалось с неизменным результатом.
Он, в общем-то, внешне спокойно переносил свою отверженность, в частности и потому, что сейчас он общался с такими же, как и он сам безработными высококлассными специалистами. Бойлерная давала какое-то пропитание – то-то, доктор наук, познай, каково «простым людям» в советской стране живется!
Была еще одна причина, по которой он не заклинивался на жалости к себе, отторгнутому официальным научным сообществом. С некоторых пор его упорно занимала мысль о необходимости отыскать продолжение загадочной рукописи, и эта мысль доминировала в его ближайших планах на будущее. В неотступном желании искать рукопись – абсолютно нереальное на трезвый взгляд предприятие! – он видел мистическое указание на существование скрытой возможности это желание осуществить. За неимением другого «путеводителя», Камилл решил ждать указания от ускользающих от анализа интуитивных импульсов, идущих из подсознания, хотя к этому феномену он прежде всегда относился с некоторым скепсисом.
Славная девушка Лейла уехала в Европу, откуда семья, не заезжая на «историческую родину» мамаши, направлялась в Канаду.
Адрес однокомнатной московской квартиры Камилла знали все руководители групп борющегося за свои права народа. Из вполне понятной деликатности они не давали этот адрес каждому, а только выборочно. Конечно, по Москве было у наших людей еще несколько надежных адресов, но, надо признать, некоторая часть крымских татар, поселившаяся в Москве до войны и не прошедшая через депортацию, боялась общаться с приезжающими из мест ссылки земляками – Аллах им судья!
Однажды к Камиллу приехали очень серьезно настроенные ребята из Самарканда. Речь шла о том, чтобы Камилл вошел в ограниченное число подвижников, которые поставили себе целью объединить разъединенные группировки в национальном Движении. Камилл пытался убедить их, что в качестве рядового участника Движения, который содержит нелегальный приют для приезжающих в столицу империи крымских татар, который печатает необходимые тексты на своей пишущей машинке, редкой в личном пользовании в те времена, он приносит пользы больше, нежели если бы вошел в число борющихся между собой лидеров.
– Ну, станет на одного претендующего на главенство человека больше, – говорил он настойчивым друзьям, – кому это надо?
Когда Камилл вел нелегкую беседу с гостями, позвонил по телефону его отец. Узнав о приехавших из Узбекистана со свежими новостями ребятах, он пригласил их к себе. К приходу гостей мама Камилла уже поставила в духовку кобетэ – мясной пирог.
Отец Камилла был рад поговорить с ребятами. Он регулярно получал информацию от своих друзей, проживающих в разных городах Узбекистана, но давно хотел встретиться с молодыми активистами Движения, непосредственно с функционерами. И, как всегда в разговоре с молодежью, он рассказывал о трудно начавшемся в конце девятнадцатого века возрождении нации после жестокого подавления духовных сил народа, длившегося на протяжении столетия.
– Первые просветители нации после захвата Крыма северным соседом, такие великие личности, как Абдураман Кырым Хавадже и Абдурефи Боданинский, поставили одной из своих целей научить наш народ понимать язык колонизаторов. Стало обычным явлением, что русские чиновники или просто помещики подсовывали доверчивым татарам для подписи бумаги, которые те не могли прочесть, и в результатае земли переходили к новым владельцам, а жители вынуждены были эмигрировать. Например, русский помещик просил письменного разрешения у сельской общины пустить на луга попастись своих лошадей. Староста деревни подписывал разрешение, а это оказывалась купчая и на луга, и на пахотные земли, и на сады. Вот так.
Ребята сидели молча под впечатлением услышанного, стесняясь давать волю своим чувствам при почтенном хозяине дома.
– Однако, – говорил старый профессор, – как ни старалась российская власть привести наш народ, как она выражалась, «в полунебытие», этого не случилось. Подкупленные властью муллы усиленно агитировали народ покидать родину. В какой-то мере здоровым национальным силам удавалось приостановить эмиграцию семей из Крыма. «Быракъып миллетни къайда къачарсынъ?» – писал Сеит-Абдулла Озенбашлы. («Куда убегаешь, оставив свой народ?»).
Сделав паузу и отпив из бокала свой любимый боржоми, профессор продолжал:
– Имя великого Исмаила Гаспринского вы, конечно, знаете? – и внимательно оглядел своих гостей.
Ребята согласно закивали, хотя и несколько смущенно, и один из них произнес:
– Терджиман …
– Да, Исмаил Гаспринский, великий просветитель, начал издавать первую в России газету на тюркском языке «Терджиман». Газету читали как свою и в Казани, и в Туркестане, и в Турции. Тысячи подписчиков на «Терджиман» были в Египте, Иране, Индии.
Старый профессор мог многое рассказать о Гаспринском, но это отняло бы не один вечер. После короткой паузы он продолжил:
– Имеется полное основание в один ряд с этими великими людьми поставить Асана Нури, который был человеком, получившим европейское и восточное образование, и принимал участие в большой политике в Стамбуле. После приезда в Крым он оказал большое влияние на Гаспринского, убедив его начать издавать газету. К сожалению, о нем мы сегодня знаем мало. Между прочим, именно деятельность Асана Нури ознаменовала переход духовных лидеров нации от просветительства к политике. Он начал проводить среди татар пропаганду против царской власти, чего Гаспринский себе не позволял из дипломатических соображений. Под его влиянием появились такие деятели, как Решид Медиев, открыто критиковавший царский режим и избранный народом в депутаты Государственной думы от Крыма. Многое стало меняться в начале двадцатого века. Если Абдурефи Боданинский был чистым просветителем, то его сыновья Али и Усеин, уже занимались не только образованием своего народа, но и политикой. После февральской революции семнадцатого года политическая жизнь и в Крыму резко активизировалась. По инициативе Али Боданинского был создан Мусульманский революционный комитет, созван Мусульманский съезд и выбран Крымский мусульманский комитет в главе с молодым политиком Номаном Челебиджиханом.
Слушавшие хозяина дома ребята оживились – имя Челебиджихана было им хорошо известно. Старый профессор с удовлетворением отметил про себя это обстоятельство, улыбнулся и продолжал:
– Да. Девять месяцев до созыва Курултая власть принадлежала Мусульманскому комитету. В ноябре собрался национальный съезд Курултай, председателем которого опять же был избран Челебиджихан. Лидеры нашего народа были воодушевлены открывающимися перспективами развития нации.
Тут старый профессор глубоко вздохнул. Все его слушатели уже знали, что он скажет, но в сердце у каждого таилась глупая детская надежда услышать что-то другое, не трагическое.
– Но в январе восемнадцатого года Челебиджихана арестовали большевики и через месяц расстреляли без суда. Это не было случайностью, это было продуманной политикой против нашего народа, которая завершилась трагедией сорок четвертого года…
Последовало всеобщее молчание, и только было слышно, как на кухне возится с посудой хозяйка дома.
– Но духовные силы нашего народа не иссякли! – воскликнул старый профессор. – В тяжкие сороковые годы я не рассчитывал, что после тотального разгрома, учиненного над нашим народом, новое возрождение наступит так скоро. Теперь я вижу, что ошибался, что страшные события сорок четвертого года сделали меня пессимистом. Да, я знал, что после смерти Сталина должно наступить облегчение всей стране. Между прочим, – он засмеялся, – поводом для моего последнего ареста, который был органами так или иначе запланирован, стал тот факт, что я в присутствии двух свидетелей обращаясь к портрету Сталина, воскликнул: «Я уверен, что после того, как тебя не станет, мой народ получит свободу!». Я был слегка навеселе, да и рядом находились те, кто представлялся очень дружественным ко мне, а оказалось, что один из них специально был ко мне приставлен.
Старый профессор улыбнулся и поспешил добавить:
– Все равно арестовали бы, а тут я хоть высказался! Но, имейте в виду, эти соглядатаи были не из наших. Ни один крымский татарин не давал показания против меня! Да… В отличие от конца тридцатых, когда мое досье распухло от доносов, истинных и ложных.
– Почему же так случилось, почему изменился народ? – спросил один из гостей, и Афуз-заде ответил:
– В сороковых годах в Узбекистане вокруг меня были наши молодые ребята из простого народа. Именно простой народ сохранил присущие крымским татарам благородство и честность. А так называемая элита была в некоторой своей части взращена и развращена коммунистическим режимом – так было не только у нас, так было по всей стране. В Крыму центральная власть бесчинствовала с особенным усердием. Еще прежде среди образованных слоев прошла чистка, лучшие и честнейшие погибли в тюрьмах, или бежали в другие республики и там затаились. Оставшиеся в Крыму, если и не все, то в большинстве своем, были партийными выдвиженцами. Их заранее готовили на места тех, кто неугоден властям… Но не все из них стали подлецами, далеко не все. Однако после тридцать седьмого года на всех должностях были эти выдвиженцы, и мало кто из них в дальнейшем вел себя хоть в какой-то степени независимо – отрабатывали доверие властей. А простой народ оставался приверженным благородным заветам предков.
Он вышел в свой кабинет и вернулся с толстой тетрадкой в кожаном переплете.
– Вот слушайте, что пишет сочувствующий татарам русский политический деятель в газете "Коммерческий Вестник", это в 1896 году: "Видел ли кто-нибудь татарина, просящего милостыню? Он входит в чужой дом только за тем, чтобы попросить работы. Несмотря на крайнее угнетение самые бедные женщины, самые маленькие дети одеты пристойно, нет этих отцовских зипунов, мужицких тулупов на бабах... Простым татарам присуще чувство чести такого же уровня, которое находится в Европе у народов наилучше образованных".
Молодые мужчины внимали словам старого и прославленного своего земляка, стараясь не упустить не слова.
– Между прочим, – профессор отложил тетрадь в сторону и невесело рассмеялся, – между прочим, можно гордиться тем, что ни один из пошедших в услужение к коммунистическому режиму наших литераторов-выдвиженцев не написал произведения, в котором прославлялся бы захват Россией Крыма. Ха, ха! Нет, были, были среди них большие подлецы! Великих наших людей, например, таких, как Чобан-заде, травили, преследовали! На всех, кто честнее и талантливее их, доносы писали. Но на историю родины посягнуть не посмели! Не захотели при всей их подлости. А вы читали романы, написанные представителями некоторых иных, порабощенных Россией народов? Или, может быть, смотрели кинофильмы? Своих ханов и князей поносят, русских представляют как освободителей от ига собственных властителей! Или, например, человека, ставшего прислужником русских и предающего своих, выводят героем, образцом для подражания. Позор! – он опять рассмеялся, на этот раз с гордостью: – А у нас таких не нашлось!
В это время заглянула мама Камилла:
– Сынок, постели на стол скатерть и разложи тарелки, сейчас я кушать подам. Все, наверное, проголодались.
Волнение среди слушателей речи хозяина дома не затихало, ребята обдумывали услышанное, вновь переживая то, что было в какой-то степени им уже известно.
Но вот на столе появился мясной пирог – кобетэ.
– Камилл, – сказал отец, – займись кобетэ.
Не так уж часто посещал Камилл дом родителей, и им явно хотелось увидеть его занимающимся, как прежде, домашними делами.
Гости отправились мыть руки.
Камилл концом острого ножа провел по окружности… Но для того, чтобы непосвященный читатель понял, по окружности чего провел ножом герой нашего повествования, надо изобразить конструкцию мясного пирога, о разделке которого идет речь. Прежде всего, хочу уточнить, что речь идет о конкретном виде кобетэ – катмерли кобетэ. «Катмерли» означает, что из слоеного теста – со всеми вытекающими из этого приятными последствиями.
С чем сравнить этот великолепное творение рук человеческих – предмет вожделения каждого крымского татарина? Не знаю, право! Или вы его видели, или вы его не видели, или ели его, или не ели!
Прежде всего, катмерли кобетэ – культовый субъект крымскотатарской национальной кухни. Чебуреки, вы скажете? Ну, чебуреки – это чебуреки. Это даже не просто объект национальной кухни, это нечто другое! Чебуреки – это символ нормального бытия. Однажды одного татарина спросили, сколькими чебуреками он может насытиться?
– Чибурекке тоймак олурмы? О емиш те о, емиш! – воскликнул он. – Разве чебуреками можно насытиться! Они же как фрукты, как фрукты!
Я думаю, что он имел в виду, что чебуреки можно есть весь день, подобно тому, как можно весь день срывать с веток деревьев вишню или абрикос, яблоко или грушу, и вкушать, вкушать, вкушать…
Но при всей своей символичности чебуреки в некотором смысле банальны. Всем чебуреки известны, все их – хотя бы подделку под тем же названием – когда-нибудь да пробовали. А вот кобетэ, я знаю, доводилось поесть очень и очень немногим из числа тех, чья мама не готовила его для них в детстве.
Кобете – это событие. Чебуреки же – это свидетельство достойного существования крымского татарина. Когда в дом приходит гость, перед ним сразу же ставят вазочку с колотым твердым сахаром, другую с печеньем курабье (нет, это не то, которое продается в магазинах, просто совпадают названия!) и чашечку горячего черного кофе. Не успеет гость допить кофе, а беседа еще не достигла своей вершины, как хозяйка уже вновь суетится у стола и кто-то вносит блюдо с чебуреками (а я помню времена, когда чебуреки подавали не на блюде, а в саны – красивой металлической посуде с крышкой)…
Да, гость еще не успел допить свой кофе.… Однако надо признать, что такая оперативность является непременным достоинством татарской семьи, когда в доме много женщин – мать, жена, сестра или свояченица, а, может быть, забежавшая или специально кликнутая по сему поводу соседка. Одна из женщин спешно просеивает сквозь сито муку, другая чистит лук, а третья прокручивает мясо (а когда-то мясо не прокручивали, а быстро-быстро превращали в фарш двумя ножами – такой продукт был вкуснее!). И вот уже та, что просеивала муку, замешивает тесто на воде и без яиц, но с добавлением двух-трех ложек растительного масла (не все это масло добавляют, а вот Гульзар, жена моего друга Рустема, – всегда!). Тесто должно быть в меру крутым, но не очень – на ощупь оно должно быть подобным мочке вашего уха. Вот и фарш уже готов – согласитесь, что для проворных рук, да при бесперебойно работающем языке, продолжающем еще прежде начатый разговор, на эти дела достаточно и десяти минут. От уже готового теста первая женщина, не прекращая слушать и подавать реплики, отрезает маленькие кусочки, и этих кусочков уже целая горка, и в четыре руки вместе с той, которая почистила и мелко нарезала лук, они подвергает каждый кусочек теста последующим процедурам: тесто между ладоней превращается в недлинную колбаску, эта колбаска свертывается в спиральку, которую сдавливают и отстраняют в другую горку.
А та, что готовила фарш, теперь добавляет в него подсоленную воду, щедро посыпает черным перцем и, конечно, смешивает с луком. Затем пробует жидкий фарш на вкус и присоединяется к тем, кто уже маленькими скалками раскатывает сжатые спиральки в тонкие круглые пластинки, укладывая их под полотенце – чтобы не подсохли. Далее одна из женщин, убедившись, что раскатанных пластинок уже достаточно, прерывает это занятие и наливает в казан масло. Масло очень быстро нагревается, а женщина между тем вытаскивает из-под полотенца эластичную пластинку, ложкой накладывает на одну из половинок жидкий фарш и накрывает другой половинкой, придавливая в этой проворно совершаемой процедуре края сложенной пластинки подушечками пальцев – чтобы сок не вытек. Но придавливания пальцами недостаточно – жидкость потому и называется жидкостью, что она может протечь сквозь любую неплотность. Поэтому кромка теста обрезается вращающимся железным колесиком, и при этом мало того, что происходит надежное слипание краев, а еще полукружие из теста обретает игривое зубчатое окаймление.
Но такое окаймление не самоцель, поэтому отсутствие в хозяйстве специального железного колесика не повод, чтобы не готовить чебуреки – обрезать кромку вполне успешно можно краем обычного блюдца.
И, наконец, одна из женщин берет на себя обязанность жарки чебуреков.
Это ответственный процесс, и каждая татарская женщина в совершенстве владеет им. Сырой чебурек осторожно принимается на ладонь и столь же осторожно опускается в кипящее масло. Если при этом в казане вдруг сильно зафырчало, капли горячего масла взлетают над ним и долетают до вас – отодвиньтесь. Не вмешивайтесь, ибо ничем отвратить маленькую катастрофу вы уже не можете – это через неплотности вытек в горячее масло сок. Но следующий чебурек опускайте осторожнее.
Не мешает проверить, хорошо ли слиплись края других, приготовленных помощницами и лежащих под полотенцем сырых полукружий.
Чтобы эта маленькая, но крайне нежелательная катастрофа не повторилась с вроде бы уже удачно опущенным в казан бледно-мучным полукружием, следуйте следующему правилу: опущенный в масло чебурек довольно скоро должен быть перевернут – приспособьтесь уж к этому сами, действуйте вилкой осторожно, чтобы не проколоть. Почему нельзя долго прожаривать одну сторону чебурека? А потому, что верхняя, не опущенная в масло поверхность, быстро твердеет и становится ломкой, что при переворачивании с большой вероятностью приведет к растрескиванию теста и вытеканию в горячее масло сока – и опять много шума, много брызг, да и чебурек без сока – это не чебурек, а, простите, примитивный блин с мясом. Поэтому как опустили девственный полумесяц в масло, так через двенадцать-пятнадцать секунд переверните его – пока не поздно.
Сами понимаете, что казан круглый, а чебурек имеет форму полукруга, поэтому можно одновременно жарить два полукружия.
Таким образом, первая дюжина чебуреков оказывается на столе уже через десять минут после прихода гостя.
Но в наши времена зачастую в доме, к тому же еще в многоквартирном, без соседей за забором, в наличии оказывается только одна женщина, да и та уставшая после работы. В этом случае – уж не обессудьте! – чебуреки на столе могут появиться не ранее, чем через час, а то и полтора.
Но я увлекся рассказом о чебуреках – каждый поймет и простит. При всем при том катмерли кобетэ не в меньшей степени заслуживает внимания, уверяю вас.
Итак, замешивается обычное тесто, такое же, как и для чебуреков, но можно вбить в него пару яиц – хуже не будет. На этот раз длинной скалкой раскатывают тонкий пласт на весь стол. Если точнее – диаметром в полметра. Делают четыре-пять таких пластов. Затем намазывают первый пласт жидким топленым маслом, накладывают сверху второй и тоже смазывают тем же маслом – щедро! Когда сложены все пласты, концом ножа разрезают эту многослойную конструкцию по спирали. Видели вы когда-нибудь фотографию знаменитого Фестского диска с нерасшифрованными критскими письменами? Вот вам подсказка, как надо разрезать многослойное тесто – точно такая спираль, начинающаяся от края, идет по этому диску до его середины! Далее надо приподнять край спиральной полосы и начинать свертывать эту полосу до центра – получиться неровный цилиндр. Этот цилиндр надо разрезать на две части, так, чтобы одна была примерно в три раза меньше другой, затем сплющить эти части и раскатать по диаметру круглого противня, в котором вы собираетесь печь кобетэ.
Примечание: я, вообще говоря, не любитель магазинных полуфабрикатов, но использовать магазинное замороженное слоенное тесто для кобете вполне допустимо – хорошо получается.
Теперь о начинке. Средней жирности баранину нарезать маленькими, размером с фундук, кусочками, добавить нарезанный лук и варить в небольшом количестве воды до полной готовности. И не забыть о черном перце, о соли, разумеется. Полученный крепкий бульон, консоме по иностранному, остается в некотором количестве в кастрюльке, а кусочки баранинки выкладываются на уложенное в противень раскатанное до толщины в один палец слоеное тесто. Сверху нарезают кругами сырую картошку, подсыпают немного соли, облагораживают молотым черным перцем и заливают, но не до краев, бульоном. Сверху накладывают потоньше раскатанный меньший кусок теста и пальцами двух рук соединяют края «крышки» и «поддона». Умелые пальцы хозяйки так закручивают края, что по окружности появляется прямо таки архитектурной красоты бордюрчик! Он потом запечется, станет румяным и будет дразнить аппетит сидящих за столом…
Если вы собираетесь печь кобетэ в тандыре – в земляной печи, раскаленной добела, то в середине крышки пирога надо двумя пальцами отщипнуть тесто и сделать маленькое отверстие, напоминающее по виду пупок – для выхода паров, бурно зарождающихся при высокой температуре. Если же вы собираетесь использовать электрическую или газовую духовую печь, то никакого пупка в крышке делать не надо – не та атмосфера.
Не могу сдержаться, чтобы не заметить, что испеченный в тандыре кобетэ отменнее испеченного в духовке.
Вы скажете, что я углубился в детали? Но именно в деталях кроется смак.
Подаются к кобетэ чашки с крепким бульоном-консоме.
Но вернемся к столу, на котором в ожидании окончания моего лирического отступления на тему о шедеврах крымскотатарской кухни, остывает на красивом фарфоровом блюде конкретный катмерли кобетэ. Между прочим, хорошо, что остывает, ибо едят его отнюдь не вилкой и ножом, а пальцами. Пальцы же – неважно, нежные или огрубелые – не стоит обжигать…
Так вот, Камилл концом острого ножа провел по окружности пирога вплотную к бордюру, снял крышку и, разрезав ее на части, положил каждому на тарелку. Теперь каждый мог ложкой брать из раскрытого пирога начинку, класть на свою тарелку и есть, поддевая вилкой, закусывая кусочком крышки и запивая консоме из чашки.
Когда эта часть кобетэ была съедена, пришел ожидаемый многими момент, когда Камилл стал отламывать кусочки от края пирога с поджаристым бордюром и предлагать их трапезничающим. Наконец, такому же расчленению – но уже с помощью ножа – подверглось дно кобетэ с остатками на нем кусочков мяса и картошки…
Во время еды разговор продолжался. Один из гостей уныло заметил, что, мол, к сожалению, нет у нас материальных свидетельств былого нашего могущества.
– Почему не строили наши ханы и мурзы каменных дворцов, как строили в других европейских странах? – он развел руками. – Один только Хан-сарай…
Удивлению и возмущению старого профессора, казалось, не было предела.
– Как!? – воскликнул он. – Вы, оказывается, совершенно неграмотны! Чем вы занимаетесь во время приезда в Москву? Я вам советую немедленно бежать в Библиотеку имени Ленина и посидеть там за книгами об истории Крыма!
Потом он немного успокоился, с жалостью глядя на сконфузившегося молодого человека и на его друзей.
– Да, – промолвил он, – я понимаю, что эти знания вам никто не давал. Напротив, вас всячески ограждали от этой информации.
Он встал из-за стола и опять вышел в свой кабинет, откуда вернулся со стопкой библиографических карточек:
– Вот, здесь названия некоторых книг из «Ленинки» и Исторической библиотеки. Тут и библиотечные шифры указаны, – он положил стопку на журнальный столик. – Потом перепишете.
После трапезы все опять перешли на диван и кресла.
– Да, вы врачи и инженеры, откуда вам все это знать, тем более в условиях ссылки, – грустно продолжил он разговор. – А между тем на нашем Полуострове было немало городов с замечательной архитектурой. Крупнейшим городом Крымского ханства была Кефе, нынешняя Феодосия. Этот великолепный город населяло 100 тысяч жителей. Из-за великолепия дворцов, мечетей, медресе его именовали Кючюк Истанбул – Малым Стамбулом. А Солхат, теперешний Старый Крым? Хотя этот город в последние столетия не был столицей, но здесь находился роскошный ханский дворец, разобранный по указу Екатерины и вывезенный в Россию. А сколько там было учебных заведений, мечетей, караван-сараев! А мой родной город Гёзлев, нынешняя Евпатория? Двести лет назад это был порт международного класса, его гавань вмещала 200 крупных судов. Сегодняшний город Евпатория страдает, как вы знаете, от недостатка воды. В ханские же времена Гёзлев славился своими фонтанами, глубокими колодцами, банями. Да и в моем детстве о нехватке воды я не слышал. Все усугубилось после того, как Крым остался без своего коренного населения.
Старый профессор взволнованно замолчал. Камилл налил в стакан отца холодный боржоми тот выпил и продолжал:
– Воспетый в наших песнях Карасубазар…, – он остановился и обратился к сыну: – Как его сегодня эти называют?
– Белогорск, – быстро вставил один из гостей, и не все слушатели догадались, что рассказчик знает это новое название, но не хочет его произносить.
– Да, – профессор сделал еще глоток из своего стакана и вытер губы салфеткой. – Что-то они часто производят свои названия наших городов от слова «белый». Так вот, Карасубазар, который мы часто называем просто «Карасу», также славился своими великолепными мечетями и караван-сараями. Еще он был известен своими мастерами, изготавливавшими ценимые во всем мире изделия из металлов, драгоценных камней, кожи, дерева. За удобные и красиво отделанные карасубазарские седла и на Западе, и на Востоке платили большие деньги. Еще в Карасу добывали высшего качества селитру, из которой на пороховых заводах в Кефе изготовляли порох, разные, сложные по тем временам, боеприпасы. Крымские купцы торговали в Европе не только боеприпасами, но и оружием. Татарские мастера изготовляли многие виды огнестрельного оружия, особенно славились качеством бахчисарайские карабины.
– А как относилось к торговле оружием тогдашняя ООН? – улыбнувшись спросил один из ребят.
– Тогдашняя ООН – это наиболее сильные и воинственные государства, – серьезно ответил рассказчик. – А раз воинственные, то торговля оружием считалась большой честью. Но и в мирном производстве Крым наш был на передовых позициях. Крымские шелковые и льняные ткани мало в чем уступали дальневосточным или французским. А вина крымские? Представьте себе, что даже в странах средиземноморья, которые сами производили вино, наше, крымское, считалось элитным.
Гости были восхищены услышанным, а профессор, между тем, продолжал:
– Да, и об этом вы можете прочитать в тех книгах,– он указал движением головы на лежащие на журнальном столике карточки, – которые вам в библиотеке принесут в течение одного часа. Я не назвал вам всех даже самых крупных городов Крымского ханства. Зачастую архитектурой своих строений и изделиями ремесленников славились даже небольшие крымские селения.
– Наш народ и наши религиозные старшины, очень доброжелательно относились к представителям других религиозным конфессий. Некоторые крупнейшие христианские монастыри в Крыму были построены по прямому указанию ханов на деньги казны. У нас в Гезлеве, то есть в Евпатории, старшины мечети Джума Джами, построенной великим архитектором Синаном, безвозмездно отдали часть принадлежащей мечети территории на постройку православной церкви. Ведь Коран прямо наставляет уважать уверовавших в Писание.
Профессор снял с полки Коран в переводе Крачковского:
– Вот слушайте. В суре второй сказано: «поистине те, кто уверовал, и те, кто обратился в иудейство, и христиане, и сабии, которые уверовали в Аллаха и в последний день и творили благое – им их награда у Господа их… … Мы не различаем между кем-либо из них… Аллах друг тех, которые уверовали: Он выводил их из мрака к свету».
…Если кто-нибудь из читающих эти строки подумает, что старый профессор Афуз-заде разговаривал со своими гостями на русском языке, тот глубоко меня обидит!