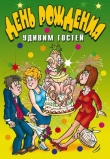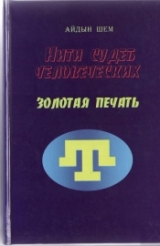
Текст книги "Золотая печать"
Автор книги: Айдын Шем
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц)
– Закуришь?
Некурящий Керим взял сигарету, стоящий рядом мужчина чиркнул зажигалкой. Лениво переговариваясь на неопределенную тему мужчины дружно пускали дымы, когда вышла во двор хозяйка дома.
– Чего это вы в темноте стоите? – она чиркнула выключателем и двор осветился стопятидесятиваттной лампой. – Садитесь за стол, ужин готов, сейчас постелю скатерть.
Стол располагался здесь же у обвитого виноградной лозой забора. Прохладный ночной ветерок отнес запах табачного дыма в сторону темных деревьев сада.
В ту ночь Керим долго не мог уснуть. Он думал о том, как важно оказаться среди своих, окунуться в жизнь той части крымчан, которая находится на ударном фронте национальной борьбы за свою родную землю. При всей важности общеполитических мероприятий, проводимых многочисленными лидерами Движения, часто не находящих общей точки зрения и потому пребывающих в перманентном раздоре (обычное для всех стран и эпох состояние теоретиков!), передний фронт борьбы проходил через жизнь простого народа, готового оставить налаженный быт на чужбине и приехать в Крым, где нужно бороться за свои естественные права не с секретными постановлениями ЦК КПСС, не спорить о конституционных правах, не бомбить противников цитатами из классиков марксизма-ленинизма, из исторических трудов, а идти грудью на грудь с конкретным неприятелем, плечом к плечу с женой защищать от пьяных дружинников своих детей, срывать чужие замки с милицейскими пломбами с дверей своих законно купленных домов… И при этом умудряться выращивать для продажи цветы и помидоры, выпасать овец и бычков.
Керим осознавал себя в трех ипостасях. Высшим своим состоянием он считал состояние обитателя планеты, имеющего право (не политическое и не экономическое, а попросту биологическое) на любую ее часть. Во-вторых, – он гражданин своей страны, где он полноправен политически и экономически. И, наконец, – но не в третью очередь, а как сердцевинная сущность, – он из синтетического племени, нынче именуемого крымскими татарами, объединившего в себе несколько племен, в разное время пришедших на лучший из полуостровов планеты, и слившихся в народ с единым языком, с единым жизненным укладом.
И, тем не менее, он оказался для властей настолько плохим, что она не давала ему возможности работать в должности, где его знания опытного врачевателя были особенно нужны.
«Иди и работай там, где тебе положено быть. Там, в Азии, тебе мы дали возможность стать специалистом
Всё мы тебе там дали, несмотря на то, что ты татарин, из числа прежде проживавших в Крыму».
Если быть татарином это вообще плохо, то «татарин, прежде проживавший в Крыму» – это худший из татар!
Глава 9
…Однако были для Кремля и хорошие крымские татары. Были и «чрезвычайно хорошие», которым разрешено было проживать даже в Крыму – таких насчитывалось несколько десятков человек, не больше. Потом были «просто хорошие» – этим можно было жить по всему Союзу, но только не в Крыму. За ними следовали те, которым предписывалось проживать только в Узбекистане, но они не обязаны были посещать спекомендатуру – эти уже были «не очень, но все же хорошие», не чета всем этим пастухам, учителям и поэтам. Всех хороших не подвергали ежемесячно оскорблению в спецкомендатурах, дети их по достижении шестнадцати лет не становились на учет в комендатуре, а были свободными людьми. Не то, что я и мои друзья, все мы, очень плохие, которым в тот год, когда Красная Армия бежала из Крыма, не было еще и десяти лет. Мы попали под операцию по переселению из Крыма вместе с нашими родными, а по достижении шестнадцати лет уже сами несли наказание за то, что Красная Армия позорно сдала Крым через три месяца после начала войны, а вместе с армией бежали и «хорошие» вместе со своими семьями – едрена мать!.
И стали мы в секретных документах именоваться «спецконтингентом».
Нет, конечно, те отцы, дети которых не ходили в спецкомендатуру, не были виновны в том, что власть даровала им такую привилегию, их нельзя за эту привилегию упрекать. Нельзя было требовать от них, чтобы они, воскликнув «Я с моим народом!», демонстративно стали бы посещать комендатуру. Такого не бывает! Хотя…
Хотя об одном таком похожем, даже очень похожем случае выше рассказывал Рефик. Вы прочли рассказ об Амете-малоземельце? Это не выдуманный персонаж, это реальный человек Амет Абдураманов, уроженец знаменитого села Черкез-Кермен, офицер, орденоносец, прошедший всю войну с автоматом в руках.
А время, между прочим, брало свое, и появлялись «новые хорошие татары». Эта новая поросль была очень немногочисленна, но она была. Чтобы заслужить благосклонность властей «новые хорошие» доносили на своих соотечественников, доносили на людей других национальностей, искренне желавших помочь несчастному народу крымских татар. Этим «новым хорошим» власть советская в ипостаси КГБ дала в руки лозунг «Бывшие крымские татары укоренились в Узбекистане!», и несчастные слабаки несли этот лозунг – можно ли такое себе представить? Эти, так сказать, коллаборационисты шли на такую низость ради карьеры в органах власти, ради должностей редакторов газет и журналов, ради денег, в конце концов, или, будучи пойманы за руку в воровстве, ради сохранения своей свободы. Были и такие, которые убедили себя, что, сотрудничая с коммунистической властью, – а это равнозначно сотрудничеству с КГБ! – они проникают в стан противника, получают возможность влиять на него в интересах своего борющегося народа. Над такими больше всего смеялись в кабинетах КГБ, но при встрече с «лазутчиком» делали серьезное лицо и жали руку.
Этих, «новых хороших», было совсем немного, человек двадцать, ну тридцать от силы на весь наш народ. И все равно обидно, что такие среди нас были!
Признаться, у меня было искушение создать идиллическую картину: после 37-го года коммунисты всех народов СССР в полном говне, а наши, крымскотатарские выдвиженцы 37-го года, во всем белом. Однако потом я устыдился – кого хотим обманывать?
Но в условиях бесправного и униженного существования крымских татар на спецпоселении нужно было оказаться полным ничтожеством и моральным самоубийцей, чтобы отречься от несчастья своего народа. Давайте договоримся, что таких среди нас не было, а если и были, то сгинули, покинули наш национальный генофонд, как кемаловы и сеит-ягьяевы.
К коллаборационистам я ни в коей мере не отношу тех, кто вступил в коммунистическую партию ради возможности продолжать работу по специальности – беспартийные не могли перейти через некоторый очень низкий карьерный порог. Я достоверно знаю, например, что в годы правления Брежнева появилось указание не переизбирать по возможности на должности институтских преподавателей граждан, не состоящих в компартии. Если бы все крымские татары отказались бы вступать в компартию, то не выросли бы в нашем народе великолепные хозяйственники, руководители учреждений и предприятий, юристы, профессора – люди всех тех специальностей, на которых категорически было запрещено держать беспартийных!
(Здесь я должен, во избежания кривотолков, заметить, что ни я сам, ни кто-либо из моих ближайших родственников в компартии не состояли!).
Да, нация не может состоять из одних только героев. Героев и не должно быть много, но те, которых Аллах подвигнул на самоотречение, должны быть настоящими, они должны быть окружены верными соратниками и продолжателями, готовыми подхватить знамя борьбы.
Нет, вы только представьте себе пятьсот тысяч одних только героев! Кто же будет землю пахать, помидоры и цветы выращивать, детей учить, людей лечить? – ведь геройство несовместимо с нормальным бытом. За то и принимают герои на себя страдания, чтобы все остальные их соплеменники могли жить не хуже, чем соседние народы. Для того и нужны герои, чтобы возродилась нормальная нация с положительными и отрицательными качествами, как и всякая другая нация. Но, конечно, желательно, чтобы было поменьше отрицательных, а побольше положительных качеств.
Сейчас, когда, по мнению людей планеты, наблюдавших за борьбой крымских татар, напряжение в этой борьбе снизилось, часто приходиться слышать слова доброй зависти и от тех, к кому судьба в середине XX века оказалась милостива, и от тех, кто тоже перенес геноцид. Завидуют нашему единению в борьбе, нашей взаимопомощи, нашей неподатливости перед лицом провокаций вербовщиков из органов безопасности.
Я полагаю, что для такой зависти есть основания!
Подавляющее большинство вынужденных вступить в партию крымских татар готовы были отказаться от партбилета, если бы КГБ пыталось их завербовать, чтобы использовать против Национально-освободительного Движения.
Я подчеркиваю, что моя недоброжелательность относиться не к тем, кто вынужден был вступить в компартию, а к тем, кто активно участвовал в пропагандистской кампании, нацеленной на отрыв крымских татар от Крыма! Я акцентирую на этом внимание читателей, дабы недобросовестные люди не настроили против меня некоторых из моих, надеюсь, искренних друзей, которых жизнь заставила в свое время подать заявление с просьбой принять их в КПСС…
Да, имперская практика, выраженная в формуле «разделяй и властвуй» в советской империи обогатилась новыми гнусными гранями. Советская пропаганда внедрила в сознание людей представление о том, что член единственной в стране партии, именуемой коммунистической, лучше просто члена профсоюза не коммуниста, более достоин, чем не члены КПСС, всяческих благ и привилегий. Та же пропаганда внедрила понятие «первый среди равных», относящееся к русскому человеку среди разных нерусских. Будь этот русский человек пьяницей, охальником, недоучкой, выскочкой – он все равно первый, он первым достоин всего, что есть от Москвы до самых до окраин. Абсурдно!
И были среди «первых среди равных» очень первые – это номенклатура! И если человек был когда-то введен в состав управленцев, в состав обличенных доверием вышестоящих партийных органов, то он остается в этой номенклатуре, даже если он человек третьего сорта – спецпереселенец. Кстати, номенклатура по латыни означает «роспись имен», список избранных личностей то есть.
Жизнь строилась не по закону, а по понятиям. Причем понятия партийно-советские были намного бесчестнее, чем у уголовников.
Вот наказали целый этнос – крымскотатарский ли, чеченский ли, калмыцкий ли. Выслали без суда и следствия всех, а потом стали отделять в этом этносе беленьких от черненьких. Член компартии? – использовать на должностях в зависимости от специальности. Бывший очень ответственный работник? – освободить от спецкомендатуры и его, и его детей. Они ни в чем не виноваты. А другие татарчата возрастом от нескольких дней и больше – виноваты. Из-за них, младенцев, германская армия захватила Крым. А младенцы из семей номенклатурщиков не виноваты. И все офицеры и солдаты, прошедшие войну с первого дня до последнего, награжденные орденами, раненные, но выжившие – все виноваты. И всех тех детишек, которые не номенклатурные, у которых отцы пали в сражениях с германскими войсками, как только им исполнится шестнадцать лет, немедленно взять на учет в спецкомендатуры, установить над ними гласный надзор и запретить свободные прогулки в пределах даже одного небольшого города. А если без специального письменного разрешения спецкоменданта на руках вздумают перейти с разрешенного тротуара на противоположный неразрешенный, то ему 20 лет каторги, возраст не помеха. А ровесник этого каторжанина из номенклатурной семьи может хоть сто раз прыгать с одного тротуара на другой. Ну а сам глава номенклатурной семьи должен, конечно, эту милость властей отрабатывать.
Недобрая, грязная, абсурдная ситуация. А вот если бы был правый суд, то осудили бы виновных, тогда бы сын джанкойского пастуха был бы таким же полноправным, как и сын какого-нибудь секретаря райкома, и прыгал бы с тротуара на тротуар без страха. А то ведь раз! – и 20 лет каторги!
Я выше дал перевод слова «номенклатура» с латинского. А каков реальный смысл этого понятия? Не ищите ответа на сей вопрос в изданных при советской власти справочниках и энциклопедиях. Там вы найдете только такое: «номенклатура – перечень названий, употребляемых в какой-либо отрасли науки, техники, искусства» или «перечень счетов, открываемых бухгалтерией предприятия». Не больше и не меньше!
А вот как в 1932 году сформулировал критерий отбора в номенклатуру М. Рютин, секретарь Краснопресненского райкома партии (Москва), расстрелянный в 1937 году: «На партийную работу чаще всего выдвигаются люди бесчестные, хитрые, беспринципные, готовые по приказу начальства десятки раз менять свои убеждения, карьеристы, льстецы и холуи».
Давайте обопремся на слова «чаще всего» и поверим, что крымская номенклатура была за пределами этого «чаще всего». Но все же…
Может кто-то упрекнет Керима, доктора медицинских наук, профессора – столько, мол, времени прошло, достиг в жизни тех рубежей, до которых не доросли дети номенклатурщиков, пора, мол, успокоиться.
А с чего, скажите, забывать такие обиды?
Конечно, к какому-нибудь Велиеву и к его детям обиды быть не может, к ним не может быть никаких претензий. Претензии к советской системе, к компартии – нет срока давности для издевательств над людьми! А Велиев и ему подобные – не они определяли политику компартии, они только служили своим покровителям, чего с них взять.
Да, вправе Керим не забывать, как он вместе с тысячами других малолетних детишек был причислен к преступникам, которые были под гласным жандармским надзором многие годы, которым только в порядке особой милости разрешали после семилетки продолжать учебу в школе. А чтобы поступать в вузы – так до пятьдесят третьего года, когда помер Сталин, редко у кого принимали документы для поступления в институт. И в тюрьму попадали наши ребята только за то, что хотели получить высшее образование. Айдеру, сыну известного народного поэта Якуба Шакир-Али, в год начала войны было десять лет. Он рос сиротой, был выслан в Узбекистан вместе с матерью и старшим братом, выжил, закончил в 1951 году десять классов в городе Янги-Юле, находившемся в 25 километрах от Ташкента. Разрешение на подачу документов в медицинский институт юноша не получил. Он тайно прошел пешком эти 25 километров, скрыв свою национальность подал документы в приемную комиссию, успешно сдал экзамены и стал студентом. Через три месяца доблестные чекисты его выследили и заточили в ташкентскую тюрьму. Из тюрьмы он чудом вышел после смерти Сталина с седой головой. А был бы его отец не поэтом, а номенклатурщиком, то учился бы Айдер в своем институте без проблем.
А мне, в добавление к клейму спецпереселенца носившего еще и клеймо сына «врага народа» (еще бы – отец мой получил срок в двадцать пять лет!), даже и после смерти Сталина не давали разрешения учиться в высшем учебном заведении. Все крымские татары из всех школ городка Янги-Юля получили разрешение, а мне в качестве издевательства республиканское ЧК велела ехать в Каракалпакию, в педагогический институт с узбекским языком обучения…
Глава 10
То ли были у советской власти некие другие высокие державные дела, то ли местные власти не получали приказа на начало новых репрессий, но пусть и неспокойно, но дожил Фуат с женой и дочкой без выселения до весны.
Крымская земля щедра к трудолюбивым. Успешно продали рано выпустившие бутоны тюльпаны, справились с рассадой помидоров, сняли первый урожай и посадили на освободившиеся грядки картошку.
К осени милиция опять стала проявлять активность. Вскоре вновь начались вызовы в районный отдел и уже более жесткие требования покинуть территорию Крымской области – видно органы теперь не надеялись запугать этого татарина, а принятие карательных мер было только вопросом времени. На третий вызов, между прочим, Фуат не явился. И вот второе лето на родине приблизилось к своему концу.
…В конце ноября к Фуату на дом заявился оперуполномоченный и, не спрашивая у хозяина разрешения, облазил все помещения, весь двор.
– Ну, когда будешь выполнять требование РОВД? – спросил лейтенант мрачно ходившего следом за ним хозяина. – Живешь-то ты в Крыму незаконно.
– Я не собираюсь никуда уезжать, – угрюмо ответил Фуат, – это мой законный дом, это моя законная земля.
– Ну, ну! – добродушно говорил опер, тщательно оглядывая все хозяйство.
Так и уехал без ожидаемых угроз. От жены и дочки Фуат скрыл визит милиционера.
Несколько дней Фуат напряженно ждал следующего шага властей. Но ни новых визитов, ни очередных повесток из района не последовало. Прождав еще немного, не то, чтобы успокоившийся, но не желающий жить в постоянном страхе татарин купил небольшой черно-белый телевизор, о чем давно просила его жена, – сам-то он довольствовался информацией о событиях в мире, доносимой радиоволнами от передатчиков Би-Би-Си и «Голоса Америки». И еще купил он луковицы тюльпанов, израсходовав на эту покупку почти всю свою наличность.
… Камилл и Алиме, дочка Фуата, шли от метро пешком, и девушка рассказывала о событиях последних дней.
– Я была на заднем дворе, – рассказывала Алиме, – когда в железные ворота с улицы стали колотить ногами. Я побежала к дому, но увидевший меня отец махнул мне рукой – спрячься, мол. Я опять вернулась на огород и спряталась за туалетом, скрытно наблюдая за событиями. Отец открыл калитку и во двор ворвались с руганью человек десять и среди них двое в милицейской форме. Отца затолкали в дом, оттуда послышался крик матери. Я кинулась было им на помощь, но услышала громкий голос отца, кричавшего мне по-татарски:
– Сакъланып отур! Сонъ эмдженъе кетерсин!
Эти гады думали, наверное, что отец мой ругается, а он мне велел прятаться и потом поехать к дяде, который жил в Симферополе.
Я с трудом заставила себя остаться в моем убежище, потому что поняла возникшую в создавшихся условиях передо мной задачу, о чем мы не раз говорили в семье: наладить связь с нашими людьми и дать огласку произошедшему незаконному выселению.
Тем временем пьяные дружинники под руководством офицера и сержанта милиции вывели моих родителей на улицу, отобрали у отца ключ и закрыли ворота. Я то и дело слышала, как опер орал:
– Дочь где? Куда свою Алиме спрятали?
Дурак, на такие вопросы ответов не дают…
Когда машина увезла моих родителей неизвестно куда, я вышла из укрытия и подошла к дому. Дверь была заперта, но я легко открыла окно и забралась в комнаты. Осмотрев вещи, я убедилась, что родителям взять с собой ничего не разрешили. Это означало, и я это уже знала из рассказов других наших земляков, что их не выслали, а арестовали, а опись вещей и опечатывание дома произведут, наверное, позже. Деньги и документы хранились у Шамиль-агъа, который был в Крыму прописан и поэтому считалось, что его положение более прочное, чем у таких как мы. Впрочем, с татарами в Крыму могли совершить какое угодно беззаконие, но все же. Я не стала заходить к Шамилю-агъа, там могла быть засада. У меня были спрятаны кое-какие деньги, которых вполне хватало, чтобы добраться в Симферополь. Я оделась потеплее и вышла во двор. Из-за дощатого забора на меня смотрела соседка баба Дуся.
– Увезли твоих родителей, – скорбно произнесла старая женщина.
– Да, баба Дуся, я видела, я в огороде пряталась, – отвечала я.
– А ты теперь куда? – посочувствовала соседка.
Я почему-то поосторожничала (хотя с соседями отношения у нас были хорошие) и ответила:
– Сейчас в Феодосию к тете своей поеду.
– Ну да, оставаться тебе нельзя, – закивала головой баба Дуся. – Но мой тебе совет, зайди и посиди у меня, а как стемнеет, так и отправишься в путь, а?
Я и сама думала, что в сумерках выйти на трассу, где в одну сторону машины идут в Симферополь, а в другую на Феодосию, безопасней, и перелезла через забор к соседке.
Баба Дуся поставила передо мной блюдце с оладьями и налила в чашку чаю.
– Пей, доченька, отдыхай. А как стемнеет, так и отправишься в Феодосию.
Минут через десять я увидела, как баба Дуся вышла со двора на улицу и повернула направо к другим соседям. Я заподозрила недоброе, выскочила во двор и стала прислушиваться. Дело в том, что на улице телефон был только у тех соседей, к которым пошла бабка Дуся. И я слышу, как моя «спасительница» говорит:
– Настя, позволь мне позвонить, срочно надо!
С чего бы это, да еще и срочно? Я оглянула бабкин двор. Сын ее жил в Симферополе и приезжал иногда по выходным, а летом дети его месяца три жили здесь. Я вспомнила, что внуки бабки летом перекликались со сверстниками с того двора, который выходил на соседнюю улицу и каким-то образом ходили к ним. Я прошла в конец двора и убедилась, что забор там не высок. За забором жила семья греков и, как мне помнилось, собаки у них во дворе не было. Я без труда перелезла через забор и сразу же оказалась лицом к лицу с хозяином. Я не знала что сказать, но дяденька оказался сообразительным.
– Родителей арестовали, да? Заходи, спрячешься у нас.
Тут вышла во двор его жена, которая тоже уже знала о случившемся.
– Пусть девочка побудет у нас, Акакий, – понизив голос сказала она мужу.
– Баба Дуся тоже обещала меня спрятать, а сама побежала звонить в милицию, – отвечала я, поглядывая в сторону закрытых ворот.
Старый грек перехватил мой взгляд.
– Нас ты не бойся, мы сами были выселены из Крыма, все понимаем.
Потом чуть задумался и крикнул жене:
– Принеси мне пиджак, – затем обратился ко мне:
– Лучше я тебя сейчас на машине подальше от Старого Крыма отвезу, чтобы ты не боялась. Куда тебе надо?
Ему я ответила не скрываясь:
– Мне надо в Симферополь.
Дядя Акакий переоделся и открыл дверцу стоявшего во дворе «Москвича»:
– Садись, довезу тебя до судакского автобуса, там тебя искать не будут.
Когда мы выезжали со двора, на участке бабки Дуси началась суматоха – это приехали милиционеры за мной. Дядя Акакий многозначительно посмотрел на меня.
– Я бабке сказала, что собираюсь ехать в Феодосию, – поспешно выговорила я.
– Молодец! – дядя Акакий засмеялся и уже более уверенно повернул машину налево, к выезду на шоссе.
Когда мы добрались до Грушевки, как раз подъехал автобус идущий из Судака в столицу Крыма.
– Деньги у тебя есть? – старый грек полез в карман.
– Есть, дядя Акакий, есть! Спасибо! – радостно крикнула я и побежала к автобусу.
Доехала я до Симферополя без приключений. Утром жена Асана-эмдже тетя Светлана дала мне ваш адрес и телефон, и вот я приехала в Москву.
Так завершила Алиме свой рассказ.
И они как раз подошли к дому Камилла.
Ознакомившись с тем, что произошло с семьей девушки, Камилл начал с того, что написал несколько текстов, с которыми решил обратиться в ведущие газеты Москвы. Уверенности, что такой вариант окажется полезным, практически не было, но это был повод донести до хотя бы небольшого числа журналистов информацию о сегодняшней ситуации с крымскими татарами. С этого и начали. В ближайшие два дня Камилл и Алиме побывали в пяти редакциях газет и еще в редакции журнала «Огонек», где оставили отпечатанные на машинке тексты в секретариатах и в экспедициях – в зависимости от того, был ли вход в редакцию свободным или нет.
У Камилла, как обращавшегося в кругах либеральной московской интеллигенции, были знакомства среди активных борцов за гражданские права, у которых крымские татары, как наиболее страдающий от коммунистических властей этнос, были на особом месте. Камилл отпечатал несколько другие тексты, более обстоятельные и обвиняющие, и, предварительно созвонившись, вечером опять под руку с Алиме посетил три адреса. Разумеется, и этот вариант был мало реален в смысле оказания помощи конкретной татарской семье, но все же была надежда, что информация о злодеяниях советской власти пройдет на Запад. Капля камень долбит.
Забегая вперед скажу, что вернувшуюся вновь в свой дом семью Фуата весной опять выселили и вывезли за пределы Крыма. Но вновь вернулся Фуат с женой и дочкой в свой опечатанный дом и несмотря ни на что стали они возделывать огород. И вдруг их оставили в покое, хотя и не прописывали. А самому Фуату зашедший как бы невзначай милицейский офицер сказал, погрозив пальцем:
– А ты все еще притворяешься малограмотным шофером? – и мило улыбнулся, подлюга.
То ли помогли правозащитники, то ли упрямство татарина Фуата одолело свирепость властей. До поры до времени…