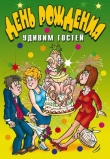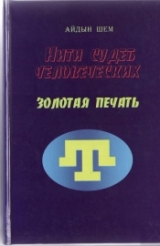
Текст книги "Золотая печать"
Автор книги: Айдын Шем
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 21 страниц)
Глава 21
Если в прежние свои посещения родины печаль в сердце Камилла только множилась, то теперь, когда он пребывал в Крыму в окружении своих соотечественников, он, напротив, ощущал душевный подъем, чувствовал приток умственных и физических сил.
Однако надо было возвращаться.
Камилл приехал в Москву с облегченным сознанием. И не потому только, что набрался духовных сил от общения с проживающими на родине земляками, и не от того только, что поделился информацией о ртути и о рукописи с Керимом, а и по той причине, что вновь познал, что реальность превыше всех таинственных, пусть и не случайных явлений.
Нужны были средства для существования, и он приступил к выполнению своих обязанностей оператора бойлерной, да и лекции от общества «Знание»» почитывал. До наступления отопительного сезона работы в бойлерной было немного. Однако в том году рано похолодало, и уже в начале октября в дома москвичей дали горячую воду в систему отопления. Похолодания сменялись потеплениями, и капризные жители столицы требовали, чтобы нагрев батарей регулировался строго в зависимости от температуры воздуха.
Встречи на «кухне изгоев» проходили регулярно – где еще можно было поговорить «за жизнь» изгнанным из «порядочного» советского общества докторам и кандидатам наук? Не с женами же, которые и без того наливались яростью от того, что муж стал приносить мало денег в семью.
Контингент «кухни изгоев», конечно же, менялся. Самым подвижным слоем здесь были евреи. Еврей, хотя и с трудом и далеко не всякий, имел возможность получить визу и уехать из страны, которая воспользовалась его умением и честным старанием, а потом унизила. Положение же других было безысходным: коммунистическая власть исповедовала тезис, что «незаменимых людей не бывает», и высококлассные специалисты, попавшие в «черные списки» по причине неосторожного высказывания о творимых в стране безобразиях, не имели шансов вновь вернуться к творческой деятельности. Единственно что – не арестовывали как врагов народа и не приговаривали, как бывало, к «десяти годам без права переписки». А что касается доброхотов, доносящих на своих успешных коллег, то их было в стране хоть отбавляй. Наверное, только «на кухне изгоев» не появлялись представители этого подлого племени доносителей, потому что по закону естественного отбора сюда попадали с другим менталитетом. Хотя бывало всякое. Вот один из случаев, который может опровергнуть это мое оптимистическое заявление о менталитете посетителей «кухни изгоев».
Когда однажды собрались во Дворце Съездов представители компартий и высокоученые бойлерщики обсуждали это событие, кучерявый Гриша мечтательно вымолвил:
– Ракеточкой бы небольшой долбануть по ним!
– Вот таков он, «честный» гражданин своей страны, – язвительно отреагировал некто Петр Петрович, профессор-гуманитарий, который работал в дневную смену в той же бройлерной, что и Григорий, и тоже присутствовал иногда «на кухне». Надо сказать, что гуманитарий этот был, конечно, премного благодарен «коллегам», как он всегда подчеркнуто произносил, за устройство на работу, – «важно, чтобы профсоюзный стаж не прерывался!», – но в душе считал себя случайно попавшим в эту компанию. «Коллеги» – это другое дело, это заблудившиеся личности, а он чист перед родной коммунистической партией и советским правительством. Он писал по всем инстанциям и верил, что скоро поставит теперешней своей компании поллитру – «как это у них принято» – и распрощается, да и постарается поскорее забыть об этих «коллегах». Он ушел из компании не попрощавшись и не успел поставить бутылку, потому что за пространные письма в ЦК его сочли шизофреником и упекли в психушку.
Но тогда в ответ на его язвительную реплику Гриша темпераментно возразил:
– Вы простите меня, Петр Петрович, но нельзя ставить знак равенства между страной и государством, это наивно!
– Почему же нельзя, – покровительственным и всепрощающим тоном отвечал Петр Петрович, который по возрасту годился Григорию в отцы, – все мы патриоты, и если сейчас мы в не самом лучшем положении, то сами же и виноваты – где-то допустили промах. Народ, партия и советская власть едины, молодой человек!
– Ракетой бы ее, эту власть! – повторил сладострастно Гриша, и вышел из комнаты, чтобы не ответить старшему его по возрасту человеку дерзостью.
Славный молодой парень из «кухни изгоев» Гриша, доктор наук Григорий Ефимович, таки подал заявление в ОВИР, что было делом очень не простым. Заявления с просьбой воссоединиться с проживающим в Израиле родственником ОВИР принимал только при наличии вызова, присланного по почте. Это было цинично-простым маневром властей: вся переписка граждан СССР перлюстрировалась, и почтовые послания с вложением вызова просто не выдавались адресату! Но евреи и косящие под них граждане по всякому ухищрялись, но и на их еврейские хитрости находились хитрости чекистские (там было много бывших евреев). Тем не менее, Грише удалось с помощью опытных товарищей соотнести привезенный за пазухой интуриста вызов с полученным по почте конвертом, и таким образом Отдел Виз И Разрешений принял к рассмотрению его просьбу «разрешить выезд на ПМЖ – постоянное место жительства».
Каждый, подавший заявление на эмиграцию, немедленно увольнялся с работы, какова бы эта работа не была. Камилл очень сожалел, что Гриша больше не появляется «на кухне», которую сам Камилл посещал почти каждый раз по окончанию смены. При всей независимости и дерзости мнений постоянных членов «кухни», именно с Гришей у Камилла было полное совпадение в неприятии советской действительности – без всяких там апелляций к историческим условиям и к прочей демагогической шелухе, так полюбившейся демократам-неофитам. Хорошие, честные наставники были, видно, у Григория Ефимовича, который сам, по молодости лет, не хлебнул полной мерой лиха в социалистическом раю.
– Ракетой бы их, ракетой! – Камилл, часто вспоминал это шокирующее восклицание Гриши.
«У меня было средство посильней ракеты» – подумал тогда Камилл, и мелькнуло сожаление, но сразу застеснялся сам своей слабости.
Дни шли за днями, и у Камилла усиливалась тоска по Крыму, по оставленным там новым друзьям. В раздумьях, в душевной неупорядоченности прошла нудная зима, которая только тем и была хороша, что Камилл много ходил на лыжах.
В конце марта в Москве открывался очередной съезд Компартии. К этому форуму приехали со своими коллективными просьбами и протестами несколько десятков крымских татар из Узбекистана и Крыма. В числе них были и Керим с Шамилем, которые остановились, конечно же, у Камилла.
Они рассказали, что Фуата арестовали и дали срок за «уклонение от прописки». Семью выгнали из дома, разрешив взять личные вещи. Их приютили прописанные в одном из степных районов знакомые, с сыном которых была помолвлена Алиме. В связи с событиями решили неотложно заключить брак. Несмотря на то, что жених имел крымскую прописку, в ЗАГСе брак не зарегистрировали. Тем не менее, сыграли скромную свадьбу, мулла прочел молитву, узаконивающую новую семью перед Аллахом.
Камилл уже вроде бы хорошо знакомый с произволом крымских властей был, однако, шокирован:
– Как это не регистрировать брак? К тому же прописанный в Крыму жених правомочен даже по их законам?
Крымчане криво улыбнулись и покачали головами.
«По их законам»… Местоимения в третьем лице применяли не только борющиеся с властями народы, такие, как крымские татары. «Они» – так принято было именовать власть почти во всех социальных слоях. Несчастные крестьяне, ныне именуемые колхозниками, только так и говорили о начальстве, к которому с нелюбовью относили всех, начиная от работников правления колхоза и кончая самыми верхами, которые рассказывали по радио сказки о том, как они радеют о земледельцах. Рабочие – уж для них-то власти, начиная с собственного руководства, всегда были они. «У них денег куры не клюют, а у нас на водку не хватает!» – кто не знал этой песенки? Диссидентствующая интеллигенция только и говорила о власти, используя местоимения в третьем лице. Во время застолий был обычен третий тост – «пусть они подохнут!», который зачастую не произносился, а только объявлялся: третий тост! – и все выпивали не чокаясь.
О! Власти понимали опасность внедрения в сознание масс этих местоимений! На собраниях коммунистов, на сходках добровольных доносчиков и платных сексотов уполномоченные соответствующих органов давали задание выявлять тех, кто злоупотребляет местоимения третьего лица в неблагонадежном контексте и сообщать об этих личностях органам.
Но были и экзотические социальные группы, наиболее многочисленные в больших областных городах, а в столице – в особенности! Уж для этих-то советская власть была своей! Советская власть, которая не была советской, так как в «советы» всех уровней люди не избирались, а безальтернативно назначались, и которая не была властью, ибо власть полностью была в руках разного уровня коммунистических партийных комитетов.
Однажды в День Советской Конституции, в начале декабря, Камилл ехал в троллейбусе №12, полупустом по случаю нерабочего дня, по улице Горького. В салон грузно вошла немолодая женщина и демонстративно громко обратилась к своему знакомому, оказавшемуся на соседнем сидении, напыщенно поздравляя его с праздником и сердито оглядываясь по сторонам. Две девушки, стоящие рядом, откровенно засмеялись
Камилл перешел в другую часть салона. Пожилой мужчина с газетой стал изучающе оглядывать особу столь советизированную, что сей мало почитаемый праздник отмечающую демонстрацией против вероятного в московском троллейбусе «контрреволюционного» окружения. Действительно, в стране общественный климат менялся не в пользу совпартноменклатуры, этой вовсе уж обнаглевшей прослойки. Семьи номенклатуры пользовались специальными магазинами, в которых они могли покупать съестные продукты, недоступные народу, и одевались в таких же специальных распределителях, где можно было даже приобрести мужскую меховую шапку, и не из кролика или овчины, а пыжиковую, а иным доводилось раздобыть права даже на более качественную! В шестидесятых годах среди номенклатурных работников распространилась с подчеркнутой жесткостью произносимая фраза, одинаково оскорбительная и для профессора, и для слесаря: «здесь вы нам не нужны». Здесь, мол, не нужны, позвольте вам выйти вон, а ежели когда и где вы нам понадобитесь, то мы вас пригласим, а не придете – приведем. Вот оно следствие родившегося в массах местоимения «они»! Аукнулось это народу словосочетанием «вы нам»! Элитарные слои общества тешили себя.
Но уж они нам и вовсе нигде и никогда не были нужны!
Из немногочисленных праздников советских времен население почитало в качестве самых любимых и радостных только три. Во-первых, разумеется, Новый Год – самый веселый праздник и детей, и взрослых. Потом праздник Первого Мая, официально носящий название «Международного Дня солидарности трудящихся всех стран». Как таковой его отмечали только в компаниях, к которым принадлежали люди, подобные той самой особе из троллейбуса №12.
Представьте себе нормальное первомайское застолье, во время которого встает человек и произносит: «Предлагаю выпить за солидарность трудящихся на всей нашей планете!». Невероятная сцена для реальной жизни! Или сцена из пьесы некоего драматурга – лауреата Сталинской премии.
Все же остальное население гуляло в начале мая два дня, не вникая в политический подтекст, а радуясь наступившей весне.
Третий весьма любимый населением праздник приходился на 8 марта – Международный женский день. Опять же политическое содержание этого праздника или вообще не упоминалось, или же упоминалось в связи с анекдотичной гипотезой, что в этот день с Инессой Арманд произошло когда-то нечто значимое. Гораздо меньшей популярностью пользовался праздник 23 февраля, посвященный армии, но в который уже женщины дарили подарки представителям сильного пола, и все вместе выпивали за здоровье и успехи уже мужчин. Но выпивали, конечно, только во взрослых компаниях, в детских садах и школах девочки дарили мальчикам сладости или маленькие гостинцы. Причиной меньшей популярности «мужского дня» было то, что этот день власти не сделали нерабочим, – а ведь надо бы!
Но был один праздник, который был одинаково почитаем и в принадлежащих к властвующей элите кругах, и среди самых униженных и обездоленных – День Победы. За любым застольем – будь то компания чекистов или компания диссидентов – звучал первый тост «За победу!» и второй тост «В память о погибших». Произнесением третьего тоста не омрачали этот священный день. Я не упомянул этот праздник в числе самых радостных, потому что не было в Советском Союзе семьи, в которой не скорбели бы в этот день по своим близким, сложившим голову в войну.
Интересную тему затронул я здесь невзначай – о праздниках. Тогда надо назвать еще и праздники религиозные. Мусульмане, например, обязательно отмечали безалкогольным, разумеется, застольем великий праздник Курбан-байрам и не менее великий Рамазан, хотя далеко не все семьи резали в Курбан-байрам барашка. В среде, где преобладали принадлежащие к христианскому вероисповеданию народы, обязательно в день великой Пасхи мужчины лезли к женщинам целоваться. И свою приверженность к этому обряду мужики наши начинали проявлять еще накануне Пасхи, ибо праздник сей приходится на воскресенье, а целоваться хочется и по месту работы. Ну и в тот самый канун женщины приносили на работу испеченные дома куличи, и в обеденный перерыв, а то и оставаясь после работы, выпивали и закусывали, причем все, независимо от вероисповедания и партийной принадлежности. Конечно, в идеологических службах такое вряд ли происходило, но я рассказываю о быте простого городского населения – профессоров, инженеров и слесарей. А на селе! Ох, как пили в Пасху на селе! Но об этом не здесь и не сейчас.
Упомянув об отношении в учреждениях к религиозным праздникам, я, кажется, ничего не сказал о том, как проходило там празднование официальных, советских праздников. О праздничных торжественных собраниях коллективов, где речь держал вначале директор предприятия, потом парторг, за ним профорг и, наконец, какая-нибудь «комсомольская богиня», я не хочу вспоминать – противно! От этих собраний коллектив лаборатории или какого-то другого подразделения в тайне от высшего руководства освобождал двух-трех подходящих человек, которые к окончанию торжественного заседания уже накрывали стол, прятали в надлежащем месте бутылки с горячительными напитками – водку для предпочитающих и вино для всех остальных. Товарищи по работе, проводящие в совместном трудовом общении времени больше, чем со своими семьями, запирали дверь на внутренний замок, и начиналась дружеская пирушка. Если высший руководитель, обходящий свои подразделения вместе с партийным и профсоюзным боссами, стучался в дверь, то ему открывали после того, как бутылки с напитками прятали под стол или в шкаф. Вообще, разные бывали руководители, иные в какое-либо подразделение приходили даже со своим пузырем. А нет, так требовали налить из спрятанных емкостей и не скаредничать при этом.
И еще вот что интересно вспомнить к сведению тех, кто или уже забыл, или не застал тех времен: если накануне праздника Великой Октябрьской революции вы обращались к встреченному в коридоре коллеге с фразой «С наступающим праздником!», то в ответ в большинстве случаев слышали: «И тебя тем же самым по тому же месту!». Вот как непочтительны были люди в отношении к господствующей идеологии и к ее носителю – «советской» власти! Потому и рухнула с такой легкостью диктатура коммунистов, как только разрешено стало проводить более или менее свободные выборы в представительные органы всех уровней. А в прежние времена уже перестали даже смеяться над анекдотом, в котором Бог подводит к Адаму Еву и предлагает ему выбирать себе жену…
Керим последовал вслед за вышедшим на кухню Камиллом
– Рукопись дашь почитать? Кстати, Шамилю можно о ней рассказать?
– Я все ждал, когда ты вспомнишь о рукописи, – засмеялся Камилл. – Конечно, можно и Шамилю рассказать.
Поначалу загадочный текст прочел вслух Камилл. Потом вдумчиво читал его для себя Керим, затем и Шамиль просмотрел. Последовали краткие комментарии насчет Сырат кёпюр, для дальнейшего развития этого разговора не хватало информации. Перешли на другие темы, связанные с Крымом. Камилл вспомнил о Святом Текбире, услышанном им на горном склоне под Ай-Петри и рассказал об этом своим удивленным слушателям. Шамиль, который до того скромно слушал красочные рассказы своих друзей, удивил их, выдав такой монолог:
– Разрушены наши мечети, разбиты надгробные камни. Но над Крымом высятся наши древние природные святые места – Ай-Петри, Аю-Даг, Кара-Даг, Акъ-Къая и другие. Мне рассказали, что на скалах Акъ-Къая над Карасубазаром тайными письменами, невидимыми глазу случайного человека, закреплены те имена, которые с древних времен каменотесы высекали на могильных камнях всех наших кладбищ на Полуострове. Изгнавшие нас злые люди разрушали их, но сразу же надписи с могильных камней появлялись на скальной стене. На все воля Аллаха!
– Эльхамдулилля! Благодарение Аллаху! Этим пришельцам с севера, непохожим на другие племена, не удалось, уничтожив кладбища, уничтожить и имена наших предков! – воскликнули одновременно Камилл и Керим.
Керим дополнил Шамиля таким рассуждением:
– У каждого человека, идущего в Путь, должна быть надежно защищена спина, то есть он должен иметь Дом, в который он может вернуться, когда наступит Праздник или когда уже нет сил. Каждый из нас числит себя среди отправившихся в Путь. И Путь у большинства из нас один – к сохранению не только своего рода, но и всего племени. Мы уходим в поисках Пути в учебу, уходим в горы, уходим в борьбу. И когда думаем о Доме, о своем тыле, то думаем о Крыме, о Земле Отцов. Как бы ни было обихожено жилище, которое мы создали в Узбекистане или где-то там еще, тыл наш всегда один – Крым. В Крыму за нами могилы предков, их имена и тысячелетия.
Так они беседовали до той поры, когда пришло время укладываться спать.
Чем ближе был день открытия съезда Компартии, тем больше накалялась обстановка в Москве и главной головной болью властей стали крымские татары. После того, как летом шестьдесят девятого года большая группа крымских татар устроила демонстрацию в самом центре Москвы, – небывалое событие! – членам Политбюро в страшных снах снились толпы этих непокорных спецпереселенцев с лозунгами на площадях столицы.
Было ясно, что власть бросит все силы, чтобы не допустить на улицы города ни одного протестующего татарина. И тогда временное руководство штаба прибывших в столицу крымских татар приняло решение, чтобы основная масса отъезжала, ибо все письма были переданы, встречи с московскими правозащитниками состоялись.
В ночь того дня, когда Камилл проводил своих друзей, он долго не мог уснуть. Он думал о своем друге Фуате, думал о десятках других крымских татар, упрятанных в тюрьмы только из-за того, что добивались права жить на родине, думал о сотнях тысяч своих единоплеменников, заброшенных в далекую Азию.
О, эти думы, бесконечные и непрестанные думы оскорбленного, лишенного родины крымского татарина!
А окружающий мир? Так называемые «свободные страны»? Поговорят о крымских аборигенах по разным радиоканалам бесстрастным голосом и все. А с другой стороны – что может предпринять запуганная советскими танковыми дивизиями Европа? Не начинать же Атлантическому союзу войну с СССР из-за нарушения прав человека! Вон и Чехословакию защитить не смогли… Нет исхода для придавленных каблуком коммунистического режима стран!
И вот в одну из осевых ночей года, на 21 марта, когда от заката Солнца до его восхода ровно двенадцать часов, нечто странное произошло с Камиллом. На следующий день, обдумывая события ночи, наш ученый физик обозначил для себя происшедшее сном, очень ярким и запоминающимся в подробностях сном. Но только потому он счел это сном, что ни под какую категорию известных ему естественных явлений это событие не подходило. И хотя Камилл уже имел некоторый опыт приближения к странным явлениям, произошедшее ночью было за пределами этих явлений.
«Сон! Это был удивительный сон!» – так внушал себе наш герой, видя свою задачу не в отгадывании тайны привидевшегося ему, а в подробном запоминании того, чему он был свидетелем.
Весь день он перебирал в памяти все эти подробности ночного видения – голоса людей, запах ветра, надвигающуюся тень от скалы, брызги соленых волн.
Я прямо сейчас изложил бы здесь все эти подробности, но дело в том, что в следующую ночь Камилл вновь оказался погруженным в состояние такого странного «сна», но уже наполненного другим содержанием.
Подобное повторялось четыре ночи подряд. И если события, привидевшиеся Камиллу в первой ночи, относились к временам, отдаленным от современности на несколько тысячелетий, то во все последующие ночи он становился свидетелем сцен, все более приближающихся к нашему времени.
Теперь я отдельным текстом изложу привидевшиеся Камиллу сюжеты под общим заголовком.