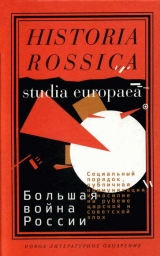
Текст книги "Большая война России: Социальный порядок, публичная коммуникация и насилие на рубеже царской и советской эпох"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
Военная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц)
Службу мусульман в рядах царской армии исламская политическая и интеллектуальная элита стала использовать в качестве политического аргумента в дискуссии с царским правительством о расширении свобод для своих единоверцев. В речи по случаю начала Первой мировой войны депутат Думы К.-М.Б. Тевкелев, мусульманин по вероисповеданию, подчеркнул готовность солдат-мусульман к самопожертвованию. В прошлом и в настоящем мусульмане, по его словам, сражались бок о бок с «коренными россиянами», проливая свою «кровь» за царя и отечество. И в нынешней войне они жертвуют собой во имя родины{135}. Напомнив о равном участии русских и мусульман в борьбе за свое отечество, Тевкелев одновременно потребовал от Российского государства признать эти заслуги и положить конец пренебрежению «религиозными и национальными чувствами» мусульман, которым запятнал себя царский режим в прошлом{136}. Депутат-мусульманин подразумевал в данном случае взаимосвязь между воинской службой мусульман и признанием за ними политических свобод, охраняемых законом. При этом он сослался на модель национальной армии, каждый солдат которой – это «гражданин в мундире». Действительно, идеал национальной армии учитывался при проведении военной реформы 1874 года, однако тот заряд политической либерализации, который в нем подразумевался, не мог и не должен был быть реализован при самодержавном правлении{137}. Армия Российской империи, основу которой составляли крестьяне, едва ли была учреждением, в котором из солдата формировался гражданин империи. Однако само представление о том, что такого рода связь существовала или должна была существовать, активно использовалось в политическом лексиконе высшего общества, когда речь заходила о требовании допустить мусульман к участию в политике. Характерно, что это затронуло также элиты тех мусульманских народностей, которые не подлежали призыву. В статье, опубликованной в газете «Каспий», ее автор Д. Дагестани сетовал на то, что мусульманам Закавказья – в отличие от евреев, поляков, армян, грузин, а также от мусульман Поволжья и Крыма – отказано в праве служить в регулярной армии. В его глазах эта норма была равнозначна исключению из числа граждан империи{138}.[22]22
Абсолютно сходные доводы выдвигал в ходе дебатов по военному вопросу в 1908–1909 годах думский депутат от мусульманской фракции X. Хас-Мамедов. Запрет мусульманам Кавказа и Средней Азии проходить всеобщую воинскую службу означал для него дискриминацию этих групп населения. В конце концов, не случайно именно те исламские регионы, которые не имели права делегировать своих представителей в Думу, освобождались и от призыва. Связь между политическими правами и воинской обязанностью представлялась Хас-Мамедову очевидной. Впрочем, реакция населения Средней Азии на изданный летом 1916 года царский приказ о призыве местных мусульман на этапную службу в российскую армию доказывает, что воззрения элит не совпадали с жизненными установками тех, чьи интересы первые, по их собственным словам, представляли. О выступлении Хас-Мамедова в прениях по военному вопросу см.: Государственная Дума. Стенографические отчеты. 3 созыв. Сессия 1, Заседание 53 (24.4.1908). С. 58 и сл.
[Закрыть]
Разрыв между числом солдат мусульманского вероисповедания в рядах царской армии, неуклонно возраставшим в течение войны, и мизерным числом уступок политическим требованиям исламско-татарских элит эти последние подвергали жесткой критике. В статье из татарской газеты «Суз», опубликованной в июне 1916 года, с сожалением отмечалось, что российское правительство не желает принимать в расчет множественные жертвы, понесенные исламскими солдатами, не говоря уже о том, чтобы сделать из этого политические выводы. Как могло случиться, что в России ожидается освобождение Польши и предоставление широких прав армянам, в то время как о «культурных и национальных правах» мусульман не упоминают? Разве число солдат-мусульман в российской армии не превосходит на порядок численность поляков или армян? Такую позицию можно объяснить только заведомым пренебрежением российского руководства к мусульманам, проживающим в империи[23]23
РГИА. Ф. 821. Оп. 10. Д. 598. Л. 232. Автор этой статьи, татарский публицист и писатель Гаяз Исхаков, осудил не только безразличие Российского государства к жертвам, понесенным солдатами-мусульманами, но и сходную позицию всего европейского мира. Никто в Европе не оценил по достоинству вклад мусульман в ход военных действий. Ни солдаты-мусульмане из Индии, ни солдаты из Алжира, которые рисковали своей жизнью, неся службу в британской и французской армиях, не дождались от своих правительств политических уступок. На недооценку правительством жертв, понесенных солдатами исламского вероисповедания, в противоположность павшим христианам, еще в феврале 1915 года сетовала татарская газета «Вакыт»: Новое начинание петроградских мусульманских обществ // Православный собеседник. 1915. № 11–12. С. 852–856 (статью перевели на русский язык и опубликовали востоковеды из Казанской духовной академии).
[Закрыть]. Думские депутаты-мусульмане разделяли эту точку зрения. В начале 1916 года К.-М.Б. Тевкелев и А. Ахтямов резко раскритиковали обращение российских военных с солдатами исламского вероисповедания. По их словам, число армейских священников-мулл на фронте, как и прежде, оставалось крайне низким, солдаты-мусульмане постоянно жаловались на это исламским депутатам. Их павших товарищей не могли похоронить по исламскому обычаю. Сообщалось даже, что в госпиталях солдатам-мусульманам досаждали православные армейские священники со своими миссионерскими беседами. Сотнями тысяч гибли мусульмане в рядах армии за Россию, но ничего не было предпринято, чтобы положить конец бедственному положению мусульман в армии. В завершение своего критического доклада Тевкелев потребовал коренным образом преобразовать политическое устройство Российской империи: всяческие юридические ограничения в связи с национальной или религиозной принадлежностью необходимо было наконец отменить{139}. Он выражал далеко не только свое личное мнение: еще в 1915 году мусульманские, латвийские, литовские, эстонские, армянские и еврейские депутаты совместно потребовали уравнения в правах всех народов Российской империи{140}.
Реформаторы времен поздней царской империи намеревались в будущем сформировать из имперской армии однородное войско, которое могло бы конкурировать со своими европейскими соперниками. После того как разразилась Первая мировая война, военная верхушка отказалась от этого проекта, допустив формирование этнических нерегулярных частей и тем самым ускорив национализацию армии. Однако отношение к солдатам-мусульманам, которые служили в войсках на общих основаниях, свидетельствует о том, что и при мобилизации, в условиях военного времени, сохранял свое значение имперский принцип, согласно которому религия привлекалась для поддержания порядка. В спорных случаях повышение роли мусульманского духовенства и, соответственно, институционализация многоконфессиональности также могли быть на руку военным. В отличие от еврейских солдат, солдат мусульманского вероисповедания не подозревали огульно в нелояльности. Впрочем, эти стратегии, направленные на консолидацию армии, перечеркивались проводившейся параллельно с этим политикой национализации и усиления этнического начала, которую ощутили и исламские элиты. Расхождение между тем, что от нерусских солдат, в данном случае от мусульман, требовали готовности нести жертвы на полях сражений, и внутренней политикой националистической окраски сохранялось и в дальнейшем. То же самое касалось и отказа в предоставлении прав на участие в политической жизни: чем еще можно было его оправдать в условиях войны? После того как царский режим наконец рухнул в феврале 1917 года, в рядах армии было сформировано множество мусульманских солдатских комитетов, которые подняли именно этот вопрос. Если поначалу костяк их составляли офицеры-мусульмане, то со временем в состав комитетов вошли и рядовые солдаты{141}. В июне 1917 года солдатский комитет казанского гарнизона основал газету, названную «Безнен Тавыш» («Наш голос)»{142}. В ее первом выпуске была предельно четко сформулирована задача издания: настало время наконец дать исламским солдатам то, чего они так долго были лишены, – право голоса{143}.
Перевод Бориса Максимова
Александр Зумпф.
Инвалидность и экспертиза во время Первой мировой войны в России
Изучение истории российских инвалидов войны предполагает выявление и понимание перспектив, породивших ту новую фигуру общества, которую отчасти предвосхитили калеки Маньчжурской кампании 1904–1905 годов. Современные библиотеки располагают скудным числом прямых свидетельств о российских инвалидах Первой мировой войны, и мне еще не доводилось находить их в центральных архивах или рукописных фондах{144}. Тем не менее до 1939 года было два периода, столь же интенсивных, сколь и кратких, когда организациями инвалидов было выпущено немало документов: между мартом и сентябрем 1917 года и затем между 1924 и 1930 годами – две эпохи эйфории общественных организаций. Период между двумя мировыми войнами в России отмечен и вспышкой памяти о первом мировом конфликте – памяти, о которой в Советском Союзе говорят шепотом, о которой вздыхают «белые эмигранты» Европы и Америки и которая какофонией звучит на бывших территориях Российской империи, например в Польше. В этом множестве тон задает восприятие специалистов, особенно представителей уже до войны прочно сформировавшихся профессий – врачей, военных, статистиков.
Если источники говорят об увечных или калеках, то солдаты предпочитают термин инвалид, который означает статус, подтверждающий признание социального положения и который входит в обиход в документах после Февральской революции. Мы должны различать четыре типа инвалидов войны: увечных (включая паралитиков), инвалидов с ампутированными конечностями, хронически больных и страдающих неврозом жертв контузии (shell shock). Эти травмы часто совмещаются и отличаются постоянностью; они позволяют воину покинуть фронт, но возвращение к гражданской жизни делают проблематичным. Понимание каждого типа инвалидности различными специалистами, уполномоченными оценивать их меняющееся медицинское, военное или социоэкономическое значение, существенно влияет на судьбу индивидов. Таким образом, статус инвалида конструируется на стыке множества экспертиз с преобладанием медицинского дискурса. Так, военная медицина балансирует между двумя миссиями: лечением во избежание смерти и реабилитацией для возвращения солдат на фронт[24]24
Во Франции медицина прибегает к хирургическому вмешательству интенсивнее, чем в мирное время: Delaporte S. Les medecins dans la Grande Guerre, 1914–1918. Paris, 2003. P. 39–47.
[Закрыть].
Цель этой статьи состоит, с одной стороны, в демонстрации процесса реконфигурации понятия инвалидности войной и на протяжении войны, а с другой – в обнаружении линий конфронтации медицинской экспертизы с другими дискурсами, определяющими опыт войны в России, в которых доминируют моральные критерии{145}. Во время войны центральное правительство меньше участвует в социальной сфере, чем организованное общество, расширяющее свое поле действия благодаря знаниям и опыту в санитарной и социальной сферах{146}. Главной задачей, которую обнаруживает особый случай инвалидов, является профессионализация, предполагающая эксперимент, систематизацию и рационализацию. В центре нашего исследования, рассматривающего вначале медицинскую экспертизу, а затем санитарное обслуживание и подготовку к демобилизации, стоит вопрос о правилах и ситуациях неотложной помощи, о профессионализме и эффективности, о выработке средств общественного контроля и сохранении социальных ролей.
1. Медэксперты и военные нужды
Видимое и невидимое в физической инвалидности
Физическая инвалидность, видимая и даже поражающая, была связана с типом полученного ранения и возможностями его лечения на месте, как об этом свидетельствует военный врач Розанов в 1915 году: «Мы, хирурги, спасаем жизнь и долго боремся с болезнью, прежде чем решаемся на ампутацию». Даже без ампутации пули и осколки снарядов настолько дробят кости, рвут нервы и вены, что «конечность получается искривленной, укороченной; такой раненый тоже увечный; его конечность много потеряла в своей работоспособности, и он стал плохим работником и для семьи, и для государства»{147}. Число и сложность такого типа ранений побуждали действовать по-новому: так, хирург Григорович изобрел пилу, присоединенную к зажиму и диску, которые не давали мягким тканям мешать операции, что, по его мнению, привело к хорошим результатам{148}. Раненые подвергались увечьям и в тыловых госпиталях – в пропорциях, с трудом поддающихся определению. Война предложила небывалое поле для экспериментов без границ и в огромных количествах с целью проверки научных гипотез в контексте постоянной экстренной помощи.
Первостепенная миссия военной медицины – лечение раненых и больных, но, кроме того, и более глубокое изучение ранений для более эффективного лечения. Во время войны против Японии 20% эвакуированных в полевые лазареты возвращались на фронт сразу же после лечения, 30% шли на поправку – их использовали затем в ближнем тылу, 25% были временно отчислены (отсрочка от 6 до 12 месяцев), 25% отправлены в отставку окончательно. Данные по первым месяцам Первой мировой войны, собранные Петроградским комитетом Союза городов, оценивают число не вернувшихся на фронт в 40%{149} – свидетельство количества ранений во время маневренной войны. Данные за 1916 год говорят о том, что в Петрограде 25,2% раненых и 14,9% больных были уволены со службы; судьба около 10% осталась неизвестной{150}. В силу того, что лазареты на передовых позициях либо убежища в тылу относятся к микроистории, сегодня сложно определить, какой год и какие фронты были лидерами по числу ранений, приведших к инвалидности. В то же время статистика кристаллизует типы ранений, что делает возможным отличать одних раненых от других.
Действительно, опираясь на травматологическую диагностику, баллистику и статистику, военные врачи достаточно рано начали отличать раны, нанесенные врагом (или другим человеком), от нанесенных солдатами самим себе. Попытки саморанения выказывают себя из-за отсутствия разрыва плоти; вместо этого плоть обожжена порохом, а ее поверхность характерно зерниста{151}. В 4-м госпитале Минска в 2476 случаях ранения кисти или пальцев врачи констатируют, что левая рука ранена больше правой, но если присмотреться к пальцам, то оказывается, что больше всего поврежден указательный палец правой руки. Так было обнаружено 156 случаев вероятного членовредительства (6,3% от общего числа таких ранений). Хотя врач Рубишев и не дает дисциплинарных или моральных комментариев об этих людях, он отмечает, что 74% из них – с нанесенными (возможно, умышленно) ранами и что многие долгое время будут страдать от собственных пальцев по причине «слишком ранней выписки из госпиталей и иногда встречающегося пренебрежения врачей к ранениям пальцев»{152}. Речь идет не о неопытности в лечении такого рода ран, но о реакции – скорее карательной (от случая к случаю), чем репрессивной (систематичной и афишируемой) – на вероятное членовредительство тех солдат, у которых врачи диагностировали инвалидность.
Инвалиды с подозрением относились к членовредителям, которые в армии и в гражданском обществе осуждались наравне с дезертирами и теми, кто сдавался в плен{153}: при малейшем подозрении войска отказывались предоставлять пенсию семьям{154}. Наказание членовредителей безжалостно, свидетельствует писарь Василий А. Мишнин, отказывавшийся клеймить их теми же терминами, которые были в ходу в войске: «Вечером пишем бумаги на раненых – везут их в Подольск на суд за саморанение. Ожидает их теперь расстрел. Вот инквизиция. Хотели от смерти уйти, а смерть за ними»{155}. Российская армия, известная жестокой суровостью, решала проблему довольно классическим образом, хотя и не более распространенным, чем в мирное время{156}, а именно – самой радикальной из санкций. В этом случае, как и в том, когда врачи выбирали между лечением и донесением, моральные соображения, разделявшиеся социальной элитой, по всей видимости, брали верх над верой в науку, способную полностью излечивать раны и возвращать солдат на поле боя.
Споры вокруг психиатрической инвалидности
«Самое ужасное», продолжает врач Розанов – это «психозы и без ранений головного мозга, даже без всяких ранений», инвалиды, «которым уже не помочь, их можно только в приют». Нервное заболевание может перерасти в инвалидность, если его не лечить. Поэтому медицинский персонал обращал внимание на симптомы (вид, цвет и текстуру кожи, качество сна и аппетита и так далее), которые позволяли точно диагностировать заболевание{157}. Тем не менее медкомиссии признавали, как трудно выносить решение по рассматриваемым случаям. «Контузии – главное бремя комиссии» при отсутствии симптомов или проявлении неожиданных симптомов: «Надо признаться в нашей беспомощности при них». То, что жертвы контузии возвращались на фронт чаще (38%), чем раненые (35%) или больные (28%){158}, объясняется именно нерешительностью врачебных комиссий, а не одинаково сильным во всех трех случаях давлением со стороны Генерального штаба или желанием солдат вернуться на фронт. Сложно установить число контуженых, которых комиссии вернули на войну через два или три месяца, однако оно кажется достаточно высоким. Вопреки тщательным исследованиям и профессиональным докладам, недостаток образования все же препятствовал медицинской экспертизе, в итоге уступавшей ненаучным доводам.
Невидимая инвалидность вызывала понятное неприятие со стороны военных властей, уже долгое время одержимых подозрительностью к симуляции. Признание shell shock как болезни и как состояния обследуемых солдат целиком зависело от врачебного мнения. Однако оно было каким угодно, только не единодушным, вопреки прогрессу мировой и российской психиатрической науки{159}. Споры велись о терминологии, о роли войны – проявляет ли она уже существующую болезнь или же генерирует определенные патологии? – а также о связи (или отсутствии таковой) психозов с физическим ранением{160}. Как правило, различали жертв более или менее сильной контузии, когда у солдат развивались неврозы и психозы, но при этом жертва не обязательно получала какую-либо физическую травму. Умножение случаев и бессилие военных врачей уступали инновационным методам лечения, таким как, к примеру, метод, предложенный Донатом Андреевичем Смирновым. Продолжая дело знаменитого психиатра Владимира Михайловича Бехтерева{161}, Смирнов утверждал, что сумел излечить гипнозом оба типа контузии, при которых «физической травме сопутствовала психическая, а избирательное расстройство функций зафиксировалось». Так он излечил случай полного мутизма, вызванного рукопашными боями, и случай глухоты на оба уха в результате контузии – за 9 и 20 недель соответственно{162}. Однако помимо лечения заболевание оказалось обстоятельством, требовавшим вовлеченности профессионалов и вызвавшим дебаты экспертов.
Консерваторам, полагавшим, что нужно интернировать этих инвалидов, сломленных, находящихся на попечении и лишенных прав, противостояли либеральные психиатры, которые фиксировали новые неврозы и отстаивали право применения новаторских методов терапии без преследования цели возвращения солдата на войну{163}. Так, в докторской диссертации, защищенной в 1917 году, психиатр Сергей Александрович Преображенский подчеркивал небывалую роль артиллерии, которая способствовала одновременно возникновению, массовой диффузии и специфическим аспектам неврозов, исследовавшихся в Центральном госпитале для душевнобольных комитета Петроградского комитета Союза городов{164}. В 1924 году Преображенский подсчитал, что из 1,8 миллиона инвалидов Первой мировой и Гражданской войн 80% (то есть 1,5 миллиона) все еще страдали от невроза или шока (слабоумия, потери памяти или нарушения слуховых функций), тогда как другие стали из-за войны душевнобольными в прямом смысле. Согласно Преображенскому, все были лишены лечения{165}. Вместе с тем Россия, ставшая советской, не страдала отсутствием ни знаменитых экспертов, ни специализированных институций в столицах и в провинции. В течение многих лет проблемой в России было социальное обращение с такими болезнями и особенно с военной инвалидностью.
2. Возникновение социальных задач
Инвалидность, гражданский статус во время войны
К масштабу потерь царская Россия была готова не лучше других воюющих государств и поэтому вынуждена была постоянно искать новые способы их избегать. Лечение раненых претерпело множество изменений со времени создания Александровского комитета в 1814 году после Наполеоновских войн. Закон от 25 июня и постановление от 23 июля 1912 года учли, хоть и с некоторым опозданием, санитарные и социальные последствия войны с Японией. Акты фиксировали пять новых типов инвалидности, где за основу бралась гражданская инвалидность, учитывавшая потерю трудоспособности. Чтобы получать помощь и пособие, в течение пяти лет после увольнения из армии каждый инвалид должен был лично подать заявку с приложением всех заключений военно-медицинских служб в местные инстанции, которые брали на себя необходимые хлопоты. Закон также предусматривал возмещение стоимости возвращения инвалида домой и оплату ежедневного жалованья в размере пятидесяти копеек до получения пенсии{166}. Степень увечья выражалась в процентах, причем выделялись такие уровни инвалидности: 15, 40, 70, 100 и 100% с полной потерей автономии{167}.
В 1916 году земские специалисты установили, что 22,2% раненых и больных окончательно утратили трудоспособность, из них 1,3% – с полной потерей автономии. Так, среди 5,15 миллиона воинов, прошедших лечение в медицинских учреждениях (2 844 500 раненых и 2 303 680 больных{168}, в среднем 70 000 эвакуированных с фронта ежемесячно), можно насчитать 1,14 миллиона молодых мужчин, в большей или меньшей степени физически неполноценных (из них 67 000 – инвалиды с полной потерей автономии). Это число вписывается в рамки послевоенных подсчетов, которые колеблются между 700 000 и 1,9 миллиона[25]25
Нижняя отметка подсчетов предложена эмигрантом Н.Н. Головиным, для которого, очевидно, важнее количество смертей на поле сражения: он дает округленное число и отказывается экстраполировать данные Петроградского комитета Союза городов, которые он тем не менее использует (Головин Н.Н. Военные усилия России в мировой войне. М., 2001. С. 155–156). Высший (возможно, слишком) предел подсчетов предложен народным комиссаром здравоохранения Н.А. Семашко: Семашко Н. Мировая война и народное здоровье // Бюллетень Всерокомпома. 1924. 1 авг. № 7. С. 18. Вероятно, по случаю годовщины, в момент возвращения СССР на арену международных отношений, важно было продемонстрировать весь размах участия России в мировом конфликте – яблоко раздора с прежними союзниками и «белыми эмигрантами».
[Закрыть]. Впрочем, эти исходные данные должны быть скорректированы, что непросто, если принять во внимание повторные ранения в последующих конфликтах. Например, среди российских инвалидов, получавших пенсию в Германии в 1926 году, Лев С. Роте, раненный в правую ногу 16 августа 1915 года, прошел операцию по ампутации только 15 июня 1919 года. Модест И. Ятвинский получил два ранения и был контужен во время Великой войны, потом потерял руку в Гражданской войне в 1919 и, наконец, был ранен в горло в 1920 году{169}.
Какими бы ни были точные цифры, различные полугосударственные инстанции должны были принимать во внимание количество раненых и семей солдат. Со стороны правительства передовыми институциями социальной мобилизации для инвалидов были Особая комиссия Верховного совета, разные комитеты под патронажем женщин – членов императорской семьи (Александры Федоровны, Ольги Николаевны), Министерств земледелия, народного просвещения, торговли и промышленности, Романовский комитет; со стороны общества – Всероссийский союз городов, Всероссийский союз земств и Центральный комитет военно-технической помощи{170}. Этот список, опубликованный в 1917 году, будет неполным, если не учитывать Российское общество Красного Креста (РОКК), которое многое сделало для инвалидов, находившихся во вражеских военных лагерях, а также Александровский комитет о раненых.
Последний, подталкиваемый необходимостью и конкуренцией с другими организациями, учредил собственное справочное бюро о военнопленных, а также открыл курсы ремесленников и сельского хозяйства для инвалидов{171}. Он покрывал быстро возраставшие расходы, начав с 1,6 миллиона рублей только на пенсии в 1915 году и достигнув 2 737 075 рублей (12 993 получателя) в 1918 году{172}, без учета 2 299 710 рублей единовременных пособий. В 1916 году отрицательное сальдо комитета достигло 838 828 рублей и урезало капитал, ренты которого до сих пор хватало на то, чтобы покрывать издержки. В срочном порядке ежемесячные суммы, выплачивавшиеся ветеранам Русско-японской войны, были снижены с 20 до 5 рублей, прекратилась выдача любых субсидий вдовам и сиротам этой войны{173}. Одна война догоняет другую, прецедент создан. Этот случай, распространенный в стольких организациях и в некотором смысле типичный, обнаружил две важные тенденции. С одной стороны, конкуренция между инстанциями привела к позитивным результатам: увеличение выплат и усовершенствование предложений, даже инновации последовали из постоянного наблюдения за действиями, предпринимавшимися на национальном и локальном уровнях. С другой стороны, увеличение числа организаций, их более или менее легкий доступ к государственным субсидиям в зависимости от личных связей, влиявших и на регламентацию, наконец, разная степень рационализации практик препятствовали приемлемому решению основной социальной проблемы.
Санитарный опыт: слабость государства
Инвалидов эвакуировали в тыл, где они проходили через все уровни военной, а затем и гражданской санитарной системы; самые тяжелые случаи в специализированных госпиталях рассматривались в обеих столицах и в Киеве. В сентябре 1914 года военные власти заявили, что они просчитались с вложениями в медицинские инфраструктуры и оборудование{174}. Эмигрант Александр Арефьевич Успенский утверждал, что во время его первого сражения пункты неотложной помощи находились очень далеко: «Мы не видели никаких санитаров с носилками»{175}. Даже если это свидетельство, появившееся задним числом, после войны, исходило из слишком распространенного представления о неэффективности царского правления, выясняется, что армия дала разрешение земским и городским учреждениям наладить во фронтовой зоне дело эвакуации раненых. Так ситуация нормализовалась к концу 1914 года. Это исключительное напряжение войны пришлось на все губернии: так, Калужская выделила в 1915 году 1370 коек в 56 учреждениях для раненых и больных{176}. Генеральный штаб дал это разрешение и с той целью, чтобы указать на некомпетентность государственных структур и, следовательно, продолжать диктовать свои взгляды имперской администрации{177}. Происходило это, впрочем, в ущерб солдатам, попадавшим в учреждения разного типа, которые, хоть и имели общую функцию, редко сообщались между собой и, в частности, редко передавали друг другу истории болезни пациентов. Так, петроградские убежища Особого комитета Союза увечных воинов приняли в 1916 году в общем 4652 солдата, окончательно освобожденных от службы. В среднем там лечилось 1343 человек. Большинство (3432) были больны или с инфицированными ранами, 318 человек отправлены в другие учреждения на специализированное лечение, 91 оттуда вернулся, пятеро умерли, и один потребовал, чтобы его отправили домой. Врач, составивший данный отчет, все же признает сомнительную надежность этих цифр и отсутствие любых сведений о 227 инвалидах, отправленных на дополнительное лечение{178}.
Фактически спустя 16 месяцев после первого сражения различные партнеры Особой комиссии по призрению воинских чинов и других лиц, пострадавших в продолжение войны, а также их семей при Верховном совете еще ратовали за «выяснение количества лиц, нуждающихся в помощи; разделение их на группы в зависимости от характера помощи, в коей они нуждаются; географическое распределение учреждений помощи увечным воинам»{179}. В то же время, превращая в капитал долгий опыт в санитарной и социальной сфере, Союз земств ввел новый тип регистрационного журнала, где фиксировались намного более подробные данные. В нем уточнялось состояние раненого или больного на момент его прибытия в приют, его состояние и прогнозы о его трудоспособности, оценка его потребностей в отношении специализированного ухода и наблюдения, а также мнение врача о требуемом уровне социальной помощи. Изучение 4000 журналов, заполненных в декабре 1915 и январе 1916 года в 132 приютах Московской губернии, позволяет установить такую статистику: из 2089 раненых и 1911 больных 1392 (34,8%) были целиком излечены, 2258 (56,4%) страдали от хронической болезни и инвалидности или нуждались в дополнительном уходе, 335 были переведены и 15 умерли. Потеря трудоспособности в конце концов коснулась 22,2% раненых, из них 1,3% утратили ее полностью. Около 21,6% инвалидов войны имели двигательные дисфункции{180}. Ни одна государственная структура, по всей видимости, не была в состоянии представить подобную картину и тем более не могла разработать программу по взятию на себя ответственности.
Учитывая то, что центральная власть по традиции предоставила право действовать земствам, основанная в данном случае на медэкспертизе помощь и объединение всех типов специалистов «третьего элемента» земских учреждений стали инструментом политических требований. Земства противопоставляли свой опыт, в частности во время войны с Японией, и свои усилия по статистической рационализации – некомпетентности (охотно преувеличивавшейся) государственных служб. Так, представители земств обвиняли Специальную государственную комиссию в отсутствии плана финансирования помощи инвалидам, оцененного врач ем Меркуровым в 16 миллионов рублей, и в распылении средств государственной помощи по учреждениям, слишком различавшимся статусом и функциями. Союз земств потребовал у Министерств земледелия и внутренних дел предоставления полномочий для централизации благотворительности, а не только для ее организации на локальном уровне{181}. Неизбежный результат – неудовлетворение этого требования, может быть, и не тормозил функционирование санитарной системы городов и земств, однако стал помехой для ее упорядочивания. Вопрос инвалидов, гуманитарный в первую очередь, в ходе войны оказался политизированным, когда масштабы санитарной катастрофы более не вызывали сомнений.
Эта смена регистра укрепилась тотчас же после падения монархии. Отныне Временное правительство опиралось на опыт местных комитетов Земгора: их многочисленные сотрудники принимались на службу в новые государственные структуры{182}. В то время как спонтанно зарождался Центральный союз инвалидов войны, созданные при Февральской революции власти основали Общегосударственный временный комитет помощи военноувечным (29 июня 1917 года), где половина мест была отдана представителям инвалидов. Развернул ли бы деятельность Комитет, не случись Октябрьская революция?{183} С помощью как инвалидов, так и других групп, требовавших мест в новом обществе (женщин, мусульман), Временное правительство старалось доказать свою близость к народу. Однако оно оказалось неспособным ни радикально изменить масштабы денежных сумм и число взятых на попечение людей, уже тяжелым бременем давивших на государственный и местные бюджеты, ни упорядочить пути возвращения к гражданской жизни и труду. Предложенные в эпоху царизма курсы переквалификации не претерпели ни изменений структуры, ни увеличения количества мест, а право на внеочередной прием на работу оставалось несбыточным желанием{184}. Таким образом, улаживание судьбы инвалидов представляется в точности генеральной репетицией того, что ожидало нацию по окончанию конфликта.








