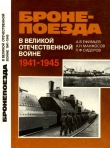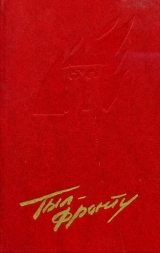
Текст книги "Тыл — фронту"
Автор книги: авторов Коллектив
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 20 страниц)
По примеру токарей Д. Панькова работали и другие фронтовые комсомольско-молодежные бригады: Фаины Вольхиной и Марии Гамаюновой, Валентины Шахматовой и Нины Фадиной. В начале 1944 года Нина Фадина перешла в отстающую бригаду и вскоре вывела ее в передовые. Комсомольско-молодежные бригады были первыми во всех начинаниях, в том числе и в соревновании за экономию материалов, инструмента, электроэнергии.
– Памятным для меня стал сорок четвертый, – вспоминал Д. Л. Паньков. – Мы с Женей Курочкиным стали участниками Всесоюзного совещания бригадиров лучших комсомольско-молодежных бригад. В Москве мне вручили значок «Отличник социалистического соревнования», который теперь хранится в заводском музее, наручные часы и Почетную грамоту ЦК ВЛКСМ. В том же году уже в Челябинске нас, группу в шесть-семь человек с завода, пригласили в облисполком и вручили ордена и медали. Мне – орден «Знак Почета». А было каждому из нас тогда по 18—19 лет.
Далеко за пределы области разнеслась добрая молва о фронтовой комсомольско-молодежной бригаде слесарей-лекальщиков Семена Кукова. По инициативе слесарей на участке установили отрезной и доводочный станки, внедрили немало рационализаторских предложений. Это позволило значительно увеличить выпуск инструмента. Поддержав почин бригады электросварщиков Егора Агаркова, работавшей в Челябинске на сварке танков, слесари-лекальщики высвободили мастера. Ежедневно в коллективе обсуждались итоги работы каждого, новички учились у более опытных товарищей. В начале 1944 года бригада С. Д. Кукова заняла второе место по области, затем ей было присуждено второе место во Всесоюзном соревновании. За счет совмещения профессий, расширения зон обслуживания на заводе высвободили десятки мастеров, диспетчеров, наладчиков, рабочих.
В ту пору работникам завода ежедневно приходилось решать много сложных вопросов, проявлять находчивость, смекалку и выдумку. Так, в начале 1942 года из-за нехватки ящиков задерживалась отгрузка продукции. Из 34 тыс. снарядов РС-132, изготовленных в апреле, отправили на фронт только половину. В мае не отгрузили своевременно более 34 тыс. снарядов. Челябинская база по изготовлению тары не справлялась с заданием. Пришлось организовать ее производство на заводе. Экстренно построили тарный цех, установили лесопильные рамы, пригласили работать домохозяек и школьников. И вышли из затруднения, снаряды без задержки пошли на фронт.
Лучший электросварщик завода И. И. Дубинский, работавший на сварке ферм БМ-13, помог соседнему цеху выйти из прорыва. Соседи делали бугели для авиабомб. Приварка ушек на ленту производилась автогеном. Затем бугель испытывался на отрыв ушек под нагрузкой 1,8 тонны. Многие детали не выдерживали испытаний и шли в брак. И. И. Дубинский подобрал соответствующий электрод и попробовал применить электросварку. Все бугели выдержали испытания. Они разрушались только при нагрузке более 3,5 тонны, и рвались по целому месту, а не по шву. В дальнейшем, не оставляя своих ферм, бугели делал только И. И. Дубинский. Тем самым он высвободил четверых автогенщиков. Золотые руки этого электросварщика не раз выручали завод: то он «лечил» поломавшийся коленчатый вал компрессора, то котел парового экскаватора, который завод одолжил для уборки литейных отходов, то ремонтировал лопнувшую станину…
На заводе ощущался недостаток веретенного масла, в котором производилась закалка некоторых деталей реактивного снаряда. Тогда инженер А. В. Тимофеев, техник А. Л. Кацев, термист С. Т. Крылов и начальник участка А. Г. Коноваленко сконструировали приспособление, с помощью которого детали стали закаливать в простой воде. Это нововведение позволило заводу сэкономить сотни тонн дефицитного веретенного масла.
С помощью рационализаторов, экономивших средства, материалы, энергию, высвобождавших людей, только в 1944 году на заводе сберегли почти полтора миллиона рублей.
На заводе даже в суровое военное время немало делалось для улучшения жизни людей: строили жилье, столовые, организовали дополнительное питание по талонам, снабжение рабочих одеждой и обувью, коллективное огородничество. В конце войны в подсобном хозяйстве выращивали: картофель – на 145 гектарах, овощи – на 65, зернобобовые культуры – на 190. Под индивидуальные огороды в сорок четвертом году было выделено 160, а в сорок пятом – 240 гектаров.
Созданием более благоприятных условий труда и быта особенно выделялся цех № 8, который возглавлял Г. В. Дворников. Здесь открыли сапожную мастерскую. Она обеспечивала рабочих ботинками и сапогами собственного изготовления. Использовав тепло закалочных печей, активисты оборудовали душ. Варили мыло. А чтобы хоть как-то поправить тяжелое положение с продуктами питания, в цехе организовали бригаду для ловли рыбы в реке Миасс и близлежащих озерах. Все это помогало рабочим поддерживать ослабевшие силы и здоровье.
Коллектив завода проявлял большую заботу о семьях фронтовиков. По инициативе парткома и профсоюзного комитета был создан специальный «фонд помощи». Только в 1944 году из этого фонда семьям фронтовиков выдали 213 тыс. рублей и различных подарков на сумму 23 тыс. Постоянно оказывалась им помощь в ремонте жилья, снабжении промышленными товарами.
Трогательную заботу проявляли колющенцы о защитниках Родины. На заводе систематически проводились сборы денежных средств в Фонд обороны и теплых вещей для бойцов. Так, на собранные деньги был куплен боевой самолет и передан гвардейской авиационной части. К 26-й годовщине Красной Армии собрали 156 тыс. рублей, на которые заводские активисты закупили шерстяные носки и варежки, табак, кондитерские изделия. Все это отправили бойцам и командирам.
В числе членов челябинской делегации на Северо-Западный фронт ездила с эшелоном подарков комсомолка Екатерина Васильева. Вернувшись на завод, она выступила в каждом цехе, передала сердечную благодарность от воинов, рассказала, как забота о бойцах придает им мужество и отвагу.
Колющенцы активно помогали жителям городов и сел, освобожденных от немецко-фашистских захватчиков. Так, в Курскую область заводчане отправили металлообрабатывающие станки, плуги, на десятки тысяч рублей различных инструментов, изготовили для жителей разоренных деревень металлические тазы, тарелки, ложки, вилки, корыта и другие предметы бытового назначения. В марте 1944 года колющенцы отправили в Мелитополь 16 токарных станков и паровой молот, в Сумскую область – 23 токарных станка, в Запорожскую – три электромотора, мотовоз, несколько сельскохозяйственных машин.
И вот пришел долгожданный День Победы. На заводе состоялся многотысячный митинг. Люди ликовали, смеялись и плакали, обнимали и поздравляли друг друга. С болью вспоминали о погибших. Память павших почтили минутой скорбного молчания. А потом тысячи колющенцев со знаменами, транспарантами направились в центр города. Праздник продолжался до позднего вечера.
С гордостью могли сказать колющенцы, что внесли достойный вклад в борьбу с фашизмом, сделали все для того, чтобы приблизить этот радостный день. Успешно выполняя задания Государственного Комитета Обороны, челябинцы ежемесячно отправляли на фронт 45 боевых реактивных минометных установок. А реактивных снарядов изготовили за годы войны более миллиона штук. А еще мины, авиабомбы – тоже несколько миллионов.
Родина наградила орденами и медалями 107 работников завода. Ордена Ленина были удостоены электросварщица В. И. Шеина, стерженщица О. А. Плотникова, слесарь-лекальщик С. Д. Куков, токарь П. П. Дмитриев, начальник цеха И. С. Морашко, директор завода С. А. Полянцев.
Прошли десятилетия, но 1418 тревожных дней и ночей войны не забыты. Колющенцы навсегда увековечили трудовой подвиг создателей легендарных «катюш» и в канун 30-летия Победы установили у заводского Дома культуры памятник, сооруженный по проекту заслуженного художника РСФСР скульптора В. С. Зайкова и заслуженного архитектора РСФСР Е. Е. Александрова. На гранитный пьедестал поднялась боевая машина БМ-13 с укрепленными на направляющих макетами снарядов. На постаменте высечены строки:
Создателям гвардейских минометов —
Оружия отмщенья и побед
С великой благодарностью.
С. НАРОВЛЯНСКАЯ,
журналист
Тайна «катюши»
Уже в первые месяцы войны, когда превосходство противника угнетало и подавляло, беспощадные залпы «катюш», наводившие ужас на врага, были предвестниками неизбежной расплаты. Сбивая спесь с фашистов, «катюши» вселяли в наших бойцов гордость и восторг: и мы не лыком шиты. «Катюши» воевали не только снарядами, они поднимали боевой дух наших воинов, укрепляли их достоинство, учили презирать врага. Слово «драпают» было начинено зарядом, которое обрушилось на захватчиков мужеством и отвагой.
В годы войны и много лет после нее «катюши» оставались под покровом тайны, которую мы сами берегли. Мы позволяли себе лишь удивляться: откуда они «вдруг» появились; «катюши» – оружие, которое никто не имел, кроме нас. Мы не знали, кто их создал, кто, где и как их выпускал. Мы не понимали, откуда в них такая мощь, такая неземная огненная сила.
Теперь, почти полвека спустя, тайны как будто нет, но и до сих пор остается ощущение легенды.
Так кто же создавал «катюши»?
Один из них – Семен Михайлович Тарасов. В годы войны он был главным конструктором завода имени Д. Колющенко.
Семен Михайлович родился в Верхнеуральске в начале нынешнего века. Вальцовщик на мельнице, начальник радиостанции в армии, пропагандист союза пищевиков, парторг на заводе, студент Томского индустриального института и, наконец, инженер завода имени Колющенко – таков его путь до войны.
– В Челябинск я приехал в брезентовых туфлях. Пошел бы в науку, приглашали, но меня смущала грамматика. Мой одноклассник писал «фтулки». Этого боялся. А технику, признаться, схватывал быстро. На заводе я был, кажется, восьмым инженером.
Чему посвятил себя инженер Тарасов за два года до войны? Он создавал новый плуг. Обыкновенный, которым пашут землю. Конкретно: придумал новый механизм подъема плуга с любой глубины пахоты за один оборот колеса. Это первое изобретение Тарасова. Авторское свидетельство было опубликовано в журнале 31 марта 1941 года.
– Уже после войны попал я как-то на сельскохозяйственную выставку у нас, в парке Пушкина. Смотрю: мой автомат на плуге. А я уж, было, забыл о нем.
Говорят, у «катюши» и космических ракет один исток. Это факт. Но есть у них еще одно начало: плуг, перекованный в меч.
Плуг забыли сразу же, как началась война.
– Уже в июле, в первой декаде, я получил чертежи снаряда РС-132. А 9 августа Государственный Комитет Обороны обязал ряд заводов, в том числе и наш, освоить производство установок БМ-13.
– Семен Михайлович, кто выпускал «катюши»?
– Кто? Пока нам дали броню, самые квалифицированные рабочие ушли на фронт. Мы приняли сотни женщин и подростков, которые и подойти к станку боялись. Несколько легче стало, когда поступили оборудование и люди из Херсона, Сум, Москвы. Но опять загвоздка – где все разместить? Представьте себе: цех без одной стены, ее переносят на новое место. Снег, холод. Горнушки – только руки погреть.
– А знали ли вы, какое оружие вам доверено?
– Откровенно сказать, нет. Собранную «катюшу» видели немногие. А на тех, кто видел, она не производила особого впечатления: уж слишком проста и в то же время необычна. Сначала и я недоумевал: как она стреляет? По одному наводить и выстреливать каждый из снарядов? Вроде долго. Только потом узнал, что пускающее устройство «катюши» – как арифмометр: крутишь ручку – и снаряды вылетают один за другим. Что ни секунда – два снаряда.
Не сразу узнали мы, какой ужас наводили «катюши» на врага.
– Но все-таки видели, как она стреляет?
– Нет, не видел. Приезжали к нам фронтовики принимать «катюши». Спросить бы – нельзя. И те молчат. Только иной большой палец покажет. Хорошая, дескать, штука, давайте побольше. Понравилась, и то ладно.
Был у меня такой случай. Прибыл с фронта брат двоюродный. Сели мы за стол, как положено, разговариваем про дела на фронте и в тылу. Гляжу, брат вроде что-то по секрету хочет мне сказать. Как только жена отойдет от стола, наклонится и шепчет: «Ты знаешь, что я на фронте видел!..» – «Что?» – «Мы занимали склон горы. С наблюдательного пункта далеко видно. Внизу, вдоль реки, немцы сосредоточились. Много их набралось, аж черно на снегу. И тут наши как пальнули, на том месте – сплошной огонь. Представляешь?» И он, оглянувшись, закончил: «Есть у нас орудие такое…»
К тому времени я уже догадывался, как воюют наши «катюши». И тут понял, что брат говорил о них. Он, конечно, удивился бы, скажи я ему, что это самое «орудие» мы делаем на своем заводе. Но я промолчал тогда…
Так рождались легенды о «катюшах». Будто они, как в сказке, появляются неизвестно откуда. А чудо было в другом – их в голоде и холоде выпускали подростки, вчерашние школьники, стоявшие у станков по две смены.
Как было в те годы? Надо, и все! Помню, как не могли мы сверлить отверстия диаметром 2,9 миллиметра. Сталь твердая, сверла летят, идет брак. Кто ни возьмется, не получается. И тут случился прием в обкоме партии. Отвечая на вопрос Н. С. Патоличева, как идут дела, колющенцы признались: беда, сверла слабоваты. И тогда Николай Семенович открывает сейф и достает несколько пачек сверл. Видимо, знал он про нашу беду.
В первый же день Зина Черноскулова, работая новыми сверлами, сдала несколько деталей. Вместе с ней восемнадцать девушек были заняты на этой операции. Мы им даже отгородили место в цехе, чтобы никто не мешал. И дело пошло.
Конечно, мы догадывались, какое важное дело нам поручено. Например, уже в декабре 1941 года в «Правде» в списках награжденных прочитали фамилии своих товарищей. Работники тыла в первые месяцы войны награждались крайне редко.
Должен сказать, что нам было очень необходимо знать, как действуют наши «катюши». Вести с фронта поступали нечасто, особенно в первые годы. Но когда мы узнавали, что там довольны нашей продукцией, это очень помогало в работе, всех буквально подстегивало. Мы радовались и забывали о трудностях.
Отвлекусь и скажу, что была у нас в те годы еще одна радость. Сразу после разгрома немцев под Москвой поступил приказ: восстановить производство плугов. Где, как? Все заняты военными заказами. Места нет. А мы радовались: если правительство беспокоится о производстве плугов, значит, угроза миновала. А главное – эта работа как бы возвращала нас к мирной жизни.
– Семен Михайлович, а что такое «катюша»? Как она устроена? Мне, например, понятен танк, гаубица или миномет. А «катюша» до сих пор, признаться, загадочна. Такое ощущение, что ее секрет до конца не раскрыт. Теперь-то можно раскрыть тайну? Уж вы-то хорошо знаете конструкцию.
– Главное в ней, конечно, снаряд. Он – реактивный. В камере двигателя – семь шашек пороха (длиной 55 и диаметром четыре сантиметра). Сгорая, порох создает в камере давление в 300 атмосфер, температура поднимается до трех тысяч градусов. Раскаленные газы, вырываясь через сопло, создают тягу. При сходе скорость снаряда 70 метров в секунду, а максимальная – 355. Ну, и головка, в ней боевой заряд. Дальность полета – 8,5 километра. Так устроен снаряд РС-132.
Просто? Теперь-то просто. А тогда… Ведь у нас был плужный заводик, старенькое оборудование.
Сама же установка была еще проще. Направляющие, ферма, поворотная рама. Сложность была в том, что подрамники надо было делать под разную тягу: от тракторов до «студебеккеров».
– Наверное, эта кажущаяся простота и вводит в заблуждение. С каких-то рельсов сходят длинные снаряды, завывая, пролетают, будто огненные копья, над головой – видно, как они «плывут» в воздухе, как опускаются и зажигают землю, снег, металл…
– А знали вы, что «катюши» делают не только в Челябинске?
– Нет, конечно. Как-то нам привезли платформу «катюш» на ремонт. Меня и главного технолога послали на Переселенческий пункт посмотреть, какой ремонт требуется. Прибыли мы туда, смотрим, не все наши. Тогда и догадались.
– И город не знал о том, что вы выпускаете?
– Сборка «катюш» велась в одном месте. Это старый гараж на углу улиц Елькина и Труда. Оттуда все они и отправлялись, конечно же, скрытно. На этот счет было очень строго.
Однажды был у меня повод поволноваться. Иду зимним вечером по улице Труда, подхожу к гаражу: что такое? Окна большие, покрытые тонким слоем инея. И при вспышках сварки на окнах – силуэты «катюш». Тому, кто их видел, нетрудно догадаться, чем заняты в гараже. Пришлось тут же переставить сварку так, чтобы тень не падала на окна. Время было такое.
– И все-таки, Семен Михайлович, хочется представить «катюши» на улицах Челябинска. Давайте попробуем.
– Отгружали их всегда ночью. Установка обязательно укрывалась брезентом – тогда говорили «капотом». Колонна выезжала из ворот на улицу Васенко…
– И на станцию?
– Да. Был случай, я сам ездил, но сейчас не вспомню, по каким именно улицам.
– Да тут дорога, собственно, известная. И нам нетрудно вообразить: ночной город военной поры, по пустынным улицам едет колонна грузовиков. Высоко над кабиной наклонно поднимаются покрытые брезентом «спарки». Это видение надо запомнить навсегда: «катюши» в ночном городе.
– Семен Михайлович, а само слово «катюша» когда вы узнали?
– Я знал несколько названий. Офицеры говорили «гвардейские минометы». Солдаты по-всякому их называли: гитара, секретка, адская мясорубка и даже Раиса Семеновна с гитарой. А осталось одно название – «катюша». Кстати, мы на заводе направляющие называли спарками, а снаряды – ровсами.
…«Катюши» многое объясняют в войне, увенчанной победой. Они объясняют современникам нашу революцию, нашу страну, наш Союз. «Катюши» не с неба свалились. Теперь ясно: они были маленькими ракетами, которые ныне поднялись до космических высот. Ясно теперь и то, что страна была готова не только создать, но и освоить новое оружие. Иные смотрели на «эрэсы» с позиций старой, крестьянской России: где взять столько снарядов на такую «швырялку»? И где взять столько автомобилей? Но все нашлось: и снаряды, и тяга. Потому что бой приняла новая Россия, взявшая разбег до войны и обнаружившая свою мощь, пусть тогда еще невеликую, первыми залпами «катюш» в первый же год войны.
М. ФОНОТОВ,
журналист
В сжатые сроки
С первого дня войны завод начал срочно перестраиваться на выпуск военной продукции. В середине июля 1941 года мы получили сообщение о том, что к нам эвакуируется завод из Брянска. Несколько позднее прибыло оборудование с Мытищинского и Сталинградского заводов. Все монтировалось и восстанавливалось в сжатые сроки.
Очень сложной задачей оказалось принять эвакуированных людей. Наш маленький городок состоял в основном из личных домиков, коммунального жилья почти не было. Мы встречали эшелоны, ставили людей с чемоданами и узлами в шеренгу и… вели на очередную улицу, подводили к очередному дому и оставляли одну из семей появившейся на стук хозяйке. И не помню случая, чтобы кто-то отказался принять эвакуированных.
…Всех нас в то время выручали огороды. Картошку и овощи выращивали все. Но тяжелым оказался 1943 год – дождем смыло весь урожай. Это грозило дистрофией. Как от нее спастись? Очень помогли дрожжи, выдавались по два ведра на цех. Начальник цеха приглашал мастера, смену рабочих, первую кружку растворенных дрожжей пил сам, потом заставлял всех остальных. Неприятно, но надо!
Месяца три пили эти дрожжи, а дистрофию побороли. После тяжелой зимы 1943—1944 годов распространили инициативу «Каждой семье вырастить не менее 100 кочанов капусты». И вырастили. Таких трудных моментов, какие пришлось пережить в сорок третьем, больше не было.
Наш завод – кусочек Урала, опорного края державы – успешно справился со сложными заданиями в годы войны и заслуженно был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
М. А. АНАНЬИН,
парторг Усть-Катавского вагоностроительного завода
В феврале 1941 года я приехал на Урал с новеньким дипломом выпускника МВТУ. Приехал на завод, который только начинал свое существование. Когда пришла война, в густом болотистом лесу стояло всего несколько двухэтажных деревянных домов… Некоторые семьи рабочих жили еще в землянках… Молодых специалистов разместили на частных квартирах. Я жил в городе. Утром вставал в пять утра, на трамвае добирался до вокзала, потом поездом до Уржумки и пять километров пешком до проходной.
Производственный корпус еще только строился, но с первого дня войны было решено параллельно наладить выпуск военной продукции. Линия фронта как бы прошла через завод… Рабочие, не дожидаясь, когда появится крыша над головой, начали выпускать продукцию.
В сентябре на Уржумку прибыл эшелон со станками и людьми эвакуированного из Тулы завода. Осенняя слякоть, ранние морозы, отсутствие техники крайне затрудняли разгрузку, транспортировку и монтаж оборудования. Все как один объявили себя мобилизованными на эту работу. Станки тащили волоком по деревянным настилам. Плохонькая одежонка не спасала от пронизывающего ветра. Но темпы были поистине скоростными. Уже через два-три месяца в недостроенных корпусах рабочие выдавали продукцию.
Жили трудно – по несколько человек в двенадцатиметровых клетушках барака. Дрова заготовляли сами. На заводе была одна столовая с очень скудным выбором питания: суп из крапивы и жидкая пшенная каша. Работали в две смены по 12 часов. Выходившие в первую смену обычно оставались еще на два-три часа. Когда что-то не ладилось, срывалось выполнение задания, люди в течение нескольких суток не уходили с завода… Все невзгоды, отсутствие бытовых удобств воспринимались как суровая необходимость. Главное, чтобы фронт получал все, что нужно…
А. С. БОЙКОВ,
начальник цеха Златоустовского машиностроительного завода
С первого сентября 1941 года я стал учиться в ремесленном училище № 18 в Каслях в группе слесарей-инструментальщиков. Мастером-наставником был у нас Н. Д. Ахлюстин. Но по-настоящему учиться не пришлось. Заводу нужны были рабочие руки, чтоб выпускать снаряды и мины. Через три-четыре месяца мы уже работали в цехах наравне со взрослыми. Меня, А. Мурышкина и В. Лепаловского направили в цех по производству стабилизаторов для мин, на окончательную обработку.
Другие ребята и девчата работали на токарных станках, на штамповке. Многие из них не доставали руками до ручек управления. Под их ногами стояли ящики из-под снарядов. А Наташа Дрочан и с ящика еле-еле управляла станком.
Особенно тяжелой была для нас зима 1942—1943 годов. Что-то не ладилось со снабжением и транспортом. Люди умирали от истощения, особенно из литейного цеха. Работали в две смены: первая с семи утра до семи вечера; вторая – с семи вечера до семи утра. Часто после смены приходилось идти на погрузку ящиков с минами и снарядами. Нелегко было истощенным, неокрепшим мальчишкам в 16—17 лет таскать на спине ящики весом 40—50 килограммов по трапу в вагон.
Зимой после такой работы те, кто жили в общежитиях, с завода не уходили. Шли в литейный, находили теплый угол и кучкой спали до своей смены. При очень нужной и срочной работе не выходили из цеха неделями…
Иногда нас премировали талонами на дополнительное питание, давали по 100—200 граммов хлеба или пачку табаку. Очень плохо было с обувью. Особенно тяжело приходилось эвакуированным. На заводе в тарном цехе наладили изготовление «колодок». Подошва-доска из березы толщиной 20—25 миллиметров, а верх – брезент. Но приобрести их можно было только на талоны. Я лично износил три пары обуви, а Николай Андреевич Цветков говорит, что износил 18 пар… Вот так мы жили и работали.
И. ЧУДАНОВСКИЙ,
выпускник Каслинского ремесленного училища № 18
Из документов Златоустовского краеведческого музея
…В октябре 1941 года Московский часовой завод им. С. М. Кирова в соответствии с решением Государственного Комитета Обороны эвакуировался в Златоуст. Сразу же возникла масса трудностей. Вместо светлого четырехэтажного здания часовому заводу было предоставлено совершенно неприспособленное здание школы и драматического театра. В сжатые сроки требовалось смонтировать и пустить 1300 единиц оборудования. По два-три дня не оставляли часовщики рабочих мест, часто монтаж шел при свете керосиновых ламп, так как электроэнергия подавалась с большими перебоями.
…В конце февраля 1942 года завод стал выдавать продукцию. Но не хватало кадров. В Златоуст с заводом прибыло всего лишь 290 работников, на их плечи в основном и легла вся ответственность за монтаж оборудования и подготовку кадров. На завод пришли вчерашние школьники, 14—15 лет, домохозяйки и инвалиды. Они должны были в сжатые сроки овладеть искусством изготовления сложнейших мелких деталей, сборки и регулировки точных приборов. Более 1700 новых рабочих подготовили часовщики за годы войны… Уже в апреле 1942 года завод выдавал все виды точных приборов – для самолетов, танков, артиллерии, кораблей Военно-Морского Флота. Кроме того, стал изготовлять детали для взрывателей к минам и гранатам…
Всего за годы войны часовой завод выпустил свыше 12,7 тыс. авиационных приборов, 77 тыс. танковых, 45 тыс. артиллерийских, 7,5 млн узлов и деталей для боеприпасов, множество другой продукции. Почти 73 процента советских танков и 92 процента самолетов были оснащены надежными приборами златоустовцев.
Есть уральский автомобиль!
Уральский автомобильный создавали на базе эвакуированного оборудования Московского автомобильного завода: его основное производство по выпуску автомобиля разместилось в Ульяновске, кузнечно-прессовое производство – в Челябинске, автоагрегатное (радиаторы, карбюраторы) – в Шадринске и автомоторное – в Миассе.
Сооружение объектов автомоторного производства в Миассе началось в конце сорок первого. На месте строительства имелся небольшой поселок (два барака и четыре двухэтажных деревянных брусчатых дома). На площадке был построен модельный цех да стояли колонны здания другого цеха.
Строительство велось с главного объекта – высоковольтной линии электропередач. Без электрической энергии невозможно было ни строить, ни организовать промышленное производство. Высоковольтную линию протяженностью 16 километров при 40-градусных морозах построили за 45 дней, за семь дней смонтировали заводскую электростанцию. На ее сооружении отличались бригады каменщиков Фомичева и штукатуров Васина. Они трудились по двое суток подряд, не покидая места работы.
Особо высокими темпами развернулись работы после того, как в январе 1942 года Государственный Комитет Обороны принял решение о строительстве Миасского автомоторного завода. Уже через четыре месяца, в конце апреля завод начал выпуск моторов и коробок перемены скоростей. К июлю он произвел 41 тыс. моторов, 60 тыс. коробок и много запасных частей для автомобилей и боевых машин.
Построить за столь короткое время более 80 тыс. квадратных метров производственных площадей, в том числе механического и литейного цехов, конвейера для сборки моторов – дело сложное и трудное. Эти трудности усугублялись тем, что стояли лютые морозы. На площадке – высокий уровень грунтовых вод. Приходилось прокладывать дренажные канавы, а для ускорения производства земляных и бетонных работ – применять электроподогрев.
После того, как на полную мощность стали работать все заводы, расположенные в области, – автоагрегатный, кузнечно-прессовый и автомоторный, возникла идея построить в Миассе автомобильный завод с замкнутым циклом, выпускающий автомобили. Эту идею поддержал первый секретарь обкома ВКП(б) Н. С. Патоличев. Много усилий, труда и энергии вложил в строительство завода его директор Г. С. Хламов, ставший потом министром автомобильной промышленности. Автозаводцы своими силами смонтировали все технологическое и станочное оборудование.
Многие партийные организации и предприятия области оказывали помощь в сооружении УралАЗа. За девять месяцев были сооружены механосборочный корпус, а также литейная № 3, ремонтно-электромеханический цех. Несмотря на сжатые сроки, завод построили комплексно, с применением долговечных конструкций. 8 июля 1944 года с главного конвейера сошел первый уральский автомобиль.
Что способствовало столь быстрому сооружению первой очереди завода? Во главе строительства обком партии поставил коммунистов с незаурядными способностями, с чувством высокой ответственности за порученное дело. Партийная организация сумела мобилизовать коллектив на самоотверженный труд. Строительство возглавлял управляющий трестом М. А. Прихожан. Михаил Александрович был энергичным инженером, требовательным и настойчивым в выполнении поставленной задачи – за все это его высоко ценили и уважали люди.
Хорошей опорой ему в работе был главный инженер треста Б. М. Эпельбаум – человек вдумчивый, тактичный, с большими инженерными знаниями. Начальником стройуправления «Уралавтострой» длительное время (до и после пуска в эксплуатацию завода) был Фрейман. Много труда вложили в сооружении предприятия мастер Тимченко, прорабы Кравцов, Гладков, Чернышев.
Организация строительства объектов была хорошо продумана, работы велись по совмещенному поточному графику, с применением передовой технологии и стахановских методов труда. Большое внимание уделялось творческим поискам изобретателей и рационализаторов. В результате в производство было внедрено 400 рационализаторских предложений.
Бригада плотников коммуниста Лоскутникова работала на самых ответственных участках, днем и ночью, в пургу и метель, всегда задание выполняла досрочно, давая три-четыре нормы в смену. До 40 кубов бетона за смену при больших морозах укладывали бригады Мурдасова, Щербакова.
По-боевому работала на стройке комсомольская организация. Комсомольцы шли вслед за коммунистами. На стройке трудились 52 комсомольско-молодежные бригады, среди них особенно отличались бригады Ярицкого, Фомичева и Миллерова. Бригада слесарей-сантехников Умедмана была инициатором движения – с меньшим числом рабочих выполнять большой объем работ. В его бригаде вместо шести слесарей стало три, но она выполняла задание на 180—200 процентов.
С начала 1944 года и до самого пуска автозавода на стройке работала бригада обкома партии во главе с заместителем секретаря обкома по машиностроению Я. Н. Смирновым. Яков Николаевич занимался вопросами подготовки производства По выпуску автомобилей, изготовлением вспомогательного оборудования, подготовки кадров. Мне, как его заместителю, были поручены вопросы, связанные со строительством завода…
Сейчас УралАЗ – один из крупнейших гигантов отечественной автомобильной промышленности. Его мощные «Уралы» хорошо известны и в нашей стране, и за рубежом. А мне вспоминаются самые первые автомашины этого завода – трехтонные «УралЗИСы», которым довелось пройти по огненным дорогам войны. Вспоминаются они еще и потому, что именно с их кузовов прозвучали победные залпы «катюш».