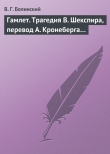Текст книги "Знание-сила, 1998 № 02 (848)"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанры:
Газеты и журналы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 14 страниц)
Дрожь пробирает от вида толстых тетрадей, таких знакомых, таких уже в прошлом – с клеенчатой кожей, со школьной линейкой. Страницы неразборчивого почерка без воздуха и полей, набитые буднями, как сама жизнь. «Работа... Только она спасает»,– глаз выхватывает из чужого свое.
– Да вы же просто герои! Читать, разбирать в век компьютеров и повальной публичности. А это кто? Фамилия интересная – Збаровский. Круг Модильяни?
– Портной. В свое время обшивал верха.
– А в деле рукопись...
– О том, что у нас нет антисемитизма. Посмотрите, какой интересный документ: автографы знаменитых евреев.
– У нас нет антисемитизма? – Я – почти оскорбленно: – У нас есть все. Есть даже книга: «Советские евреи в науке и промышленности в период второй мировой войны» как реакция на это «нет», как сама фамилия автора этой книги – Минипберг.
Позже я поняла: у Збаровского это прием – утверждая «нет», говорить «да», но разгадка не греет как шаг в сторону, а не на дорогу.
Дальше – архив семьи, связанной с армянской обшиной в Астрахани. При этом выражение лица Г И. как у попечительницы сирот, которых надеется пристроить в хорошие руки. Но я – мимо этого выражения, мимо нее самой, к другим ящикам. Семейные реликвии, продовольственные карточки, кулинарные рецепты, талоны на продукты, проездные билеты, редикюль с письмами, альбомы... – все к моим услугам, но я не чувствую готовности к ним. Oi части потому, что исчерпала себя на одной архивной публикации, отчасти потому, что она доставила много хлопот и мук.
– Представляете, Г. И., в архиве Никитского сада мне попалась судьба одного поляка. Юноша. Сирота. Покончил с собой. Все, что осталось от него,– несколько листочков в папке, а на ней кто-то написал: «В макулатуру». Дальше был мой рассказ, так сказать, материализация этой судьбы или после-судьбы, которую хотелось репатриировать. Есть такой польский культурный центр, куда и явилась. «А мы не занимаемся пропагандой русской культуры...» – «Но эго же поляк! Пусть Хоть его тень вернется на родину».– «А поляк, который жил здесь у вас,– это не поляк».
(Сказано в лучших традициях общечеловеческого идиотизма. Ну как еще назвать? Оглядкой на конъюнктуру?.. Узколобостью?..)
– Иногда я тоже падаю с ног. Не хватает сил... Морально. Когда люди передают свои архивы. За каждым жизнь, судьба. Представляете, что это такое?.. Сдают-то, как правило, те, кому немного осталось...
Это представить нетрудно, а лучше не представлять, потому что... В общем, больно.
На архивном языке та передающая сторона (из жизни, гущи, потока) называется фондообразователями. Слово неудобоваримое при том, что архив ориентирован на человеческую душу, приемлет всех – вне иерархий, вне пренебрежительного отношения к человеку толпы с обзыванием: масс-медиа, совок, темнота... Каждый обладает частицей уникального исторического знания и уже этим бесценен. Всякое свидетельство – звено цепи, идущей еще из Библии (кто кого родил, откуда пошел), в архиве предстает не в абстрактном виде, а словно под микроскопом. Тут есть потрясающие детали.
Представьте, весна двадцатого года, ночной состав, теплушка. Едут на Кубань, спасаясь от голода. Среди пассажиров бестужевка.
«Рядом со мной оказался какой– то человек, с которым мы разговорились. Лица его я не видела, огня ни у кого не было. Я только слышала голос. И чем больше мы разговаривали, тем больше я ощущала, что это какой-то свой человек, из нашего слоя общества, наших общих каких-то понятий, нашей культуры, что это существо близкое, и чем больше я разговаривала, тем больше убеждалась, что читали мы одинаковые книги, знаем примерно ту же музыку, что в общем наш культурный уровень одинаков, а это в те времена было очень редко. Одним словом, мы с этим человеком. проговорили вею ночь в темноте абсолютной. Настало утро и рассвело. Картина, которая предстала передо мною, была неутешительна. Это был молодой человек очень худой, очень бледный, в военной форме, истощенный такой, у него даже не было передних зубов. В общем, какой-то захудалый молодой человек... Но тем не менее эта проведенная беседа в ночь осталась за нами».
Они высадились в станице Великокняжеской.
«Здесь мы прожили до августа 1920 года, когда с тем молодым человеком пошли в местный ЗАГС. Регистрировал какой-то мальчишка, которому еще рано было мобилизоваться. Когда он написал наше свидетельство о браке, то плюнул на печатку и этой наплеванной печаткой прихлопнул наши свидетельства. Вот так я вышла замуж и прожила в замужестве 72 года».
Он – инспектор военно-полевой строительной части, из дворянской семьи, восемнадцати лет пошел добровольцем на первую мировую, после оказался в Красной Армии и в том военном учреждении, которое погрузилось в теплушку. Она – уже сказано, добавление – из сословия литовской безземельной шляхты.
Другая деталь. Героиня та же. Только время отодвигается вглубь. Сейчас вы его почувствуете.
Интервьюер: «Прошу вас продолжить рассказ со слов: «Я же лютеранка».
«Так. Родители мои не были религиозными, но рассуждали так: пускай воспитывается в религии, а там сама рассудит что и как поступать. И посылали меня на детские богослужения в лютеранскую Церковь. Но лютеранское богослужение лишено той эмоциональной окраски, которая присуща православию, там все очень правильно, разумно, продуманно...»
У этой женщины чудесная изысканная простота – как стиль жизни, как манера ума.
«Падали лучи света на снег. Я замерзла и решила зайти в церковь. Молящихся было немного. Священник вел службу в тихих задушевных тонах. Так же неломко ему вторил хор. Тепло и богослужение подействовали на меня, я как-то задумалась, отключилась. Внезапно я почувствовала, что в церкви что-то произошло, какое-то движение, шаги. Оглянулась и увидела, что рядом со мной никого. Пока я оглядывалась, стараясь кого-нибудь отыскать глазами, я почувствовала, что слева кто-то подошел и встал рядом, очень близко, почти коснувшись меня плечом. Я скосила глаза налево, увидела военную шинель офицерского сукна. Подняла глаза выше и обомлела. Рядом стоял царь Николай II, ошибиться было невозможно. Было военное время и царских портретов повсюду было множество. Не поворачивая головы, я покосилась еще левее, к левому приделу. Там дама в черном ставила свечку к иконе. Императрица. Перевела глаза к алтарю – четыре одинаково одетые фигурки в серых пальто и в серых меховых шапочках – великие княжны. А у правой стены церкви я увидела сгрудившихся прихожан. Я стояла тихо и неподвижно, боясь потревожить своего соседа, и он тоже стоял неподвижно. Сколько времени это продолжалось, 10 минут или больше, не знаю. Но потом они сразу все собрались и уехали. И вот это была моя встреча с царской семьей накануне их трагической гибели. С этих пор я и полюбила православное богослужение».
Осталось вызволить из небытия ее имя: Налетова Ирина Викентьевна, урожденная Шмидекампф.
Теперь мой рассказ о встрече с тенями. Я их не звала, они сами явились. Первый был Кун. Ну кто не знает профессора Куна! Если же кто-то не знает, то его труд... Господи Боже мой, его «Легенды и мифы древней Греции»... у кого только их не видала! В какие списки обязательной литературы они не входили! Автор же как бы растворился в своих героях и не имел значения. Латинское: «Прожить незаметно» (как высшая доблесть), цветаевское: «Пройти, чтоб не оставить следа, / Пройти, чтоб не оставить тени...» – синонимы утверждения: «Великое сродни анонимному». Каково обрести имя автора с неожиданной стороны: в единстве будней, быта, родства.
«Мать бабушки – Евгения Тимофеевна Кун, урожденная Роупер, родилась в аристократической семье выходцев из Англии и Шотландии... В семье было двенадцать детей и бабушка была младшим ребенком, дочерью уже очень немолодых родителей. Воспитание она получила чисто английское, была англиканского вероисповедания, училась в закрытом Московском пансионе для иностранцев, затем училась в консерватории по классу фортепиано. Вела семейную и деловую переписку на трех европейских языках. Позже, в советское время, давала языковые консультации.
Семейная жизнь бабушки сложилась счастливо. Муж ее – Николай Альбертович Кун (1877—1940) – профеееор-античник»... (А– Ю. Каменская).
Здесь позволю себе многоточие, поскольку одолевает сомнение. Из четверых своих детей трех профессор похоронил, последний пережил его на два года. Судьба Н. А. Куна напоминает судьбу историка Иловайского, сводного дедушки Марины Цветаевой, облаченного ею в миф, в образ Харона с ладьей, Летой и переправой в подземное царство смерти своих детей. Меня же миф повел к Офелии 1922 года – Ниночке Кун, она утонула в шестнадцать лет. «Мать не перекрестила ее на дорогу, когда дети пошли купаться, а это в доме было не принято. Бабушка никогда не простила себе этого греха». Рок двух других детей уходит из мифа в Историю: один сын погиб при строительстве Парка культуры имени Горького (1932 г.), другой – на войне (1942 г.). Лишь судьба первой дочери не выходит за рамки мифа в его классическом варианте, где бог смерти Танат прилетает к ложу умирающего: сгорела от скоротечной чахотки (1930 г.).
Если вы заглянете в Куна, в главу об Аиде, то найдете очень свою, очень личную фразу: «Ужасно царство Аида, и ненавистно оно людям».
Теперь о питательной среде мифа. Время то же, только герои другие: вождь, или тиран, если хотите, и бойкая пионерка Бурят-Монголии По фамилии Маркизова, по имени Энгельсина, что несколько сбивает с толку. И как-то остерегает.
Ее отец, партийный работник, был призван к Сталину, и юная непосредственность увязывается за ним в Москву. Очень бурятская делегация очень по-бурятски отчитывается в успехах, а Геля по-бурятски ни слова не понимает. Можно предположить, что и Сталин был в нем не силен. Кому больше надоело слушать, трудно сказать, только Геля посреди речи ни в чем неповинной колхозницы вдруг вскочила и понеслась к дорогому вождю. И вот любвеобильная девочка во всех газетах. То ли она целует вождя, то ли он ее – не столь важно. Эта бурят-монгольская Саманта Смит делается самым популярным ребенком страны. «Это я, я!» – кричит она, размахивая газетой. Она получает подарки, с нее начинается всем известное «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство» – Растроганный скульптор, кстати, выпускник Парижской Академии художеств, кстати Лавров, торопится воплотить миф в мраморе.
Все это пишется ради одной интересной детали. Известно, судьба любит обыгрывать свои жесты. Она их исчерпывает.
С тех пор прошло много лет. Отца Гели расстреляли, мать погибла при странных обстоятельствах, скульптор угодил в лагеря, а Геля стала Энгельсиной Батьковной, востоковедом. Однажды ей выпал случай попасть в запасник художественного музея. Там оказалось ее «счастливое детство», ко входу спиной. Всеохватные руки вождя по-прежнему обнимали ее, а между пальцами виднелась ржавчина. Дальше можно не продолжать, потому что ржавчина похожа на кровь.
Эти знаки Судьбы были повсюду, в каждой исповеди. На уровне закономерности или Возмездия, что ошеломляло своей непридуманностью, тем что – взаправду.
«И я попадаю на прием к заместителю генерального прокурора Рогинскому».. . («Я» – с интересной фамилией Де-Марей, четвертьфранцуженка из Одессы). «По-моему, был Вышинский генеральным тогда. У него лежало мое заявление.
– Что вы распускаете сплетни?
– Какие сплетни?
– Что вашего мужа пытали, били. В Советском Союзе пыток нет.
– Я знаю, что в Советском Союзе не имеют права пытать, поэтому вам и жалуюсь, что враги парода в Николаеве этим занимаются.
– Ну да... Вашего мужа побили, и он, как мальчик, заплакал и признался в том, чего не было. Через две недели придете за ответом.
Сколько прошло двухнедельных сроков, нс помню. Я иду в приемную НКВД, на Кузнецкий. Выстаиваю в очереди. Скапливается этих несчастных жен толпа...»
Цитирование прерываю, чтобы обозначить течение времени: три года безуспешных хлопот о пересмотре дела. И три года спустя:
«Он рассказал, как его освобождали»... (Он – муж знакомой, подруги по несчастью, не свой – чей– то). «А я рассказала, как хлопотала, в том числе о разговоре с этим Рагинским. Он сидел, улыбался, что поражало. А когда я закончила, он говорит: «Вы отомщены».– «То есть как?» – «Под Архангельском, в лагере, Рагинский как враг народа был со мной. И там каждую ночь заключенные устраивали ему темную, мстили за таких, как вы».
Но что еще просится на перо? Все прочитанное. Все прослушанное объемом в столетие да и сама мысль: рождение гениев будущего предвосхищает течение сегодняшней жизни. Горьковский Сатин не так уж был не прав, утверждая: для лучшего живет человек. На уровне архива жизнь смотрится как остатки от катастроф. Увы, замысел свыше относительно общества более хрупок, чем природный архив, который в виде цветущего мира.
Самое время рассказать о подвале, где разместилось хранилище. Главное его достоинство – тепло. Остальное: своды, ступеньки, решетки, засовы – восходят к XVIII – XX векам. Свет – только электрический, замки пудовые, канцелярские товары оставлены бывшими упраздненными (тот завхоз поминается добрым словом), когда улица называлась именем 25 Октября. А пыль, кажется, всех веков, и Г. И. заметает ее на картонку.
– У вас даже совка нет.
– Все терпимо, лишь бы не закрыли.
Что ответить?.. ей и этим теням, обращенным в будущее лицом своих судеб, этим бестужевкам, смольнянкам, раскулаченным, уголовникам, революционерам, ссыльным, стукачам, простигуткам, бродягам, больным, афганцам, пленным, наконец, 91-му с 93-м годам. Что не далее как вчера у меня был разговор с директором Калифорнийской программы при нашем университете для студентов Лос-Анджелеса. Этот интересный Макдэниэл спрашивал, почему опять все не так. «Почему? Потому что печать участвует в создании катастроф». И я сослалась на книжку, не помню фамилию автора, американец французского происхождения: «Рабская душа России». (Название само за себя говорящее, явно спекулятивное, но это не русофобия. Есть вещи гораздо проще. Это курьез извращенца.) Утверждаю: Народный архив – оппозиция по отношению к этой книжке, к будущим спекуляциям.
– Так придете на следующей неделе? – спросила Г И.
– Работа без гарантии. Постоянно. А сад не убран. Принесешь в редакцию, но кто поручится, что не дадут от ворот поворот.
– А мы?! То же самое... Все на общественных началах.
– Но вы все-таки организация. Какая-то зарплата, какие-то обязанности...
– Нет, не получаем...
– За так? – и камень с плеч: мы равны.
«За так» – они все: и та сторона (дарительная), и эта – берущая обязательства на себя. «За так» дорогого стоит и братается в голове с цветаевским именем. Она ребенком – сестре во время игры:
– Ася, почем продаешь?
– Задаром!
– Так дорого?..
Что-то о муже, что-то о семье – это Г. И., закрывая архив. А я меж тем говорила себе, уже не вслух: ты же ничего не поняла, писательница! То, что ты видела, что написано и сдано на хранение,– деяние рук человеческих, она же, Г. И.,– другое... Потому что никому не отказывает и приезжает к своим подопечным, тащит на себе их бумаги, потому что сострадает и понимает, потому что верна себе и тому (патрону, руководителю, шефу!), про кого здесь ни слова, а только фамилия – Илизаров (но профессор из тех, кто может сам сказать о себе). Она – другая. И я никогда не сумею показать грань между реальным и высшим. Нужно просто осенить себя крестным знамением и сказать; «Слава Ьогу». Но я и этого не могла. Потому что Г. И.– еще и в ином разряде хранителей информации, пока не доступном мне. Это словно наличие нимба возле голов святых. •
«Путем изображения профиля их лиц на стрелочных флюгарках»
Предложение машиниста депо Люблино им. Дзержинской ж. д.
Чулков Михаил Алексеевич
раб. № 2192.
член профсоюза с 1917.
№ 193789
Стрелочный указатель но шерсти и против шерсти показывают: стрелка поставлена для движения на боковой путь и с бокового пути виден ночью желтый огонь круглые диски. Днем стороны с белым фоном круглыми дисками.
Мое предложение.
Тысяча девятьсот тридцать шестого года сентября двадцать восмого дня предлагаю свою мысль изображеную на рисунках I стороны и II стороны флюгарки стрелочного указателя портретами наших дорогих и любимых всеми трудящимися человечества земного шара, эти вожди в лице товарищей основатели Коммунистической партии Третьего интернационала Владимир Ильич Ленин и его соратник Иосиф Виссарионович Сталин. Смею спросить и разрешите мне, всех железнодорожников мысль мою осуществить в деле повседневно и почастно и минутно и даже секундно вспоминать, стоя нам трудящимся транспортникам кто они и что они дали нам счастливую радостную жизнь на долгие годы жить стало лучше жить стало веселей в свободной стране на шестой части Земного шара Р.С.Ф.С.Р.

Смею спросить мне трудящемуся со стажем с 1908 г. по сей день рабочему от станка пролетариату придложить эту мысль давшему в день смерти Владимира Ильича Ленина оставившего свои заветы и я маленький человек в знак своей клятьбы чтобы вспоминать его не только лишь мне а всем железнякам кто удостоился быть в семье колектива транспорта иметь честь работать по силе возможности с честью выполнившим на ширингу передовых позиций в нашем союзе железно дорожный транспорт и я Владимира Ильича Ленина а также его соратника нашего мудрого вождя комунистической партии Советского союза учителя Иосифа Виссарионовича Сталина на всех сколько есть в нашем союзе транспорта, заводов, фабрик, подъездных путей, ветвей точек стрелочных указателей красовалось их очертание лиц в светящейся флюгарке желтым огнем указывающий на какой путь будет двигатся движущия, как-то: Локомотив, тепловоз, паровоз вагон и с’емная и нес’емная дрезина автотрезина и их светящиеся огни фонарей тоже самое отражали оттиски сияющих лиц таково-же образца в овалах портретами В. И. Ленина и И. В. Сталина белыми и красными и желтыми огнями. Это предложение мыслей своей честно работающий на своем поставленом посту по исполнению своих прямых обязаностей в настоящей момент машиниста паравоза при ст. Подольск ж. д. им. Дзержинского. Это предложение прошу обсудить проверить на месте местного комитета ст. Подольск прежде в Бюро Ячейки ВКПб и вынести в массы общаго собрания, на утверждение высшаго по части распоряжения НК ПС Дороги имени Дзержинской с опубликованием в родной газете Гудок в самый кратчайший срок осветить провести в жизнь. Это предложение я решился согласно правил технической экспуатации в абзаце: введение, параграф 5. говорится.
Отдельные изменения, дополнения или отступления от них могут быть допущены лишь специальными распоряжениями Народного комисара путей сообщения. Машинист депо Люблино ж. д. им. Дзержинской Чулков Михаил Алексеевич 1936 г. 28/IX
Установка в широких сторонах стрелочных указателей вместо желтого круга стекол желтого цвета в форме профиля лица вождей принципа сигнализации не нарушит и затруднений в работе по ограждению безопасности движения поездов не вызовет.
Об изменении формы стекол в указателе должно быть специальное распоряжение народного комиссара путей сообщения.
5/V11L 1937 г. Подпись неразборчива
Начальнику службы Движения Дзержинской ж. д.
При сем препровождаю предложение машиниста депо Люблино тов. Чулкова «Популяризация вождей нашей партии тов. Ленина и тов. Сталина, путем изображения профиля их лиц на стрелочных флюгарках, вместо желтаго круга стекла, желтаго цвета», с заключением ДЗИ тов. Левушкина для дальнейшего его направления Приложение: переписка на трех листах.
5 Августа 1937 г. Член дорожного совета Общества Изобретателей
Подпись неразборчива.
Резолюция.
Я Вам давал уже указание что бы предложение отклонить указав на грубые ошибки в идее его а вы направляете в НКПС
Подпись неразборчива.
Машинисту депо Люблино тов. Чулкову
Ваше предложение «популяризация вождей нашей партии тов. ЛЕНИНА и СТАЛИНА, путем изображения профиля их лиц вместо желтою круга стекла на стрелочных флюгарках» – не может быть принято. Вожди партии популяризируются среди широких масс трудящихся портретами и скульптурными изображениями, которые безусловно должны находиться в местах, могущих полностью обеспечить сохранность и уважение к изображению вождя.
Стрелочный указатель (флюгарка), находящийся на стрелочном переводе – расположен низко от земли, стекла его части повреждаются и пачкаются (с внешней стороны от грязи, с внутренней – от копоти). Сохранность изображения на стеклах указателя – т. обр. обеспечено не будет.
16 декабря 1937 Технический отдел, подпись. •
Беседа с источниковедом М. Ф. Румянцевой
Опыт из лепета: повседневность как прорастание исторических смыслов
Храните письма, дневники, старые документы – все это бесценный материал для историка. Так считает Мария Румянцева, доцент кафедры источниковедения Историко-архивного института (Российский государственный гуманитарный университет), заместитель директора российско-французского Центра исторической антропологии имени Марка Блока
И совсем не вернется – Или Он вернется совсем другой.
О. Мандельштам
– Письма, школьные тетради – можно ли их назвать историческими источниками? Вообще, что такое для историка источник сегодня?
– Как и вчера, как и позавчера, источник – главное для историка. Да и сам корпус источнике» не сильно изменился к сегодняшнему дню. Меняется, и весьма существенно, другое: работа с источником, то, что ученый в нем ищет и видит.
Это – производное от принятой теоретической концепции, потому источниковедение как бы повторяет историю развития всей исторической науки в целом. Позитивист, например, стремясь сделать историческую науку похожей на естественные (все остальное – вообще не наука), берет во внимание только источник-факт, однозначный, как выпадение осадка в пробирке, и не допускающий вольных толкований. То, что получалось, вполне соответствовало общему тогда взгляду на историю как на историю государств: многотомные описания политических и военных событий, долгие годы и составлявшие содержание исторической науки – пока не был исчерпан пласт источников, лежаших на поверхности.
Но сами же позитивисты провозгласили, что объяснение исторической реальности и, соответственно, прогнозирование входит в «обязанности» исторического значения по сугубо прагматическому лозунгу «savoir pour prevoir, prevoir pour prevenir» (знать, чтобы предвидеть; предвидеть, чтобы предотвратить). Это невозможно без теоретического моделирования, например, марксистского. И простое описание событий сменилось попытками отыскать в источниках следы неотвратимо действующих закономерностей, «открыть» их по дошедшим до нас обрывкам былой жизни.
По сути, марксистский подход к прошлому во многом родствен позитивистскому: и то, и другое учение исходят из идеи абсолютной и неизменной объективности прошлого, реконструкция которого не зависит от сознания и пристрастий исследователя и требует в конце концов только максимальной точности, добросовестности; задача ученого – «собрать по кусочкам» картину, которая содержит в себе некую единственную «объективную истину».
Как только мы усомнимся в этом – что у нас останется? Останется собственно исторический источник: то, что создано человеком прошлого, продукт культуры. В конце концов, единственный объект приложения исследовательских усилий – источник; потом на него «надевается» интерпретация. Их может быть много, каждая – в рамках той или иной исторической концепции, исследовательской парадигмы. Они порой более или медое мирно сосуществуют, порой сменяют друг друга; иногда трудно предугадать, какая из них будет использована в данном случае. Когда иронически говорят: «Россия – страна с непредсказуемым прошлым», мне хочется заметить, что у людей страны оно непредсказуемо, потому что представление о прошлом все-таки во многом – умственная конструкция, выстраиваемая с сегодняшней позиции.
Интересно получается: завзятых материалистов, гоняющихся за единственной объективной истиной, не слишком интересует «материал» истории – сам источник и его автор. А историк-идеалист не стремится воссоздать нечто недоступное, идеальное; он работает с источником, но рассматривает его как «реализованный продукт» психики человека прошлого.
И понять этот источник можно исходя не из какой-нибудь социальной теории (например, общественных формаций), а исходя из принципа «признания чужой одушевленности», который разрабатывался в философской мысли рубежа XIX – XX веков.
– И смысл возникает из встречи чужого сознания, воплощенного в источнике, с нашим вопрошающим сознанием, из их соединения?
– Верно. Но когда эта идея возникла впервые, еще не было Фрейда и фрейдизма. И если ты признаешь чужую одушевленность, воплощенную в источнике, идеалом работы с ним становится такое его понимание, как будто ты сам его создал. Другими словами, понять прошлое как самого себя. Потом учение Фрейда вышло за пределы медицины, было осмыслено философами – и подобный идеал был просто снят как совершенно недостижимый: человек и сам себя до конца понять не может...
Начали искать явные следы неявного, чтобы и сосчитать можно было, и статистическую закономерность установить – не абсолютную и заранее заданную, а именно статистическую – и восстановить по этим кривым колебаниям рождаемости, цен и еще чего-то вполне обычного ментальность, коллективное подсознательное, стандарты поведения, мифы, ценности, управляющие обществом, – все это не менее непреложно, чем законы классовой борьбы. Знаменитая историческая школа, группировавшаяся вокруг французского журнала «Анналы», очень много сделав для «очеловечивания» исторической науки, в конце концов тоже оказалась в кризисе.
– И что же сейчас? Постмодернизм, как и во всей культуре в целом?
– Постмодернисты говорят или о равенстве создателя источника и его нынешнего интерпретатора-читателя, или даже о приоритете читателя, который становится как бы соавтором. В этом есть, конечно, глубокий смысл, но есть и большая опасность потерять одну из сторон диалога с прошлым. Тут ведь можно дойти до полного нигилизма и сказать, что никакой науки истории нет вообще, а есть лишь искусство и творчество, да еще мое индивидуальное понимание: как кочу, так и понимаю. Другой понимает по-своему, и наши прочтения абсолютно равноправны.
Но есть и другой вывод из постмодернистского постулата: читатель может глубже понять автора, чем он сам, потому что читатель находится в другой точке эволюционного целого, он видит культурную перспективу – значит, он должен воспользоваться своим преичущест– . вом для того, чтобы глубже понять источник. Именно его автора увидеть, а не только свою рефлексию о нем. В этом – отличие современного научного подхода от того, который доминировал, скажем, в начале нашего века.
– Что это значит, например, применительно к документам Народного архива?
– Здесь как раз возникает проблема культурной перспективы, культурного контекста. Обычно, особенно если говорить о повествовательных источниках, сохранялись некие вершины, шедевры, которые в свое время были опубликованы или отобраны на государственное хранение; а в Народном архиве – корни, фон, очевидности и бьгг своего времени. Его никто никогда не собирал. Ну, были попытки записать какие-то воспоминания – но это всегда воспоминания о значительных событиях: допустим, воспоминания крестьян-ходоков о Ленине. И тогда не этот крестьянин– ходок важен, а Ленин, остальное теряется.
Наша российская культура оказалась -в этом отношении в худшем положении, чем западная: источниковая база нашей истории значительно беднее. На Западе сейчас очень модна микроисгория: история отдельной деревни, отдельной семьи. Именно в таких исследованиях историческая наука и реализует свою новую антропологическую установку, ориентацию на человека в истории. Мы не можем исследовать историю одной деревни, даже если ограничимся XIX веком: просто нет источников. Если во Франции есть хотя бы нотариальные архивы, которые фиксируют именно повседневную жизнь, то все наши источники вплоть до самого конца XVIII века сосредоточены в Архиве древних актов – это сравнительно ограниченный круг источников, имеющих отдаленное отношение к повседневной жизни людей. Как ни странно, с двадцатым веком еще хуже: повседневность девятнадцатого худо-бедно осталась в описаниях художественной литературы, а в современной литературе практически нет описаний, только название. Это уже в прошлом веке началось, «комната в доме купца средней руки» – и все; современнику ясно, историку поживиться нечем...
Конечно, собранное в Народном архиве – не повседневность в прямом смысле слова; это все-таки особая часть культуры, которую я бы не противопоставляла «высокой» культуре и не отождествляла полностью с культурой повседневной: далеко не все в нашей стране могли создавать тексты, которые тут собираются. Традиция писания писем и в прошлом веке была не всеобщей, ценность личной переписки для будущих поколений (хотя бы своей собственной семьи) не была очевидной и для тех, кто их писал: в достаточно узком кругу Пушкина, положим, их сохраняли, за пределами этого кружка личные архивы пополняли таким образом очень немногие.
Но теперь писем, кажется, почти не пишут; телефон, телеграф создают поколения говорящих, а не пишущих.
Ну и, конечно, собирать личный архив в тридцатые годы, да и позже, было занятием вообще опасным; каждая семья что-то скрывала – социально чуждого родственника, голосование за Троцкого или Зиновьева, да мало ли что еще – в стране вообще не осталось ни одного человека, который бы не был в чем-то виноват перед властью. Уничтожались фотографии, письма, любые знаки недавнего прошлого. Дневники, письма, которые сегодня приносят в Народный архив,– немые свидетели подлинного тихого героизма: не только умения создать эти тексты, но н мужества их сохранить.
При каждом обыске все это изымалось и бесследно исчезало. Трудно сказать, насколько осознанно, но власти тоже боялись накопления источников – между прочим, не напрасно. Я убеждена, что мощный корпус источников обладает собственным глубинным смыслом и с ним не так легко справиться, им не навяжешь любую концепцию, их не втиснешь в любую схему – они умеют сопротивляться.
Сейчас, когда уже нет Единственно Верного Учения об Объективных Законах Истории, а новые теории только создаются, эта способность источников к самостоятельной жизни в науке особенно ценна. Опираясь на них, можно проводить сравнительные исследования по нескольким странам; можно их изучать, вступая с ними в диалог как с равным партнером.