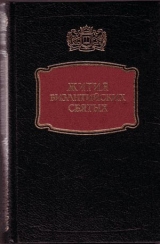
Текст книги "Жития византийских Святых"
Автор книги: авторов Коллектив
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 25 страниц)
Annotation
Жития византийских святых. СПб.: Corvus, Terra Fantastica, РоссКо. 1995. Пер. Софьи Поляковой.
Первое издание: Византийские легенды. Издание подгот. С. В. Полякова. Л., 1972. Серия "Литературные памятники". Переиздано в 1994 г.
ОТ ПЕРЕВОДЧИКА
Жизнь и деяния Святых Бессребреников Космы и Дамиана[1]
Палладий. Лавсаик. Отрывки
Раскаяние Святой Пелагии
Жизнь и деяния Блаженного Симеона Столпника
Сказание о Макарии Римском
Иоанн Мосх. Луг духовный. Отрывки
Жизнь и деяния аввы Симеона, юродивого Христа ради, записанные Леонтием, епископом Неаполя Критского
Житие Марии Египетской, бывшей блудницы, честно подвизавшейся в Иорданской пустыне
Преисполненная великого назидания повесть о житии и деяниях блаженного и праведного Филарета Милостивого
Жизнь, деяния и подвиги Святого отца нашего и исповедника Михаила, пресвитера и синкелла града Иерусалима
Жизнь и деяния Святого отца нашего Николая
Житие и деяния Человека Божия Алексия
Легенды о чудотворных иконах
Житие Марии Антиохийской
Продолжатель Мосха
Краткое житие Евфросина-повара
Чудеса Святого Георгия
Мученичество Святого Евстафия и кровных его
Мученичество Святой Евгении
notes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
ОТ ПЕРЕВОДЧИКА
“Жития византийских святых” принадлежат к памятникам мирового значения. Распространившись по всему восточному и западному христианскому миру, они обогатили литературы-преемницы и оказали влияние на ход их развития. Особенно велика была роль византийских житий в славянских странах, в частности в Древней Руси и в России нового времени: их прилежно переводили русские агиографы и использовали в своем творчестве многие русские писатели.
Помимо культурно-исторической роли житийных текстов, в наше смутное время оживает и приобретает великую ценность их первоначальное назначение – давать образцы жизненного поведения и высоких духовных чувств.
Предпочтение при отборе текстов оказывалось памятникам народного стиля, где абстрактной дидактики меньше, сюжеты занимательнее и отсутствует слишком, на [38] сегодняшний вкус, громкая риторика. Подчас нельзя было предложить переводы примечательных и даже первостепенных образцов этого стиля из-за слишком большого объема текстов (Жития Антония Великого, например, принадлежащего перу Афанасия Александрийского, или Жития Андрея Юродивого), отсутствия публикаций (старшая версия жития Василия Нового) или их недоступности. Несмотря на неизбежную субъективность антологической компоновки, мы надеемся, что у читателя все же составится представление о византийской агиографии, не искажающее ее подлинного облика.
Работу над “Житиями византийских святых” неизменно сопровождали поддержка и интерес моего покойного друга А. Н. Егунова, замечательного филолога и переводчика, о котором я вспоминаю с чувством глубокого почтения, благодарности и любви. Я рада, что и в этой книге, литературную редакцию которой он должен был осуществить, я еще успела воспользоваться советами А Н. Егунова – его рукой отредактированы Раскаяние Пелагии, Житие Симеона Столпника и № 22, 34 и 70 “Лавсаика” Палладия. В беседах с А Н. Егуновым для меня также определилось решение многих трудностей, неизбежно возникающих у переводчика текстов, не имеющих традиции литературной передачи на русский язык.
Д. С. Лихачеву я глубоко благодарна за неизменное попечение об этой книге от первых неопределенных замыслов до окончательного ее завершения.
ВИЗАНТИЙСКИЕ ЖИТИЯ КАК ЛИТЕРАТУРНОЕ ЯВЛЕНИЕ
К византийской агиографии, т. е. виду благочестивой повествовательной прозы, можно подходить с различных сторон: разнообразие попавшего в орбиту житий материала позволяет многосторонне использовать их. Здесь и подбор текстов, и угол зрения на них определяются основным, но, к сожалению, менее всего привлекавшим внимание исследователей аспектом агиографии – историко-литературным. Ведь, несмотря на религиозный характер содержания, агиография – прежде всего разновидность художественной прозы, заступавшая место почти полностью отсутствовавшей в Византии беллетристики. Искусственное отграничение агиографии от светской литературы (неправомочное с теоретической стороны, оно обедняло и искажало наше представление о средневековом искусстве) и тенденция рассматривать ее как прикладной материал, только проливающий свет на что-то [6] ей внеположенное, что-то наподобие делового документа объясняющий, заслонили самостоятельное значение этого жанра и привели к тому, что его историко-литературное изучение находится еще в зачаточном состоянии. До сих пор отсутствуют сводные, обобщающие работы, а посвященные тем или иным видам легенд, вехам в их развитии или творчеству отдельных агиографов можно, без преувеличения, сосчитать по пальцам. Так что, несмотря на наличие множества работ, касающихся частных вопросов, агиография продолжает оставаться неисследованной областью, продвигаться по которой крайне трудно.
Тематически агиография гораздо разнообразнее, чем это можно было бы ожидать, и при ее трансцендентной установке не покидает земли. В самом деле, в ней находят отражение политические события, детали хозяйственной жизни, придворные интриги, быт, даже реалистические научные проблемы, вроде объяснения явлений дождя, радуги, града, наряду с церковной борьбой, догматическими спорами и монастырскими делами. Мы бываем в императорском дворце, в лавке ремесленника, на пиратском корабле, в зловещем убежище мага, поместье богача, в темнице, цирке, деревенской лачуге и харчевне. Страницы агиографических текстов набиты разноликой толпой, в которой можно различить не только святых или благочестивых христиан, но арабов, турок, иудеев, не только паломников с котомкой и посохом, священнослужителей или монахов, но уличных мальчишек, продажных женщин, процентщиков, палачей, осквернителей могил, увидеть наряду с власяницами, рубищами нищих и нимбами над головами праведников латы, красные сапоги императоров, шелковые одеяния щеголей. Но легенды не были бы легендами, не показывай они драконов на чешуйчатых лапах, оленей с крестом на рогах и даже самого дьявола. Иными словами, агиография достаточно многосторонне представляет действительность, рядом с которой уживается обычно наивная фантастика.
При единстве манеры изложения, отличавшейся только большей или меньшей степенью абстракции и обобщенности, легенды были разнообразны по жанрам. Мы знаем [7] жития, мартирии, повествовавшие о преследованиях и пытках мучеников, хождения, чудеса, видения, сказания о чудотворных иконах; жития и мартирии различались повествовательного и панегирического типа, т. е. делились на биографии, описывающие жизнь и деяния святого, и на похвальные слова в его честь.
Уже с самого начала в агиографии обозначились и сосуществовали два направления – народное и риторическое. Первое, близкое к фольклору и жанрам языческой повествовательной прозы, было представлено памятниками, в большинстве рассчитанными на низового читателя, хотя авторами их могли выступать представители образованных кругов, подобно Леонтию Неапольскому, сознательно приспособлявшие свои произведения к эстетическим запросам и уровню восприятия адресатов, которым они предназначались. Характерны для этой группы жития Симеона Юродивого, Космы и Дамиана, Макария Римского, Симеона Столпника. Здесь господствовали сюжетная занимательность (низовой читатель нуждался в такого рода оболочке дидактики, предпочитая воспринимать ее не непосредственно), атмосфера наивных чудес и упрощенность всех форм выражения.
Кроме того, памятники народной агиографии не всегда согласовались в частных вопросах веры и жизни с воззрениями ортодоксальной церкви, а во многие из них проникали и чисто еретические сказания; таким церковь отказывала в признании и боролась с ними.
Риторические легенды (Этим термином обозначаются не произведения риторов-профессионалов, о чем речь впереди, а сказания, исполненные риторическим стилем, проникшим из сферы красноречия не только во многие литературные жанры высокого направления, с красноречием не связанные, но даже и в низовую литературу.), хотя этот стиль встречается и в памятниках низовой литературы, преимущественно обращаются к более образованной публике. Представление о них дают жития Николая, составленное Симеоном Метафрастом, Евгении и мученичество Евстафия. Обе группы сближает между собой ориентация на фразеологию и [8] образность Ветхого и Нового завета, хотя в остальном дикция их значительно варьирует.
По мере развития в наиболее продуктивном жанре агиографии, житийном, была выработана трафаретная схема ведения рассказа. Житийный шаблон складывался из предисловия и краткого послесловия агиографа, обрамляющих собственно повествование, непременно включавшее в себя: восхваление родины и родителей святого, чудесное предвозвещение его появления на свет, проявление святости в детском и юношеском возрасте, искушения, решительный поворот на путь духовного спасения, кончину и посмертные чудеса. Многие мотивы, заполняющие эту схему, находят себе параллели в языческом мифе и международном фольклоре. Неправильно, однако, усматривать в регламенте структуры, как это склонны делать, стеснение авторской индивидуальности и свидетельство регресса житийного жанра. Трафарет в античной и средневековой литературах – не синоним штампа, так как оригинальность и свобода не мыслятся вне формальных рамок, строго ограниченных соответствующими условиями; самое же его появление, как видно по сравнительному материалу (убедительнее всего на древнегреческой трагедии и комедии), указывает только на период закончившегося формирования жанра.
* * *
Вопреки часто вполне правдоподобному сюжету большинство легенд не основано на подлинных событиях, а представляет собой миф или фольклорный рассказ, замаскированный под реальный факт: стоит снять с героев монашеское платье или лишить мученического венца, как их светское, подчас и языческое происхождение обнаружит себя, а изображенные ситуации уложатся в соответствующий мифологический или сказочный трафарет.
Начнем рассмотрение с легенд, ситуации и персонажи которых выглядят так достоверно, что даже скептику трудно сомневаться в их житейском происхождении. В рассказе Палладия о подвижнике Питируме и юродивой монахине ничего, кроме полученного им откровения, что в такой-то [9] обители живет превосходящая его святостью монахиня, не может быть отнесено на счет благочестивой фантастики, и сюжет, на первый взгляд, вполне реалистичен: юродивую презирают остальные сестры, ей поручена самая черная работа на монастырской поварне, она упорно уклоняется от встречи с пришедшим знаменитым подвижником, а когда тот всем открывает ее великую святость, монахиня, тяготясь неожиданной славой и раскаянием своих обидчиц, убегает из монастыря.
К этому сюжету в житийной литературе имеется ряд параллелей: пресвитер одного монастыря, “достигший всякого рода добродетели”, однажды ночью восхищен в рай, стражем которого, к его удивлению, оказывается самый презренный в обители монах, повар Евфросин. Наутро пресвитер сообщает братии об этом; во время его рассказа Евфросин “вышел из церкви, чтобы избежать славы людской, и до сего дня более не показывался” (житие Евфросина-повара). Другой подвижник, авва Даниил, обнаруживает в грязной и всегда пьяной монахине святую. Лишь только тайна ее открыта, монахиня покидает монастырь. В житии Иоанна Милостивого то же передается в светском варианте: благочестивый константинопольский мытарь Петр велит своему рабу, чтобы тот продал его в Иерусалиме какому-нибудь христианину, а полученные деньги роздал нищим. Попав в дом господина, Петр исполняет обязанности кухонного мужика и вдобавок к этому терпит всевозможные унижения и обиды со стороны остальных слуг. Однако, когда на моление в Иерусалим приходят сограждане Петра и, приглашенные его хозяином в гости, узнают праведника, он скрывается, велев глухонемому привратнику открыть ворота, т. е. напоследок еще совершает чудо. Псевдофотографичность рассказов этого рода окончательно подтверждается при сопоставлении с фольклорными сюжетами типа широко распространенных сказок о Золушке. Чудной красоты и благородного звания героини (сказки, как византийские легенды, знают Золушку и в мужском варианте) по собственной воле или в результате принуждения злой силы становятся служанками-замарашками, исполняющими грязную или [10] считающуюся постыдной работу: моют кухонные горшки, пасут гусей и т. п. Они живут в презрении и терпят обиды, пока принц или король не обнаружит по какой-нибудь примете, вроде башмачка, кольца или золотого яблока, их истинное лицо. Однако золушки не хотят быть узнанными, прячутся, маскируются, бегут. Разница лишь в назидательности рассказа, типичной для агиографии, да в том, что место чудесных красавиц заступают в легенде праведники, от всех таящие свою из ряда вон выходящую святость, место влюбленного принца или короля – прославленные подвижники, а действие происходит в монастыре; контуры сюжета остаются неизменными: героя-замарашку, скрывающегося под личиной юродства или крайней приниженности, открывает великий аскет; по повязке монахини или по сорванным в раю яблокам Евфросина он узнает в презираемых героях выдающихся святых, но те, подобно своим двойникам из сказки, не хотят признания и тотчас покидают монастырь, исчезая навсегда. В новелле о Петре-мытаре, еще более, чем две первые, веристичной и имеющей к тому же светский сюжет, известный аскет дублирован согражданами праведника, в рабе узнавшими своего некогда богатого знакомца, монастырь становится домом его господина, а узнавание происходит непосредственно, без помощи обычно служащих для этого опознавательных предметов.
Столь же обманчиво бытовое обличие легенд, повествующих о разлуке, приключениях и встрече после пережитых бедствий благочестивой семьи или супружеской пары (мученичество Евстафия и жития Малха, Ксенофонта и Марии, Андроника и Афанасии). Этот сюжет существовал задолго до византийского времени и известен в своей первичной мифологической форме и во вторичной реалистической транспонировке. Мы располагаем повествованиями об умирающих – воскресающих божествах плодородия, складывающимися из серии разлук, поисков, страданий, временных смертей и нахождения богиней (Исида, Афродита) своего возлюбленного или супруга (Осирис, Адонис), а с другой стороны, их позднейшими секуляризованными (обмирщвленными) вариантами, [11] любовными романами (I—III вв.), а также раннехристианским назидательным романом “Климентины” (не ранее 300 г.). Все они содержат рассказ о расставании, злоключениях, мнимых смертях и воссоединении рассеянных по свету и ищущих друг друга влюбленных, молодых супругов, а иногда и целой семьи, т. е. родителей и детей. На христианской почве разъединенные супруги или члены одной семьи, пройдя через обычные для этой сюжетной схемы испытания, воссоединяются, чтобы стать мучениками, монахами или, по крайней мере, как в “Климентинах”, отречься от язычества.
Достоверность в житии Филарета Милостивого основной сюжетной линии (факт своеобразных поисков невесты для императора Константина VI), черт бытового уклада, историчность многих действующих лиц и, возможно, самого героя легенды не помешала литературной конструкции подчинить себе реальный жизненный материал.
Образ и жизнеописание героя строятся по хорошо известному трафарету сказок о дураке-счастливце. Филарет представляет собой тип фольклорного глупца (буквально следует чужим указаниям, не понимает простейших вещей, пренебрегает естественными законами, совершает бессмысленные добродеяния, что неизменно приводит к разного рода нелепостям), который, как и его собратья из фольклора, торжествует в развязке, получает несметные богатства и роднится с императорским домом (фольклорный дурак-счастливец обычно сам получает царство и руку царевны). Если герой жития, что очень вероятно, был вымышленным персонажем – перед нами монолитный по своему составу и замаскированный под события реальной истории рассказ, чтобы не сказать сказка, о бедном и глупом герое, совершающем одну нелепость за другой, однако оказывающемся в развязке обладателем богатств, трона и царской дочери. Если же Филарет действительно отец Марии из Амнии, впоследствии супруги императора Константина VI, и судьба его действительно сложилась представленным в житии образом, рассказ о реально прожитой жизни, случайно отлившийся в форму, совпадающую с фольклорным сюжетом о дураке-счастливце (при [12] веристическом характере фиктивного повествования подобные случаи, как известно, не только встречались, но даже не были редкостью), в силу этого совпадения притягивал к себе черты, типичные в фольклоре для носителя такой биографии, и сам соответственно ретушировался: ведь типизация реальных людей и событий составляла отличительную особенность средневекового сознания. Сочетание в этом житии серьезного и гротескного основано на ином, сравнительно с современным, понимании художественной правды, а тем самым и границ высокого и комического. Для византийца художественная правда означала преувеличение той стороны изображаемого, на которой он стремился поставить акценты, что не могло не притуплять ощущение гротескного. С другой стороны, иллюзию жизненного правдоподобия не нарушало в глазах читающих наличие черт персонажа, не вяжущихся и даже вступающих в резкое противоречие с его внутренней сущностью, вроде себялюбия Филарета, так как внимание, направленное на характерологические контуры, не воспринимало психологических несообразностей. Это помогло чертам фольклорного сюжета о дураке-счастливце удержаться в благочестивой новеллистике.
Трудно поставить под сомнение и реальность событий, разворачивающихся в легенде о Пелагии (за изъятием чудес и знамений, которые, впрочем, не играют роли в ходе действия), поскольку происходящее вполне представимо в хронологических рамках жития V в., когда церковь пополнялась массами новых прозелитов и идея монашеского подвига увлекала к самым экстравагантным проявлениям благочестия. В том, что Пелагия под влиянием услышанной проповеди принимает христианство и много лет ведет строгую подвижническую жизнь, выдавая себя за евнуха Пелагия, нет ничего невозможного. Но перед нами все же не зарисовка с натуры, а преображенный в христианском духе рассказ о языческой богине Афродите. Ее эпитеты pelagia, т. е. морская, и margarito, т. е. украшенная жемчугами, становятся именем нового, выросшего на основе языческих представлений образа христианской святой Пелагии – Маргарито (как звали увешанную [13] драгоценностями блудницу в ее родном городе) – Пелагия. Атрибут Афродиты голубь переходит и к ее двойнику Пелагии вместе с присущими семитскому варианту этой богини чертами распутства и девственности, а также двуполостью, выраженной в легенде мотивом переодевания в мужское платье.
Даже мартирии, основанные будто бы на протоколах допросов, – а что может поспорить с правдивостью такого рода документов? – в большинстве случаев тоже имеют дело не с реально существовавшими святыми и не с действительными фактами. Личность мученика обычно вымышлена, действие происходит в легендарной обстановке, об императорах-гонителях сообщаются фантастические сведения, а преследования окрашиваются в гиперболически сказочные тона, противоречащие показаниям исторических источников; шаблонами для обрисовки враждебных христианству императоров Диоклетиана, Деция, Валериана или представителей римской администрации служат образы библейских царей-нечестивцев, а материал для изображения мучении и пыток нередко заимствуется из греческой трагедии или романа.
Повторяемость одних и тех же сюжетов и мотивов подтверждает, что за их спиной не стояло действительное событие, так как для оправдания многократного “переиздания” им недостает характерности. Если, как мы уже это видели на примере жития Пелагии, можно было думать, что рассказ о женщине, под видом евнуха ведущей жизнь анахорета или подвизающейся в мужском монастыре, отражает причудливый характер свойственного времени благочестия и вполне вероподобен в своей единичности, то массовость этой ситуации в житиях (достаточно назвать жития Анастасии Патрикии, Ефросинии Александрийской, Феодоры Александрийской, Евгении, Марии – Марина, Афанасии и Андроника, Аполлинарии – Дорофея, Матроны Пергской, Сусанны, Евфросинии Новой) должна была бы поколебать веру в житейское происхождение ситуации, не будь даже Узенером раскрыта мифологическая природа мотива женско-мужской травестии. [14]
Псевдореалистичны также многие другие жития.
Область с нашей точки зрения фантастических легенд (византийцы, впрочем, не делали разницы между реальным и сказочным, считая то и другое в одинаковой мере достоверным) тоже обнаруживает свою зависимость от фольклорных или языческих источников.
Черты древнегреческого фольклора вырисовываются в легендах о святых, которые исцелили льва и за это обрели в нем верного помощника. Вместо язычника Андрокла, спасенного от смерти благодарным львом, это святые Герасим, Савва Освященный, Анин и многие другие герои житий, которым служит благодарный лев.
В чуде Георгия, явленном им Феописту, можно узнать миф о Дионисе и Икарии. Подобно Дионису, в благодарность за оказанное гостеприимство подарившему Икарию виноградную лозу, Георгий награждает своего хозяина, воскресив весь скот, убитый им для угощения святого. Впрочем, сюжет о божестве, в человеческом облике посетившем дом бедняка и воздавшем ему за гостеприимство, встречается в дохристианское и христианское время в международном фольклоре.
При единообразии схемы варьируется лишь фигура гостя, воплощаемая то в образе языческого божества или героя, то доброй волшебницы, то святого и, наконец, самого Христа, и получаемый хозяином дар: это либо воскрешенный скот, либо золотые монеты по числу жиринок, плавающих в супе (так Христос вознаграждает бедную вдову), либо виноградная лоза, либо еще что-нибудь.
Пример книжного языческого влияния дает житие Макария Римского. Первая часть, занятая повествованием о странствии трех монахов в поисках края света, повторяет известный в Греции со времен Гомера и отраженный международным фольклором сюжет путешествия по чудесным странам. Автор этой монашеской Одиссеи использовал один из позднейших ее вариантов, христианизированный пересказ народной книги об Александре Македонском псевдо-Каллисфена, в котором подлинная биография Александра отступила на задний план и сюжет преимущественно [15] касался его чудесных приключений в дальних землях. Христианско-монашескому образу мышления чужда и завязка, тоже восходящая к языческому источнику и мотивирующая предпринятое странствие стремлением постигнуть тайны вселенной. Недаром во второй, назидательной, части легенды автор показывает тщету и греховность подобного стремления.
Агиография, как мы видели, развивалась в русле широкой и подчас прямо враждебной ей религиозной и повествовательной традиции, которую она искусно умела перерабатывать и подчинять своим потребностям.
Перечень источников, питавших агиографию, был бы неполным, не упомяни мы действительную жизнь, которая тоже служила материалом агиографу. Следует, однако, не забывать, что факты, имевшие место в реальности, а также исторические личности становились обычно точкой аккумуляции мифологических мотивов и фольклорных схем.
* * *
Еще в большей мере, чем другие жанры византийской литературы, агиография подчинена дидактике, что сказалось на характере используемых ею средств выражения.
Византийская агиография выработала стиль, обладающий и при условии удаленности памятников друг от друга во времени, их жанровой неоднородности и различии направлений, в русле которых они возникли, рядом общих признаков, позволяющих видеть в нем особую эстетическую категорию. Главнейшая его характеристика, интегрирующая многообразные частные особенности (они будут описаны ниже),– это абстрактно-генерализующий способ изображения и идеализация изображаемого, т. е. подчинение его религиозно-нравственному нормативу. При этом в угоду общей идее жертвуется частным – вместо живых людей в отвлеченных условиях действуют собирательные воплощения общих идей, сословий и профессий, догматика и мораль просвечивают сквозь приданную им антропоморфную оболочку, а действительность укладывается в рамки желательных идеальных ситуаций. [16]Повествование заботливо очищается от всего единичного и протекает в условной отвлеченной атмосфере, близкой к атмосфере аллегории.
К приметам агиографического стиля относится также неизменно серьезный, не знающий иронии тон, что резко отличает византийскую благочестивую беллетристику от беллетристики античной, пропитанной вне зависимости от своего географического прикрепления аттической солью, ориентация на фразеологию и образность Нового и Ветхого заветов и антиэстетизм, допускавшийся древнегреческой литературой только в область комических жанров и никогда не достигавший даже там такой высокой степени.
Агиографический стиль характеризуется тяготением к формам идеализированной действительности, к ситуациям, приподнятым над будничным уровнем, выражающим вследствие сгущения красок наиболее полно и наглядно моральный образец или назидание. Обычно агиографический памятник передает “дивное и невиданное чудо”, из ряда вон выходящее событие, характеризуемое излагающим его автором как такое, о котором никто до тех пор не слышал, а тем более не был свидетелем ему подобного, иначе сказать, идеальную ситуацию, дающую возможность в самом выгодном ракурсе показать прославляемого героя. Потому большинство сюжетов отражает христианские нравственные и религиозные дезидераты, а не нормы, типичные для повседневной жизни. К ним в первую очередь относятся уже известные нам повествования, скажем, о переодетой монахом женщине, которые нередко расцвечивались рассказами о том, как клеветники обвиняли этих мнимых иноков в соблазнении женщин – настолько их маскарад ни у кого не вызывал подозрений, – при этом игумен и братия с позором изгоняли их из монастыря, а они в своем безграничном смирении воспитывали ребенка, отцами которого слыли; об обретении отшельника (отшельницы), таящихся от мира в недоступных или отдаленных местах и одичавших от многолетнего пребывания в пустыне, которых случайно находят, чтобы выслушать поучительную повесть их жизни (жития Марии Египетской, Кириака, Феоктисты [17] Лесбосской, Павла Фивейского, Марка Афинского, Онуфрия Великого, Макария Римского, праведницы из 177-го рассказа Мосха), или повествования о стойкости мучеников, представлявшие собою каталог самых немыслимых пыток. Для сгущения идеальной атмосферы эти исключительные житейские положения воспроизводились и в сочетании друг с другом – житие Пелагии, например, объединяет повесть о раскаявшейся куртизанке с рассказом о пребывании женщины в мужском монастыре, а житие Марии Египетской – сюжеты нечаянного обретения отшельницы и обращения блудницы. Вследствие тяготения византийцев к наглядным, резко окрашенным формам без полутонов и переходов идеальная в их представлении ситуация далеко отстояла от нормы реальной жизни и в веристических и фантастических легендах.
События реальной истории тоже подвергаются идеализирующему переоформлению: в легенды включается лишь то, что укладывается в схему желательной действительности, освещая один из аспектов агиографического идеала, т. е. факты, содействующие восхвалению святого или дающие материал для подражания. Потому легенды приходится рассматривать как “ограниченно годные” в качестве исторического источника – рисуемая ими картина редко бывает целостной и в достаточной степени достоверной. Чаще всего лишь по наивности или неосмотрительности автора в создаваемый им идеализованный мир прорываются свидетельства, нарушающие его гармонию и потому бесспорно достоверные. Так, Палладий, в своем желании оттенить исключительную святость монахини, рассказывает, как смиренно она сносила поношения остальных сестер, не замечая, что тем самым дает неприглядную картину нравов известного строгостью своего устава Тавенниского монастыря, где сестры, оказывается, поливали – и не в фигуральном смысле слова – друг друга помоями, дрались, бранились, горчицей мазали нос той, кого преследовали, а автор жития Евфросинии Египетской по случайному поводу упоминает о содомитских отношениях в монашеской среде. Так же поступал и продолжатель Мосха: чтобы показать впечатляющий пример [18] самопожертвования, он выводит благочестивого монаха, принявшего на себя вину монаха-вора.








