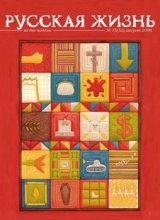
Текст книги "Русская жизнь. Август (август 2008)"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 15 страниц)
Лето кончилось. Кончилась «Война и мир». Недоуменно изучил толстовское послесловие. Взялся за Ната Пинкертона, чьи фокусы переиздали на волне того времени. В последний день месяца мы выехали с Жанной на верховую прогулку. Герой помалкивал, загадочный и бдительный, как король сыска. Мой невидимый котелок раскачивался под усталым вечерним солнцем. У Жанны шины недавно наехали на стекло и сдулись. Но ради этой прогулки она тяжело крутила педали. Ползла подле, не отставая. С дырявыми шинами. Метафора влюбленности.
Скоро ее отец нашел себя в бизнесе, я бываю на даче, мы с ней дружим, она родила двойню, выйдя замуж за узбека, мастиф ее через два года подох, Сире забрали в армию, он вернулся и стал шофером местного такси.
«Гнездо преступников под небесами», «Стальное жало», «Борьба на висячем мосту». Август кончался малиновой улыбочкой великого Пинкертона, хладнокровными антоновскими яблоками гладковыбритых американских щек. Сейчас, на излете лета, напитанный детективными ядами, я подозревал злодейский умысел везде, и в том, конечно, что некто натолок стекло у Жанниных ворот, этим убив ее шины. Не Сире ли бил бутылки? Мы разъезжали по поселку, воздух свистел, всюду умирало лето.
Мы не целовались. Въезжали в сентябрь на своих велосипедах. В город, в разлуку, в привычную суету, в жизнь, которая вот-вот исчезнет, в будущее, которое не возникнет. Его, это будущее, сложившееся и зрелое, как август, не взяли с собой, забыли за поворотом, и оно ноет там и бродит и никогда не оставляет в покое.
Михаил Харитонов
Конец вашего лета
За что боролись?
Водитель вышел последним, – вид имея как у капитана тонущего судна, который он же и посадил на риф, за обещание от конкурирующей пароходной компании. То есть гордый и с хитрецой: я как бы исполняю долг, но свой интерес в деле понимаю. Тем более, в интересе была Свобода, а ехать – ну куда сейчас ехать, когда тут такие дела.
Нас всех высадили раньше. Опять же, ну не высадили, никто никого не выкидывал из вонючего троллейбуса. Сами вылезли, как миленькие, не петюкая. Я тоже. И в самом деле, тут такие дела.
Толпа на Тверской была не густой, совсем не праздничной, но и на революционную массу из учебника не походила. Чесгря, революционная масса из нее была, как из говна пуля. Масса готова сражаться, а эти пришли посмотреть, ну и немножко похулиганить. Точнее, посмотреть, как хулиганят другие.
Другие не дремали. Те самые ребята, что остановили наш троллейбус, убедившись, что он пустой, подкатились ему под бок и дружно, гуртом, нажали. Большая железная коробка колыхнулась, но устояла.
Закричали, налетели еще. В школе на переменке дурачки-первоклассники так «жмут масло» – накатываясь на притиснутых к стенке.
Я смотрел на них даже без ненависти. Я был тем, что тогда называли бранным словцом «патриот», – так вот, я был патриотом, русским патриотом, вполне себе красно-коричневых, как стали выражаться много позже, воззрений.
И я ненавидел бы всю эту толпу, если бы здесь были те, кого стоило ненавидеть. А так – я мечтал о залпе, об одном-единственном ружейном залпе. Хватило бы одного, даже не свинцом, а солью, как в «Кавказской пленнице», солью в эти задницы, чтобы все эти любопытствующие и хулиганящие сикнули врассыпную.
Но залпа не было. Я понимал, что и не будет. Армия не пойдет «стрелять в народ», ей все что надо уже объяснили. А патриотов мало, и у нас нет оружия. Даже того самого ружья с солью – и того нет. К тому же вот в нас-то как раз стрелять будут. В нас можно. Мы любим свою страну, поэтому мы враги всего светлого и чистого.
***
Август – несчастливый для России месяц. В этом месяце страна обычно ломается.
Началось это, кажется, в четырнадцатом. Я читал воспоминания о четырнадцатом годе. Все, получившие от всеблагих приглашение на то пиршество, единогласно отмечали охвативший страну подъем, энтузиазм и готовность сражаться. Николай Гумилев вопрошал, как могли прежде жить в покое, не мечтать об огнезарном бое. Стихи были опубликованы в пятнадцатом году в «Невском альманахе жертвам войны», сейчас это обстоятельство назвали бы плохим пиаром. Но это сейчас, а тогда была трагедия, настоящая, высокая трагедия народа, вступившего в войну за свое будущее и проигравшего ее из-за ножа в спину. И всенародное волнение в начале было тоже настоящим и трагическим.
В этом смысле настроения в преддверии августа девяносто первого выглядели как мерзкая пародия именно на «военный подъем». То волнение, собиравшее миллионные толпы на Манежную площадь, было похоже на предвоенное, даже слова были похожи. Все вроде бы собирались сражаться – с КПСС, с Горбачевым, за свободу Литвы и Грузии, еще за что-то. Интеллигенция делала вид, что боится. В реальности же никто всерьез не боялся – скорее играли в страх, выставляли его перед собой, как знамя. Чем, кстати, отрицали саму фигуру страха: в обществе, где можно пугаться публично и громогласно, бояться уж точно нечего. В ситуации настоящей угрозы ни о каком страхе не говорят – это попросту опасно. В тридцать седьмом все, кого это касалось или могло коснуться, ходили-улыбались.
Но в девяносто первом пугаться было принято. Приличные люди узнавали друг друга по демократической трясучке.
Бояться было принято «реванша», «реакции», «кегебе» и почему-то еврейских погромов. Для разжигания этого последнего страха все время писали про общество «Память», которое вот-вот выведет людей с топорами громить еврейские квартиры. В телевизоре регулярно сообщали, что такой-то народный депутат давеча видел на стене свастику, ну или какую-то закорючку, зловеще намекающую на грядущие казни инородцев. Чтобы никто не сомневался, братья Стругацкие написали пьесу «Жиды города Питера», где описывали, как будут брать всех приличных людей. Борис Стругацкий, выступая по радио, еще и специально объяснил, что писали не просто так, а намекая аллегорически, что «КГБ еще сильно в нашей стране». А наша соседка по лестничной клетке, старенькая Этель Абрамовна Кацнельсон, как-то пришла к нам – и спросила, спрячем ли мы ее, когда начнется. Я сначала не понял, о чем речь, а когда понял, принялся выяснять, откуда ноги растут. Открылось, что Этель Абрамовна увидела у себя на двери какой-то белый след, вроде как от мела, и решила, что ее квартиру пометили. Я пошел и стер грязь мокрой губкой. Старуха на меня, кажется, обиделась: я посмеялся над ее верой.
Впрочем, на такое велись только самые наивные. Массовый выезд из России – тогда аэропорты были переполнены отъезжантами, не обязательно евреями, – был связан не со страхом, а с предвкушением. Все ехали к солнцу, к свету, к счастью, к собственному домику с бассейном, о которых столько пел телевизор. Некоторые, впрочем, везли с собой подшивки журналов «Новый Мир» и «Огонек» – такие ценности нельзя было оставлять на поругание. Зато московские квартиры продавались очень дешево – ах, кто б знал тогда; хотя если б и знали, что проку, деньги были все у каких-то непонятных людей, и те вкладывать их в недвижимость не спешили. Знакомый кооператор говорил, что через пару лет прикупит себе дом на Калининском проспекте – такой, знаете, «книжкой». По росту его доходов и выходило, что купит, ну может, не через два, через три. Из литературных соображений стоило бы написать – «потом его убили», но его, к счастью, не убили, даже не пытали утюгом, просто траванулся фальшивой водкой, лечился, потерял время, бизнес и все остальное, а потом уехал в Эстонию и пропал.
Но это было все потом. А тогда, повторимся, все боялись и ждали «реакции» и «реванша».
Непонятно, правда, было, кто будет реваншировать и реакционировать. КПСС еще была жива (как и, скажем, какой-нибудь Госплан), но к ней относились, как к раковому больному: вроде человек еще и ходит, но шансов на излечение никаких. Косились на армию, но та была заботливо приведена в абсолютно недееспособное состояние, и это, в общем-то, понимали. С ее стороны ежели чего и опасались – то каких-нибудь «глупостей». Типа командир какой-нибудь танковой части окажется честным дураком, возьмет да и поведет танки на Москву. Но командира танковой части не нашлось: все оказались сообразительные, что твой Эйнштейн.
Хотя и задачка была, честно говоря, не бином. По телевизору столько раз повторили, что в этой стране «честность» и «предательство» суть синонимы, что дошло даже до самых тупых.
Даже знаменитая «Альфа» во время путча самоустранилась. Потом я узнал, почему: оказывается, после литовского эпизода, когда Горбачев публично открестился от людей, которых сам отправлял на задание, руководство подразделения приняло решение ничего не делать без письменного приказа. Впрочем, на штурм Белого дома и арест Ельцина не последовало и устной команды. Никто не осмелился даже на это.
Всеобщая уверенность в победе добра и света бралась из картины мира. Главным было слово «прошлое». К девяносто первому социализм, КПСС и прочие монстры из того же семейства были прочно записаны в «прошлое», иногда с добавлением «проклятое», иногда нет. Важно, что прошлое. А прошлое, как известно, бессильно: его уже нет, и воевать с ним легко и приятно, так как оно не может ответить, разве что бессильно погрозить костистым пальцем из вод Леты. Были, конечно, представители этого прошлого – например, те же коммунисты. Но они именно что «представляли интересы» прошлого, которого, опять же, уже не было – а потому тоже были не опасны.
В дальнейшем КПРФ всю дорогу играла именно эту роль – представительства интересов прошлогоднего снега. Но это тоже было потом.
***
При попытке вспомнить те шебутные времена все время возникает вопрос – а на что, собственно, они все рассчитывали?
Не буду говорить за всех. Я не знаю, на что рассчитывали бастующие шахтеры, ропщущие колхозники, фрондирующие генералы и прочие социально далекие от меня слои населения. Но вот на что рассчитывала интеллигенция, я скажу.
Чтобы было понятно, о чем пойдет разговор, немного истории.
В учебнике довольно часто упоминается такая штука, как «сословия». Сословие – это не класс. Классы различаются по отношению к средствам производства: кто ими владеет, а кто нет, кто извлекает прибыль, а кто получает жалованье. Сословия же существуют и там, где классов нет. Это сообщества людей, отличающихся друг от друга по своему правовому положению. То есть, проще говоря, по отношению к государству, по совокупности прав и обязанностей перед ним.
Можно представить себе общество, в котором нет отношений собственности – ну, скажем, все принадлежит государству. Но у разных групп людей есть разные права. Одни управляют, а другие подчиняются, одни должны работать, а другие не обязаны. И так далее. Вот это и есть сословия.
Сословия существововали во всех среднеразвитых обществах, например, в Западной Европе. Они же существовали и на Востоке. В Московской Руси сословия тоже были, и подразделялись на «тяглые» и «служилые». Тягло было обязано платить подати и нести повинности, то есть трудиться на государство. Служилые ничего не производили, зато несли службу – начиная от военной и кончая духовной. Сословия были фактически кастами: «где родился, там и пригодился» – перейти из сословия в сословие было почти невозможно.
В дальнейшем служилое сословие стало дворянством и духовенством, а тягло – крестьянством, купечеством, мещанством.
Можно спорить, насколько это было справедливо, но общий принцип – «права связаны с обязанностями» – сохранялся.
В 1762 году Петр III – фигура вообще довольно любопытная – подписал указ «О даровании вольности и свободы всему российскому дворянству». Этот указ освобождал дворян от обязательной службы, давал право выходить в отставку и жить по заграницам. Освободили их и от податей. Все привилегии же сохранялись в полном объеме.
Екатерина II продолжила ту же политику, выдав в 1785 году «Жалованную грамоту дворянству», где подтвердила все привилегии, заодно и обосновав изменившуюся концепцию. Фактически было признано, что дворянство является не частью общественного организма, которая должна выполнять свои обязанности, а, так сказать, природной элитой, ради которой все общество и существует.
Почему? Потому, что дворянство в предыдущий исторический период усилилось настолько, что могло разрушить монархию или, во всяком случае, сменить конкретного монарха – не будем забывать о судьбе того же Петра III. Дав привилегии, его одновременно подкупали и делали более безопасным. «Золотой век вольности» был веком разложения дворянства. Освобождение крестьян, завершившее его историю, застало сословие не в мундире, а, так сказать, в домашних тапочках. «Никто и не рыпнулся».
Ну а теперь про СССР.
***
Советское общество тоже было не классовым, а сословным. Это и понятно. В советском обществе средствами производства не владел никто – во всяком случае, официально все было государственное. Тем не менее в обществе были четко выраженные прослойки – начиная от партаппаратчиков и кончая интеллигенцией. Которую так и называли «прослойкой», чтобы обидеть, как думала сама интеллигенция.
Советская интеллигенция должна была заниматься двумя вещами – во-первых, «науками и искусством», и, во-вторых, идеологическим обслуживанием советской власти. Проще говоря, она должна была делать ракеты и публично клясться в любви к Марксу, Энгельсу, Ленину, не говорить и не писать ничего, что противоречило бы их учению, а для пущей чистоты – ничего такого и не читать, не слушать, не смотреть. За это ее кормили. При этом интеллигент должен был еще и колебаться вместе с линией партии, своевременно меняя взгляды согласно последним установкам.
Нечто аналогичное когда-то требовалось от духовенства – безукоризненная верность не только духу христианского учения, но и «всякой букве», а также текущим задачам начальства. Но у духовенства был хотя бы сверхличный авторитет. У марксизма его не было: всесильное, потому что верное, учение отвергало религиозность как таковую, тем самым пиля под собой сук. Впрочем, не оно первое.
Так вот. Советская интеллигенция хотела от властей того же, чего хотело и получило российское дворянство от Екатерины. Оно ждало манифеста о вольности.
Что должно было быть в таком манифесте?
Интеллигенция признается привилегированным классом, советской элитой, которая никому ничего не должна, а все должны ей, потому что ради нее общество и существует. Она остается на прокорме общества и паек ее даже увеличивается. Зато с нее снимаются все ограничения – интеллигент имеет право говорить, писать, читать, слушать и смотреть абсолютно все что угодно, безо всяких ограничений. Все, вплоть до откровенно антигосударственных вещей. Чтобы никакая партийная харя не лезла в калашный ряд, где запойно читают Бродского. И напротив, мнения интеллигентов были бы признаваемы как некий абсолютный нравственный камертон. Чтоб к какому-нибудь знатному режиссеру – скажем, Любимову – ходил бы ножками председатель КГБ, долго ждал бы приема под дверью, а потом униженно молил бы его о моральной санкции на вмешательство в дела Эфиопии. А Любимов бы еще думал, осудит он такое вмешательство или все-таки не осудит.
Все это должно было бы назваться «социализмом с человеческим лицом», ну или как-то близко.
Описано такое мироустройство – в виде утопии – у помянутых мною братьев Стругацких. Смотри их цикл «Полдень, XXII век», где социалистическим миром правят веселые ученые и высоконравственные гуманитарии, а все вопросы решаются «этически», в процессе типичной интеллигентской рефлексии.
Все это, наверное, кажется каким-то сюром. Любитель исторических аналогий сказал бы – это как если бы Петр III в свое время дал бы вольную не дворянству, а духовенству, разрешив попам проповедовать любые ереси или даже переходить в магометанство или в атеизм, и тому же учить паству, да еще и начальство поучать, как ему жить.
Интеллигенция верила в то, что все это возможно и очень желательно. Ведь есть же место, где оно все так и устроено, думала она, дура.
Это место – «Запад». Где Свобода Слова и Можно Говорить, Писать и Читать Все, Что Хочешь.
Интеллигенция не могла и не хотела понять, что западное общество – классовое, а не сословное. Что западный интеллектуал совершенно не похож на советского интеллигента, прежде всего потому, что государство не платит ему ренту, и на прокорме у населения он не находится. Он вынужден продавать продукты своего труда – идеи, формулы, лозунги. Важно, что ему их надо продавать. Свобода слова и прочие ништяки – это всего лишь оборотная сторона свободы рынка. И что на этом рынке крупнейший покупатель – государство. Которому в силу одного этого обстоятельства совершенно не нужно что-то запрещать. Потому что «отношение тут экономическое».
Если коротко: советская интеллигенция была похожа на бабу, живущую в постылом браке с законным мужем, который ей смертельно надоел. Рядом живет красивая проститутка, у которой полно мужиков, осыпающих ее деньгами и подарками. Баба смотрит на проституточью жизнь, завидует, слюнями исходит – и в один прекрасный момент требует от мужа, чтобы он ей тоже разрешил трахаться с кем попало, но при этом сам оставался ей верен, продолжал бы ее обслуживать и приносил бы домой получку до копеечки…
Ну конечно, баба понимала бы, что скажет муж. Но, как все дуры, она считает себя хитрой. Поэтому она начинает с малого – требует себе права возвращаться домой заполночь, в обмен на клятвы, что она «задержалась у подруги».
Интеллигенция, как та самая баба, собиралась перестраивать отношения постепенно. Чтобы сначала добиться малых послаблений, потом больших, и в конце получить желанный манифест. Который должен был подписать Михаил Сергеевич Горбачев. Или его преемник.
Горбачев был естественным лидером сословия. Именно он был готов дать интеллигенции то, что она хотела получить, сохранив то, что она хотела сохранить. Не его вина, что это не получилось. Скорее всего, и не могло получиться.
***
Тогда, в девяностые, я ничего этого не понимал. Несмотря на интеллектуализм, горы прочитанных книжек и прочие вторичные признаки интеллигента, я не имел первичных – вписанности в систему и причастности к коллективному сословному интересу. Хотя ощущал его кожей – как нечто невыговариваемое. Как то, о чем молчат и даже не думают – но что молчаливо скрепляет всех в общем деле. Как будто все они перемигнулись и бессознательно, вне ума – договорились. Но без меня. Я был молод, и у меня уже были не те убеждения.
Сами представители сословия определяли свои желания туманно. Большинство искренне верило, что хочет жить как на Западе, примерно как в Америке и Швеции (тогда жутко популярен был «шведский социализм», сути которого, конечно, никто не понимал вовсе). Кто поумнее, говорил, что кое-какие социальные завоевания надо сохранить. Самые откровенные договаривали, что сохранить надо все то, что связано с интеллигентской инфраструктурой, начиная от образовательной системы (естественно, передав ее в руки «педагогов-новаторов», то есть все той же интеллигенции) и кончая Союзом писателей. И все соглашались с необходимостью преобразований. И все говорили – «свобода для всех», и все подразумевали – «вольность и права для нас».
О предполагаемом порядке перемен я слышал разные мнения. В основном они сводились к тому, что предстоит довольно длительный период постепенного ослабления цензурных пут, обретение подлинной независимости и свободы, и только потом – сладостная вечность полной риторической безответственности, когда долг лояльности по отношению к обществу и государству, даже самый минимальный, будет окончательно похерен.
Так, в восемьдесят седьмом году один очень неглупый человек, кандидат философских наук, между прочим (он уехал в девяносто первом на историческую родину), объяснял мне эту штуку так:
– Ну смотри, – говорил он. – Сейчас у нас разрешают Соловьева. Книжки идут по десятке том, это в Институте философии. Бухарина вот сейчас разрешили, будут издавать полное собрание. А там лет через пять и до Троцкого дело дойдет. Вот увидишь, его самым верным ленинцем объявят. Ну а потом, когда Ленина критиковать начнут… ну это не скоро… тогда, наверное, противопоставят.
На мои вопросы, а нельзя ли приступить сразу к Ленину и не тянуть кота за муди, он горестно усмехался и объяснял, что это невозможно.
– Ты не представляешь, какое там сопротивление, – втолковывал опытный он несмышленому мне. – Там целый слой старых пердунов, они ничего не пропустят просто так. Ну, будем бороться. Я тут альманах думаю сделать, литературно-философский. Уже кое-что есть. Фихте непереведенный, мемуары Деникина, ранний Лосев, еще всякая антисоветчина… Надолго хватит.
Та же уверенность – «надолго хватит» – двигала корифеями перестроечной прессы. Толстые журналы публиковали Набокова и Платонова и выходили чудовищными тиражами. Издатели и редакторы пребывали в святой уверенности, что Набокова и Платонова хватит им надолго, а когда они кончатся, можно будет начать переводить Генри Миллера и маркиза де Сада, и всего этого добра есть лет на десять как минимум, а там подоспеет стихия отечественного творчества, которой хватит надолго, если не навсегда.
Но при этом никто не сомневался, что журналы останутся, что книжки будут стоить дорого, что интеллигенция останется на содержании у государства и что содержание это будет только увеличиваться. Потому что интеллигенция ощущала себя сильным классом – таким же, как дворянство во времена Петра III. Классом, способным разрушить государство. Классом, от которого надо откупаться и откупаться, и это будет вечно продолжаться.
Это был относительно спокойный восемьдесят седьмой. В феврале следующего года случился Сумгаит, а в Литве образовалось движение «Саюдис». И понеслось.
Не буду углубляться в эту тему. Замечу лишь: национальные движения в бывшем Союзе напрасно представляют «идущими снизу», от бородатых нечесаных фанатиков. На самом деле и они на своих начальных стадиях были инициированы все той же интеллигенцией.
Сейчас еще помнят, кто такой был Звиад Гамсахурдиа, рафинированный отпрыск классика грузинской литературы, литературовед, доктор философии и, помимо всего прочего, официально зарегистрированный (с членским билетом) советский писатель. Витаутас Ландсбергис, творец литовской независимости – музыковед, искусствовед, хранитель музея Чурлениса, член правления литовского Союза композиторов и, разумеется, писатель, автор более тридцати книг, в том числе поэтических сборников. Желающие могут сами уточнить биографии деятелей армянского национального движения. А Зелимхан Яндарбиев, главный идеолог чеченского движения и тоже, конечно, маститый советский писатель, в 1985-1986 годах даже успел посидеть в кресле председателя Комитета пропаганды художественной литературы Союза писателей СССР.
Эти люди заслуживают того, чтобы именоваться авангардом своего сословия. Но они имели иные цели. Они не хотели вольностей, пусть даже безбрежных. Они хотели власти – и готовы были за нее заплатить.
Они ее получили. Но заплатили – другие.







