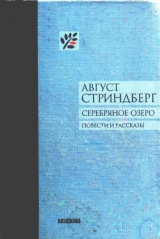
Текст книги "Серебряное озеро"
Автор книги: Август Юхан Стриндберг
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 16 страниц)
– Ты случаем не ревнуешь, мой мальчик?! (Они перешли на «ты» в кегельбане.)
Этот удар был воспринят как избавление от мук, без ропота, без малейшего сопротивления – пронзенный стрелой сидел, уронив голову на грудь, словно уже произнес последнее в жизни слово: «Совершилось» [68]68
Предсмертное слово Иисуса Христа (Ин., 19, 30).
[Закрыть]. Когда они въехали в город и поравнялись с аптекой, Либоц остановил дрожки и, торопливо пробормотав: «Я сейчас, только возьму рецепт!» – скрылся в воротах.
Карин с Черне столь оживленно болтали, что не придали значения исчезновению адвоката. Чуть погодя им все же показалось, что ожидание затянулось, и прокурор вылез из экипажа, чтобы заглянуть в аптечное окно; когда же он не увидел там никакого Либоца, то зашел в аптеку осведомиться о нем и выяснил, что адвокат туда даже не заходил. Тут он сообразил, что к чему, и, поняв, что нужно спасать себя от неприятной и докучной роли утешителя, по-ужиному проскользнул в ворота и ретировался задами, через аптечный двор, как сделал прежде него адвокат.
Невеста еще некоторое время просидела в экипаже, потом, заподозрив неладное, пошла в аптеку наводить справки, получила ответ, выскочила вон и, забыв про дрожки и кучера, помчалась на квартиру к жениху. Того дома не было.
Карин оставалось лишь уйти восвояси.
* * *
Наутро девушке принесли письмо вместе с кольцом. Письмо было не желчное, напротив, Либоц брал всю вину на себя и сожалел о том, что запятнал ее доброе имя, объяснял, что он ей не пара: тяжелый характер и нелегкий труд, сопряженный с людскими бедами, делают его непригодным для светского общения; сам будучи несчастным, он не может нести свет и радость в жизнь другого человека. И так далее в том же духе.
Карин поплакала, но, смекнув, что все к лучшему, снова начала прислуживать у Аскания, куда Либоц ходить перестал.
Прокурор тоже некоторое время не показывался, поскольку стоило адвокату ослабить хватку, и добыча утратила для Черне привлекательность; он ведь хотел всего-навсего развлечься в воскресный день – ощутить собственную неотразимость и насладиться муками ближнего.
Либоц целую неделю просидел взаперти, не ходил за продуктами, побледнел, однако работу свою выполнял с привычным спокойствием и прилежанием.
Отношения с местными жителями оставались неизменными. Испытывающий ненависть к себе тех, с кого должен был взыскивать долги, пользующийся сомнительной репутацией и всеобщим презрением, он нес тягости дня и выполнял свои обязанности чуть ли не через силу. Если в город приезжали на гастроли театральная труппа, цирк или музыканты, адвокат шел посмотреть и послушать, хотя и безо всякого удовольствия.
– Мы, люди состоятельные, – говорил он, – просто обязаны ходить на представления, иначе гастролеры больше не приедут и театр будет стоять пустой, а это позор для города. Цирк же и вовсе единственная детская радость… Нужно думать о других.
При этом он давал небольшие займы без процентов простому люду, подписывал векселя, вынужден был платить по ним, а вместо благодарности лишь приобрел гнусную славу ростовщика. Но самой его тяжкой обязанностью были посещения отца в психиатрической лечебнице. Хотя адвокат оплачивал его пребывание там по второму разряду и всегда приносил с собой нюхательный табак, портвейн и другие подношения, старик встречал его исключительно жалобами.
Надо сказать, что отца ненавидели и в лечебнице, где очень многие были его покупателями и годами страдали от его поддельных товаров. Посему он в основном держался поодаль, не осмеливался гулять во дворе, порою мучаясь запущенной формой мании преследования, которая развилась на почве всеобщей ненависти к нему. Так, он утверждал, что его надувают с едой, что вода отравлена, а постельное белье пропитано дурнопахнущим веществом, отчего ему приходится ночью вставать с кровати и садиться на стул. Чтобы к отцу относились лучше, Либоц придумал способ задабривать его товарищей по палате мелкими подарками, но пробудившаяся в старике зависть свела на нет усилия сына в этом направлении.
Как-то в полдень адвокат после воскресной службы шел по длинной и скучной улице, что вела к лечебнице. По правую руку от него была часовня, по левую – холм, который еще не успели до конца взорвать и который являл взгляду развороченную земную утробу. Далее лежало холерное кладбище, которое не решались трогать из страха пустить по свету заразу. На кладбище играли ребятишки, они прятались в чаще разросшегося кустарника и лазали по деревьям, приобретшим диковинную форму и покрытым темными пятнистыми листьями, словно и они были заражены холерой. Единственный на всю округу черный деревянный крест покосился, готовый вот-вот упасть, и возле него Либоц иногда видел пожилую женщину, которая, не обращая внимания на галдящую ребятню, предавалась безмолвной молитве. Дети часто избирали крест своей мишенью и швырялись в него камнями, пока он не падал, но адвокат всегда поднимал его и укреплял со всех сторон. На кресте была надпись, однако фамилия там числилась иная, чем у женщины, так что Либоц решил, что под ним покоится ее обратившийся в прах возлюбленный. Не зря адвокат то и дело задавался вопросом, почему никогда не удается соединиться самым подходящим друг другу людям, на что циничный прокурор однажды заметил: «Самых подходящих не бывает» (подразумевая в виде продолжения: кроме тех, кому самый подходящий не достался).
Рядом с этим мрачным местом и находилась лечебница, в здании которой сначала размещался казенный хлебный магазин, потом холерный барак, а теперь был приют для страждущих душой. Адвокат, по обыкновению, прошел внутрь со своей сумкой и подвергся обыску привратником, после чего его впустили в средних размеров комнату, где вместе с еще двумя больными обитал отец.
Тот сидел в халате у окна, отвернувшись от товарищей по несчастью, чтобы не видеть их взглядов. При появлении в палате сына старик взял у него сумку и, не поздоровавшись и не поблагодарив, удалился за ширму, где, по-прежнему не произнося ни слова, принялся есть и пить. Ел он, хвастливо причмокивая, дабы позлить своих сокамерников, и уж тем более старался погромче нюхать табак, перемежая сие приятное занятие болтовней.
– Если бы у тех тоже был табак, разве ж я получал бы от своего такое удовольствие? Ты им давать не смей, Эдвард.
Затем старик подлез к Эдварду и стал шарить у него по карманам, где всегда был припрятан дополнительный сюрприз. Сегодня сын принес ему самый ценный подарок: две новые колоды карт. Сам Эвард терпеть не мог карты, и две кроны были потрачены на поощрение греха, но тем ценнее было сотворенное благодеяние.
Старик с наслаждением распечатал колоды – он испытывал при этом такое ощущение, будто чистил персик, – и пальцы бывалого игрока прямо-таки почуяли нежное прикосновение талька, стоило ему завидеть в окошечко обертки червонный туз.
Отец хотел тут же приступить к игре, однако сын выговорил ему:
– Сегодня нельзя играть, воскресенье. Да я и не умею.
– Я тебя научу, – предложил старик.
– Нет, батюшка, ты лучше поиграй со своими соседями… завтра.
– С ними – ни в жисть.
– А одному играть у тебя не получится.
Положение создалось аховое: играть одному действительно было невозможно, надо было иметь соперника для борьбы.
– Сядь! – велел старик. – И не проявляй неблагодарности к старому отцу. Ты не думаешь, что я и без того достаточно мучаюсь?
Адвокат и в самом деле так думал, и, поскольку ему никогда не хотелось огорчать других, он и оглянуться не успел, как уже сидел с картами в руке.
Играли они в стукалку [69]69
Азартная картежная игра, в которой игрок, рискующий идти ва-банк, извещает об этом остальных стуком о стол.
[Закрыть]– ни во что другое сын не умел.
Вскоре, однако, он устыдился этого занятия, струсил, что может войти смотритель, и бросил карты на стол. И все же отец имел над ним такую власть, что одного крепкого словца родителя оказалось достаточно, чтобы адвокат возобновил игру…
– Ты не давал в масть, отец! – дерзнул заметить он, не столько в порицание, сколько просто к сведению.
– Ты хочешь сказать, я играю нечестно?
– Ничего подобного, я просто хотел привлечь твое внимание…
Началась неизбежная ссора, которую вел за обоих старик, высказывая претензии и сам же отвечая на них.
Между тем один из товарищей по несчастью выскользнул из комнаты, и чуть погодя туда явился смотритель.
– Вы что, в воскресенье играете в карты?! Ни стыда ни совести у людей нет! Оно и понятно, яблочко от яблоньки недалеко падает… Спрячьте карты, не то я их заберу!
Эдвард Либоц сидел безответный, пристыженный, уличенный – он же не мог свалить вину на отца…
После ухода смотрителя адвокат встал и тоже собрался уйти.
– Как, ты уже уходишь? – не замедлил отозваться отец.
Это был обычный прощальный упрек старика, с показательным «уже», даже если сын пробыл у него несколько часов. Причем адвокат знал, что отцу не столько необходимо его общество, сколько приятно, чтобы он мучился.
Эдвард набрался храбрости выступить с мягким укором:
– Если ты не будешь соблюдать правила, батюшка, я перестану тебя навещать.
– Это тебе запросто, ведь ты хотел выкинуть с должности собственного брата и объявить разоренным отца.
Что было Эдварду ответить на такое? Он лишь содрогнулся от этого выражения неизбывной злости, ничтожества, вульгарности и, удрученный, выскользнул в дверь. Но ему предстояло еще миновать коридор, и тут его с обеих сторон осыпали обидными словами: картежник, соблазнитель, процентщик и так далее.
Хуже всего был для адвоката упрек в картеже, поскольку тут он чувствовал за собой вину; с утра он ходил к обедне и нашел утешение в библейской цитате: «В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир». В церкви голоса нашептывали ему слова надежды и утешения, намекали, что его не наказывают, а подвергают испытаниям, что ему послана судьба Иова, тогда как сам он, можно сказать, человек безвинный. И вот, спустя какой-нибудь час, когда Либоц хотел почтить день отдохновения богоугодным поступком, он оказался вовлечен в банальную карточную игру, кончившуюся ссорой… Адвокат производил впечатление лицемера, хотя отнюдь не был им. Больше всего Либоца тяготила эта говорившая против него видимость, эти двусмысленные положения, в которые его втягивали помимо собственной воли. Он хотел действовать по чести и справедливости, но у него не всегда получалось…
Проходя мимо городской церкви, адвокат заметил, что она открыта и там никого нет, и зашел внутрь. Там было тихо, красиво, просторно и высоко до потолка, совсем не так, как во всех прочих городских помещениях. Страшась звука своих шагов, Либоц, однако же, двинулся по центральному проходу вперед, к алтарю. По дороге он остановился у одной из скамей, взял забытую кем-то Библию и отыскал в ней шестнадцатую главу Книги Иова.
«Лице мое побагровело от плача, и на веждях моих тень смерти, при всем том, что нет хищения в руках моих, и молитва моя чиста. Земля! не закрой моей крови, и да не будет места воплю моему. И ныне, вот, на небесах Свидетель мой, и Заступник мой в вышних! Многоречивые друзья мои! К Богу слезит око мое. О, если бы человек мог иметь состязание с Богом, как сын человеческий с ближним своим! Ибо летам моим приходит конец, и я отхожу в путь невозвратный».
Для Либоца тоже единственной надеждой было когда-нибудь умереть, ибо на этом свете он не ждал больше ничего хорошего, а потому оставалось лишь приготовиться к самому худшему и испить чашу унижений, как если бы в ней была просто вода.
Он никогда не мучился религиозными сомнениями, поскольку считал учение о высших созданиях не требующим доказательств; его смущала только собственная неспособность осознать доброту Господа, если жизнь устроена столь цинически скверно и тебя прямо-таки насильно втягивают в это злодеяние. Обнаружив, что твердые в вере люди могут в один прекрасный день оказаться тяжкими преступниками, Либоц испытал досаду на Бога, который не помогает своим приверженцам в минуту искушения, бросает их в беде, жертвуя таким образом и этими почитателями, и привлекшим их учением. Сам же он на бытовом уровне никогда не соответствовал ни своей вере, ни своим добрым помыслам, так как боялся прослыть религиозным человеком и скрывал собственную набожность. При этом он считал посещение церкви в будни поминанием имени Господа всуе. Шесть дней следует делать дела, а на седьмой нужно отправлять службу Богу – такого правила адвокат придерживался в отношении себя, однако ни в коем случае не навязывал его другим.
Либоц еще некоторое время предавался размышлениям, после чего пошел домой и заперся там. Во второй половине воскресенья он обычно изучал финансовые и прочие дела, а также принимал частных посетителей. К нему приходило множество лиц, которые хотели с глазу на глаз попросить взаймы, переложить на него собственные заботы или просто выговориться, поделившись своими бедами, своими печалями, своей ненавистью.
Иными словами, Либоца использовали в качестве бесплатно практикующего врача.
Контору его никак нельзя было назвать уютным помещением, в ней невозможно было даже поддерживать чистоту: по будням там толпился народ, в воскресенье же не позволял заниматься уборкой сам адвокат. Постоянное ворошение злосчастий усугубляло обстановку, делая ее по-истине удушающей, а запотевшие от дыхания посетителей окна хотя и высыхали, зато на них выпадал пыльный осадок, так что улицу приходилось созерцать через налет грязи.
Либоц уселся за своей большой конторкой и достал гроссбух, который вел писарь. За время службы в адвокатской конторе этот молодой человек переменился; с прибыванием работы он сделался усерднее и даже оставался в конторе на перерыв, особенно когда время совпадало с уходом обедать хозяина. Характером поначалу открытый, парень стал замкнут, насторожен, высокомерен, а то и просто настроен враждебно, хотя держался в рамках приличий. После некоторого периода усердия он начал отпрашиваться со службы, куда-то уезжал из города и вел себя крайне таинственно. Если его посылали следить за судебным разбирательством, он отсутствовал дольше положенного, причем нередко простейшие тяжбы оказывались проигранными.
Хотя у Либоца давно закрались подозрения насчет писаря, адвокату неловко было шпионить за ним, и он боялся производить форменное дознание, поскольку закон так старательно ограждал правонарушителя от каких-либо нападок, что потерпевший лишь с огромным трудом мог доказать его вину, да и то подвергаясь опасности самому понести наказание.
Раскрыв гроссбух, Либоц в первую минуту вообще не мог разобраться в нем. Долги, денежные претензии, взысканные недоимки – все шло вперемешку; суммы, потраченные на дорожные расходы, не подтверждались расписками и были завышены; что-то явно было нечисто.
Когда же Либоц принялся читать решения суда по проигранным делам, выяснилось, что противная сторона выставляла в свою защиту его собственные аргументы и что свидетели его подзащитных – благодаря их признаниям, отводу или превратному толкованию их слов – показывали в пользу противника. Видимо, Шёгрен (его писарь) исполнял роль тайного ходатая, выдавая другим тактику своего доверителя и наверняка делая это небескорыстно.
Открытие было неприятное, однако Либоц не столько разозлился, сколько опечалился, поскольку молодой человек находился с ним рядом в трудные времена и обнаруживал терпение и присутствие духа, не торопил с жалованьем, даже всячески подбадривал и поднимал настроение.
Выдвигать обвинение против писаря адвокат не собирался, ибо в таком случае жизнь юноши была бы исковеркана, но Либоцу хотелось, прежде чем уволить его, иметь неопровержимые доказательства для себя, поэтому он позвонил прокурору и попросил о приватной беседе. Черне недолюбливал адвоката, однако, чуя, что дело пахнет арестом, обещал незамедлительно прибыть: в самом крайнем случае он надеялся раздобыть секретные сведения, которые можно будет потом использовать.
Приехав на велосипеде, он ворвался в контору и тут же оседлал повернутый задом наперед стул.
По обыкновению осторожный, Либоц начал со вступления, которое оставило прокурора совершенно равнодушным, но, когда адвокат подошел к сути дела, Черне явно заинтересовался.
– Прошу не рассматривать это как официальное заявление, – продолжал Либоц, – я просто хочу отказать ему от места с чистой совестью.
И он изложил все свои доводы, а заметив, что Черне делает записи, снова предупредил его:
– Только никаких рапортов.
– Нет-нет, это так, промемория… на случай, если понадобится произвести следствие в частном порядке.
– Уж пожалуйста, не подведи меня! А кстати, ты не обращал внимания – Шёгрен очень швыряется деньгами?
При упоминании этого имени Черне поджал губы, как будто завязал мешок с тайнами, и без промедления ответил:
– Не стану утверждать, но мне кажется, он ходит в «Городской погребок», а там, похоже, играют в карты. Если же человек картежник, он способен на что угодно.
Тут пришла пора адвокату измениться в лице… Он вглядывался в злые глазки Черне, пытаясь определить, не намекает ли он на вчерашнюю невинную игру в лечебнице, однако не уловил в остром взгляде прокурора враждебности к себе, хотя там чувствовалась подспудная ненависть к кому-то другому. И Либоц понял, что этот выпад был дьявольской нечаянностью, которую с помощью мистического переноса спровоцировали его собственные мысли. Впрочем, слова «Городской погребок» пробудили в адвокате смутные воспоминания о слышанной сплетне: якобы Шёгрен и Черне соперничают за обладание Карин.
– Ты, чай, не имеешь зуб на Шёгрена? – осведомился он, доброжелательно, но несколько опрометчиво.
– Какой еще зуб? Какие у меня могут быть дела с Шёгреном?! – вскипел прокурор, силясь прочитать в словах Либоца тайный умысел.
Либоц же понял, что затронул больное место и что Шёгрен в самом деле взял верх над соперником, чего этот неотразимый мужчина ни в коем случае не простит юноше. Адвокат также сообразил, что его писарь пропал, и стал молиться за него; вот, значит, на кого теперь обернулась ненависть Черне, вот в какую она воплотилась искру, подумал Либоц, отнюдь не желая этому жалкому человеку, побежденному каким-то писарем, реванша в виде разоблачения Дон-Жуана, который одолел его в поединке за любовь.
Чем больше Либоц пытался защитить злоумышленника, чем больше обнаруживал в нем хороших качеств, тем сильнее разгоралась ненависть прокурора к ним обоим. Не зная, что еще сказать, совсем отчаявшись, адвокат с присущей ему наивностью принялся уверять, что у него и в мыслях не было намекать на любовную связь…
– О чем это ты? – оборвал его прокурор.
Заметив такой промах, Либоц хотел было взять свои слова назад, но побоялся усугубить положение, а потому направил острие ножа в противоположную сторону: взял всю вину на себя и рассказал о маленьких хитростях, пусть даже совершенно невинных, которым сам обучил молодого человека.
Черне с радостью слушал Либоцевы саморазоблачения, давал понять, что поощряет его откровенность, ощипывал эту свалившуюся прямо в руки птицу и, придя в хорошее настроение, подкинул несколько собственных – выдуманных – признаний, отчего обстановка стала еще более доверительной. Историю про адвоката Книвинга прокурор принял с восторгом, а насчет первой бесплатной старушки объяснил, что безоговорочно верит в нее, поскольку с ним самим бывали такие случаи, и не раз. Однако когда он тут же принялся выспрашивать Либоца об Аскании, в частности каким он представляет себе прошлое трактирщика, адвокат наотрез отказался обсуждать это.
– Нужно быть благодарным, – обрезал он прокурора и заметил, что копаться в прошлом других людей, если они и так поплатились за него, дело рискованное.
Черне мгновенно пошел на попятный, одобрительно отозвался о верности Либоца друзьям и рассыпался в похвалах Асканию, если не как человеку, поскольку он, мол, недостаточно близко с ним знаком, то, во всяком случае, как типу личности. Прокурор превозносил Аскания до той самой минуты, когда ему удалось выскользнуть за дверь. Тут только Либоц сообразил, что забыл взять с Черне обещание не предпринимать ничего в отношении Шёгрена, однако прокурора уже и след простыл, к тому же он наговорил столько доброжелательных слов и оставил по себе такое хорошее впечатление, что адвокат посчитал былые опасения безосновательными.
После ухода Черне Либоц засел наводить порядок в гроссбухе, разнося сведения о расходах и доходах по положенным местам и таким образом прикрывая писарские недочеты, поскольку твердо решил оставить юношу у себя. Впрочем, сначала адвокат собирался по-доброму побеседовать с ним, раскрыть ему глаза и привязать к себе крепкими узами благодарности.
* * *
Адвокат Либоц был человеком проницательным, умевшим быстро схватывать ситуацию и соображать что к чему. Прочитав запутанное дело, он мог прекрасно изложить его на судебном заседании в самых общих чертах; он также всегда сохранял спокойствие и присутствие духа и, уцепившись за главное, никогда не позволял противной стороне заговаривать суду зубы и уводить разбирательство от сути дела; если же в ход пускались второстепенные обстоятельства, призванные затемнить главное, Либоц, взявшись за них, не оставлял от аргументации камня на камне, причем потом неизменно возвращался к основной теме, так что его отступления всегда оказывались тщательно продуманными. В обыденной жизни, однако, этот замечательный ум был крайне наивен, его даже можно было счесть глупым за то, как он рассказывал о своих маленьких слабостях, собственными руками поставляя неприятелю оружие и боеприпасы для войны против себя, отдавая свою голову на милость первого встречного-поперечного. Но все это проистекало из доверчивости Либоца, которая основывалась не на его неведении о злобности человеческой натуры, а на принципиальном стремлении верить в добро – или делать перед собой вид, будто веришь в добро, – а когда приходилось разочаровываться, снисходительно относиться к недостаткам ближнего и прощать, прощать, прощать… Иными словами, такова была его натура в сочетании с изначальными идеями о мироздании, о людях и собственной мрачной судьбе, идеями, которые он называл своей религией. Вне службы друзья считали Либоца олухом, а среди людей, близко его не знавших, он слыл ханжой, поскольку они не могли поверить, что адвокат действительно так красиво думает о людях и обладает столь безграничным терпением, которое они относили к недостаткам. Доброхотство вполне могло навлечь на Либоца обвинения в пристрастности и иметь печальные последствия, но он мирился и с этим. Так, одна столичная коммерческая фирма как-то обратилась к нему с запросом о некоем торговце, которого фирма проверяла на предмет выдачи ему кредита. Либоц ответил, что не может сказать об этом человеке ничего, кроме хорошего. Торговец же прогорел, после чего Либоц получил оскорбительное письмо за то, что «рекомендовал мошенника». Во-первых, торговец не был мошенником, а во-вторых, Либоц не рекомендовал его, однако с таким притягиванием за волосы адвокат сталкивался постоянно, так что «он привык, и тут уж ничего не поделаешь».
Если с ним поступали несправедливо, Либоц не сердился, а огорчался, и он не умел мстить, потому что не мог никому причинить боли. «Искусство творить зло» казалось ему безмерно трудным, и он жалел негодяев, считая, что больше всего страдают от совершаемого ими зла они сами, поскольку мучаются своей подлостью.
Между тем после ухода прокурора Либоц недолго пробыл один: в то воскресенье к нему пожаловал один уважаемый горожанин, красильщик, желавший расторгнуть свой брак. Три часа он изливал на адвоката подробности десятилетнего супружества на всех его этапах.
– Почему ж вы давным-давно не расстались? – спросил Либоц.
– Коль скоро ты прилип к птичьему клею, выбраться очень сложно: чем больше трепыхаешься, тем крепче увязаешь.
Адвокату пересказывались супружеские ссоры и взаимные обвинения, его посвящали в сугубо интимные детали, которые он едва понимал, приобщали ко всей скверне, порождаемой совместной жизнью, к безрассудной ненависти, которой он не понимал вовсе. Когда он попробовал уговорить посетителя помириться с женой, тот превратился в извергающийся вулкан и заговорил о том, что лучше отравит жену и попадет в тюрьму; когда же Либоц предложил развод, несчастный вдруг заколебался, засомневался, завел речь о детях, успокоился, испросил разрешения закурить сигару и кончил перечислением всех мыслимых достоинств своей супруги… после чего откланялся.
Либоц был раздавлен этим посещением. Он точно самолично прожил десять лет в ужасном браке и за три истекших часа постарел, осунулся, почувствовал, как иссохла его кожа, – так близко к сердцу принимал он чужое страдание.
И все же в постель он лег с облегчением на душе, радуясь тому, что спас незадачливого писаря, которого завтра наставит на путь истинный.
* * *
Наутро Либоц ходил по квартире, готовя речь для Шёгрена, когда нагрянул Асканий. Он влетел ручной гранатой и взорвался посреди комнаты.
Трактирщик был сам не свой: щеки его горели пунцовым цветом, он утратил привычное достоинство, сменил тихий голос едва ли не на крик, не мог сидеть и метался по комнате. А примчался он всего лишь за тем, чтобы пригласить Либоца пообедать с ним в «Городском погребке» – ровно в три часа, без никого другого, вот, мол, и все его дело. И Асканий бросился вон.
В «Городском погребке»? Странно! Асканий – и зовет в «Городской погребок»! Видно, неспроста, только в чем же тут причина?
Часы пробили десять, а Шёгрен все не шел, хотя пора было ему и появиться. По прошествии четверти часа Либоц забеспокоился, в половине одиннадцатого решил, что писарь дал стрекача. Для прояснения обстановки адвокат позвонил прокурору и осведомился, не видал ли тот Шёгрена.
– А он что, сбежал? – вопросом на вопрос отозвался Черне.
– Я ничего подобного не говорил! – сказал Либоц, боясь поступить опрометчиво. – Просто я спрашиваю, не видал ли ты его?
– Нет, – ответил прокурор, – однако если он не появился у тебя в конторе, то после нашей вчерашней беседы резонно предположить, что он сбежал.
– Ты прав, но, пожалуйста, до середины дня не предпринимай никаких поисков, торопиться тут ни к чему.
– Будь спокоен! – заверил Черне и повесил трубку.
Ближе к полудню адвокат принялся жалеть молодого человека, который испортил себе будущее. Если бы он доверял людям, его горю можно было бы помочь, да ведь он ждал от них только плохого, вот все и пошло наперекосяк.
В три часа за Либоцем зашел Асканий, всклокоченный, с таинственным видом, точно скрывая какой-то секрет, однако словоохотливый; впрочем, поскольку ему не хотелось заранее раскрывать свою игру, говорил он исключительно о погоде и базарных ценах.
В «Городском погребке», когда они вошли туда, совсем не было посетителей – только хозяин сидел за стойкой, делая вид, будто занят подсчетами. При виде Аскания он вздернул свои могучие плечи и в знак приветствия обнажил клыки (впереди губы его оставались сомкнуты).
Не назвавшись по имени, Асканий заранее заказал обед на двоих, и им накрыли стол у окна, поскольку, если посетителей было мало, их всегда сажали перед окном – создавать у прохожих видимость, что в заведении полно народу.
Если зимой «Городской погребок» жил за счет пирушек, свадеб, балов, заседаний ландстинга и разных комитетов, то летом всех посетителей переманивал к себе в сад Асканий. Неудивительно, что дела у хозяина «Погребка» шли скверно и он люто ненавидел опасного конкурента. Получивший воспитание за границей, он усвоил массу утонченных штучек, которые Асканий, на первых порах не чуждый учебе, перенял у него и которым затем обучил свою прислугу.
Сегодня «Городской погребок» с удовольствием раздавил бы соперника последними вестями, если бы заранее знал о его приходе, но по телефону ему только сказали о двух анонимных господах; обед для них был готов, и изменить что-либо было уже нельзя, так что приходилось мириться с неизбежным.
Асканий был возбужден, кичлив, задирист, говорил громко и как бы без стеснения.
– Масло! Да это ж наполовину маргарин! За такое положено штрафовать или сажать в тюрьму! Ну ладно, мы люди не гордые. Хлебная водка? Да ее же гнали из картошки… я знаю, у нас ее продают за хлебную, но, скажем, в Германии она считается подделкой… Херес по три кроны и пятьдесят эре, – продолжал он, – когда это всего-навсего марсала ценой в полкроны. Шамбертен, а точнее, бон… ну, это еще куда ни шло, пить можно… Молодой картофель… хотя на самом деле он старый… бекасы, иначе именуемые дроздами-рябинниками, и так далее в том же роде…
Хозяин «Погребка» на протяжении всего обеда не выходил из-за стойки; он то надувался, то съеживался, то шипел от злости, но в любом случае молчал. Он прекрасно знал, почему молчит, причем присутствие при этом шквале критики адвоката внушало ему особые опасения.
После обеда господа удалились в специальную комнату для кофе, голую, неуютную, со слишком высоким потолком и слишком большим количеством дверей, – обычную жилую комнату, приспособленную под кофейню. Асканий и тут не унимался с критикой, но потом, когда им подали заказанное, предложил выпить на брудершафт, правда честно признавшись, что побудили его к этому соображения удобства: так проще разговаривать. А потом пошло-поехало.
– Ты, братец, ничегошеньки не знаешь, – приступил к рассказу Асканий, радуясь тому, что сам преподносит удивительные вести, – только пока ты пребывал в своем любовном угаре, тут под шумок происходило много всякого… Представь себе: этот отъявленный негодяй дал в газету материал для заметки «Секреты кухни», в которой, пусть и обиняками, указывает на меня. Вот почему я сегодня столько наговорил в ответ. Но теперь кое о чем еще.
Асканий встал и вместо продавленного кресла перебрался на высокий стул, поскольку ему хотелось возвышаться, доминировать.
– Этот отъявленный негодяй из чистой зависти попытался воздействовать на компанию, чтобы она отняла у меня право торговать спиртными напитками. Можешь себе вообразить?!. Три дня я прожил в страшном неведении; обращался к бургомистру, к секретарю губернского управления, наконец, к самому губернатору… и добился того, что права мне оставили… Но, дабы пресечь дальнейшие поползновения, дабы не предпринималось новых попыток в том же направлении, я… придумал… потрясающую… штуку… Конечно, это может показаться смешным… – Асканий горько усмехнулся над самим собой и продолжил: – Я… придумал… потрясающую… штуку… которая, как я сказал, раз и навсегда пресечет новые попытки в том же направлении. Когда-то, давным-давно, это было на пароходе между Килем и Корсёром, что совершенно не важно, один чудак захотел поубавить мне гонору, так я ему ответил…
Видимо, теперь этот ответ показался Асканию менее убийственным, чем представлялся тогда, поэтому он, учуяв возможное фиаско, прервал свои воспоминания и повел рассказ дальше.






