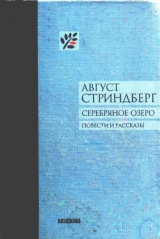
Текст книги "Серебряное озеро"
Автор книги: Август Юхан Стриндберг
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 16 страниц)
Поначалу добросердечная официантка воспринимала отверженного с сочувствием, хотя отнюдь не гордилась его вниманием к себе, иногда Карин даже оскорбляло, что он принимает ее сочувствие за симпатию, и в таких случаях она некоторое время старалась держаться подальше. Либоц же, у которого не было ни малейшего опыта в этой сфере, довольствовался старомодными представлениями о женском притворстве и способности скрывать свои чувства, а потому принимал ее приступы застенчивости за простое кокетство. Зато ее душевность, продиктованную на самом деле тем, что девушка считала его неопасным, адвокат воспринимал как явный шаг навстречу, а потому и сам осторожно пошел на сближение. Однажды ему захотелось выказать большую по сравнению с другими обходительность и подчеркнуть, что уж он-то умеет ценить чужой труд, и тогда он выложил после обеда не десять эре, которые в этом заведении принято было оставлять на чай, а целых двадцать. Карин не поняла его замысла и отбросила вторую монету, коротко обронив: «Хватит и одной».
Пристыженный, Либоц ушел бродить по горам. Он не мог объяснить собственного поступка, оправдать свою бестактность; он совершил глупость… и в присутствии женщин вообще творил одни глупости.
На следующий день адвокат чувствовал себя крайне неловко, и заметившая это Карин постаралась дружелюбно успокоить его. Либоц попробовал преподнести ей на день рождения цветы, и эта попытка была воспринята благосклонно. Ведь его дар состоял из вещей, не входивших в систему купли-продажи и потому не имевших очевидной ценности.
В конце концов Либоц нашел общий с Карин интерес, который мог бы способствовать взаимному сближению, поскольку в трактире сколько-нибудь долгие беседы были нежелательны. Оказывается, девушка любила пешеходные прогулки и за пределы города предпочитала ходить скорее в компании, нежели одна, – чтобы не привлекать внимания неотесанных мужланов.
Прогулку назначили на утро воскресенья, причем встретиться они договорились, дабы не давать повода к сплетням, уже за городом, после заставы. Карин явилась прихорошившаяся, миловидная, и они тронулись в путь по весеннему ландшафту. Разговор потек легко, ведь тут он не прерывался ни заказами посетителей, ни указаниями хозяина. Либоц шел рядом с тропой, по склону (чтобы удобнее было смотреть в лицо своему предмету), отчего походка у него была самая нелепая, речь – запинающаяся, а фигура – перекошена в одну сторону. Всякому его всплеску эмоций Карин противопоставляла некоторый скепсис, а чтобы сразу обозначить дистанцию, стала в шутку называть Либоца дядюшкой.
– Неужели я такой старый? – посетовал застенчивый адвокат.
– Я об этом не задумывалась, – уклончиво ответила девушка.
И они зашагали дальше, держась, однако, к горе Фавор [60]60
Согласно церковному преданию, эта гора в Палестине, неподалеку от Назарета, считается местом Преображения Господня.
[Закрыть].
Куда-куда, а на эту гору Либоцу меньше всего хотелось идти даже с Карин (не говоря уже про кого другого), поскольку там он пережил немало тяжких минут, борясь с Господом и прося даровать ему силы, чтобы нести свою непростую долю. Он попробовал было увести их предприятие в противоположную сторону, но девушка была настроена идти только на ту гору. Не имея иного способа завоевать благорасположение Карин, кроме как исполнить ее волю, адвокат подчинился.
Беседу же Либоц старался направить таким образом, чтобы вызвать недовольство девушки своей жизнью, – тогда предложение выйти за него замуж было бы воспринято как обещание свободы и независимости.
– Не трудно вам с утра до вечера, без малейшего роздыху, прислуживать в харчевне? – спросил он, претендуя на утвердительный ответ.
– Да нет, – отозвалась Карин. – Мне нравится моя работа, к тому же она дает мне кусок хлеба.
– Оно, конечно, так, и все же каждому хочется иметь что-то свое.
– Свое? Да разве бывает что-нибудь совсем свое?
И она принялась, напевая, прыгать через канаву и собирать цветы.
Вся тактика адвоката, надеявшегося отыскать точки соприкосновения, зашла в тупик: похоже, их объединяла исключительно любовь к прогулкам.
Впрочем, способность Либоца выбирать для разговора самые небезопасные темы была поистине безгранична. Стоило им присесть на обочине, как он завел речь о супружеской жизни брата и о невестке, которая со временем приучилась к порядку.
– Дело в том, фрекен Карин, – разглагольствовал он, – что в браке должен быть порядок, иначе из него не выйдет ничего путного. Сразу после женитьбы у брата была масса сложностей, и однажды, когда невестка принялась мне жаловаться, какой у него сварливый характер, я ей и говорю: «У сварливого мужа обычно нерадивая жена… Будет у тебя обед готов вовремя, всю его сварливость как рукой снимет». И представьте себе, фрекен Карин, когда она стала следить за временем, Адольф сразу подобрел. Ну не логично ли?
Карин выпучила глаза и сделала совершенно тюлений выдох с закрытым ртом, пытаясь выпустить смех через ноздри, но этих предохранительных клапанов оказалось недостаточно, и она расхохоталась. Бедный Либоц было тоже засмеялся, однако, смекнув, в чем дело, едва не расплакался.
– Над чем вы смеялись? – наконец осведомился он, вызвав новый взрыв хохота. – Я сморозил какую-нибудь глупость? – не унимался Либоц, вовсе портя дело.
Впрочем, смех Карин над его тайными замыслами напугал простосердечного адвоката, и он, чувствуя ее вероломство и враждебность, невольно замкнулся в себе.
Интересно, что стоило ему отдалиться от девушки и напустить на себя холодность, как в нем опять пробудилось достоинство, которое оказалось выигрышным для него в глазах Карин, так что она прониклась уважением и, заметив, что адвокат сохраняет дистанцию, захотела сократить ее, снова пойдя на сближение. Либоц оставался холоден и, при всем внешнем дружелюбии, сдержан. Когда они в конечном счете достигли горы, он помрачнел и, взяв презрительно-неприступный тон, стал вести туманные речи о людском жребии и жестоких законах жизни, неподвластных чьему-либо пониманию. Карин прониклась восхищением, ибо ей не приходилось еще лицезреть этого скромного человека таким. Не наблюдая его в суде или за другой работой, она привыкла видеть лишь глупую физиономию с дурацкой улыбкой, которую обычно обращает к женщине всякий мужчина.
Теперь они шли по плоскогорью, где Либоц давно уже проторил тропу среди лишайников и мхов. Ему вспомнились темные ночи, когда он забирался сюда один и выпрашивал у неба сил нести свой крест. Адвокат обнажил голову и, отойдя на несколько шагов в сторону, предался размышлениям. Он вновь проникся сознанием немилости, которая правит его судьбой, и, поскольку впереди ему мерещились еще горшие страдания, молил о том, чтобы его миновала чаша сия, – впрочем, без большой надежды. Молитва заняла всего несколько мгновений, после чего Либоц как ни в чем не бывало повернулся к девушке со словами:
– А теперь давайте вернемся, но уже другим путем… Терпеть не могу плагиата!
Временами адвокат забывал, что у Карин другой уровень образования, и, сугубо по недомыслию, употреблял чужеземные слова. Она же ни разу не попросила объяснения, напротив, делала вид, будто понимает их, и даже смеялась невпопад, считая, что за иностранными словами скрывается какая-то шутка, которую невозможно передать на родном языке.
С горы виднелись шпили городских церквей, на которые и взял курс Либоц, скомандовав: вперед! Он пошел напрямик, прокладывая маршрут через канавы и овраги, через луга и поля. Карин не захотела ударить в грязь лицом, а потому припустила следом.
Только когда они попали в высокие заросли вереска и водяники, девушка замедлила шаг, объяснив, что боится змей.
– Значит, Карин, вы родом не из деревни. Тут змеи не водятся.
Этот героизм восхитил ее более всего остального, и она уже без малейших колебаний последовала за своим провожатым.
Вот они добрались до огороженного пастбища, где кормилась скотина. Тут мужество снова изменило Карин, но адвокат только бросил: «Идите следом» – и, подобрав с земли палку, двинулся сквозь стадо; сначала оно даже рассеялось, хотя вскоре любопытство взяло верх и животные поворотили назад.
– Бык! – вскрикнула Карин, но Либоц только рассмеялся: в стаде были одни коровы.
И все же, когда любопытный скот сгрудился вокруг, Карин подскочила к адвокату и кинулась ему в объятия.
– Спокойно, дитя мое, – сказал тот, – не бойтесь. Абсолютно ничего страшного!
Разумеется, влюбленному следовало бы воспользоваться моментом и предложить девушке свою поддержку и защиту на всю оставшуюся жизнь, однако сближение произошло слишком быстро, так что Либоц предпочел завоевывать то, что почитал бесценным, постепенно.
Когда они дошли до болота, Карин захотела обойти его, но влюбленный не собирался отступать: он жаждал насладиться своим триумфом до конца.
– Никаких обходов! – провозгласил он и, легко, как ребенка, подхватив девушку на руки, поскакал с кочки на кочку.
Теперь-то адвокат запросто мог потребовать или словить поцелуй, однако он был слишком застенчив и хотел, чтобы плод созрел на ветке, а потом сам упал ему в руки.
У заставы Либоц снял шляпу и элегантно распрощался, объяснив, что не хочет компрометировать девушку, идя с ней вместе по городу. Карин не поняла слова «компрометировать», но сообразила, что он имеет в виду что-то хорошее для нее.
Оставшись один, адвокат почувствовал в себе непривычную силу и спокойствие, ему показалось, что он довольно-таки преуспел в своем ухаживании, более того, Либоц был теперь настолько уверен в ее чувствах, что пожалел о несорванном поцелуе.
– Как смешно, – рассуждал он сам с собой, – что самое большое впечатление на нее произвели коровы! Ох уж эти городские женщины, хуже малых детей…
После обеда он пошел на вечернюю службу в церковь, где приветствовал Карин кивком, словно они уже были накоротке.
Но за ужином у Аскания, к удивлению Либоца, ему прислуживала другая девушка. В новом расположении духа у адвоката нашлось довольно храбрости, чтобы справиться о Карин у трактирщика.
– Она сегодня в театре, – помявшись, ответил тот.
– Что вы говорите!
Тогда Асканий наклонился к Либоцу и, по обыкновению тактично, прошептал:
– Негоже играть с девичьими чувствами.
– Я вовсе не играю! – воскликнул адвокат, причем таким тоном и с таким взглядом, каких трактирщик за ним не знал. Устами Либоца впервые говорил мужчина, влюбленный и уверенный в своих силах, и это настолько потрясло Аскания, что он в испуге отшатнулся.
Либоц тут же пожалел о своих словах, поскольку не привык быть с кем-либо резким, но, заметив, что трактирщик не огорчен и не рассержен, а, напротив, стал еще любезнее, с горечью подумал:
«Странный народ эти люди… Они добреют к тебе, если их бить и кусать. В любом случае они жалки, и я их не понимаю».
После ужина Асканий предложил Либоцу выпить с ним рюмку-другую в павильоне на берегу реки: они давно не болтали, а там, глядишь, подойдет и прокурор. Адвокат не видел к тому никаких препятствий, так что скоро оба уже сидели в павильоне под названием «Конфиденция», то бишь «Откровение». Обронив несколько предварительных фраз, Асканий перешел к основной теме:
– Сами понимаете, господин нотариус, выпить стаканчик, оно дело хорошее… Главное – чтоб не перебрать…
– Простите великодушно, но я никогда не перебирал, на меня возвели напраслину, – с новообретенным чувством собственного достоинства перебил трактирщика Либоц.
Трактирщик, однако, принадлежал к людям, которые, если у них создалось определенное впечатление, не приемлют не только поправок к нему, но даже каких-либо дополнительных сведений.
– Нет уж, позвольте, – ответствовал он, – позвольте мне договорить до конца…
И когда Либоц недовольно заворчал, Асканий снова вежливо прервал его:
– Позвольте договорить!.. Ну ладно, сделанного не воротишь, что было, то было…
– Да ничего такого не было!
– Позвольте, позвольте!..
Либоц позволил – и показал это, передернув плечом.
– …и наше дело – забыть о случившемся… Я уже забыл! Ваше здоровье, нотариус!
Либоц не поднял рюмки.
– Однако, – продолжал Асканий, – если человек совершил оплошность и нуждается в снисхождении… а снисхождение бывает нужно всякому из нас… это… отнюдь… не значит (тут он сменил темп на accelerando [61]61
Быстрее, ускоряя темп ( ит., муз.).
[Закрыть])… что-можно-черт-возьми-мгновенно-забыть-случившееся (пауза в полный такт)… которое всегда имеет свои последствия… Дело в том, господин нотариус, что люди – они навроде ткани, одна нить цепляется за другую, и стоит потянуть за одну петлю, как перекашивается вся основа. Я вовсе не утверждаю, что допущенная нотариусом оплошность…
– Да не допускал я никаких оплошностей, я просто был со своим несчастным пьяным отцом…
– …что эта оплошность совершенно непростительна, отнюдь нет, но ее последствия уж точно невозможно предугадать… Случилось так, что мой брат служит счетоводом у того самого графа, где управляющим числится ваш брат. Доброе имя всегда надежная порука, однако коли это имя вдруг оказывается запятнанным… Позвольте! Нет, позвольте мне договорить до конца!.. Уж будьте так любезны!.. Надо сказать, эта история с полицией крайне неприятно поразила графа, у него возникло отвращение к попавшей в газеты фамилии Либоцев, и он даже усомнился в благонадежности управляющего… не обессудьте, так пишет мой брат… Короче говоря, теперь граф требует у вашего брата, чтобы он, если хочет сохранить свою должность, представил поручительство.
– Почему же он сам не написал мне?
– Ну, это другой вопрос.
– Я знаю: с тех пор как я вместо нотариуса апелляционного суда стал адвокатом, брат презирает меня. Пока я служил в суде, а он был всего-навсего счетоводом в имении, брат любил похваляться мной, иногда даже выдавал за асессора. Но ходатаем по мелким делам не похвастаешься, так что ему пришлось дорого заплатить за свое бахвальство.
– Вы не находите, что это вполне естественно – гордиться успехами родных?
Оказалось, Либоц никогда не задумывался над этим, теперь же он действительно счел такую гордость естественной, а потому спрятал свой пафос в стакан с пуншем и залпом расправился с обоими.
– Но откуда брату взять поручительство? – выждав с полтакта, возобновил беседу адвокат.
– Видимо, придется…
– Не хотите ли вы сказать, что граф примет бумагу за моей подписью?
– Представьте себе, хочу. Если, конечно, там будет что-нибудь кроме подписи. Все-таки тот случай с полицией не имел касательства к денежным делам.
– Господин Асканий, в последний раз клянусь честью, что я невиновен.
– Право, не стоит обижаться, я вовсе не считаю некоторое подпитие…
– Да не был я ни в каком подпитии, не был, не был!..
– Ради Бога, перестаньте кричать, рядом полно народу, надо же хоть немного соображать, что вы делаете…
– Как бы то ни было, мой брат почему-то должен страдать за отца, а я – за них обоих…
– Сами видите, нужно соблюдать крайнюю осторожность в поступках, а уж нотариусу, который занимает определенное положение, и подавно следует быть осмотрительным, я хочу сказать, если человек плохо переносит спиртное, ему надо пить меньше других, бывают ведь такие, в которых влезает немерено, а потом ни в одном глазу, и они могут пить, сколько им заблагорассудится, это не важно, не имеет значения, никого не касается, все едино…
Увы, сам Асканий относился к той породе соплеменников, которая вовсе не переносит алкоголя. После двух стаканов пунша он был уже крепко навеселе, а после третьего – пьян вдребезги. Тут его потянуло на красноречие, и он принялся витийствовать, играя синонимами: он то беспричинно радовался, то впадал в уныние, выворачивал себя наизнанку и всякий раз восставал из могил прошлого в новом обличье, а в два часа ночи ошеломил Либоца признанием о незаконных сделках, за которые его можно было бы упрятать в исправительный дом. Вот, значит, чем объяснялась хваленая трактирщикова воздержанность: Асканиев организм на дух не принимал спиртного, и содержатель заведения страшился ночных часов, когда душа его раскрывалась наподобие книги и любой знающий грамоте волен был читать в ней всю подноготную. Сегодня в трактирщика словно вселился бес – Асканий очень давно ни с кем не разговаривал, и теперь ему необходимо было излить накопившееся за несколько месяцев красноречие. Тем временем подоспел и прокурор, так что трактирщик повторил принятое еще раз. Либоц же, которому наскучило слушать обвинения, собрался уходить.
Прокурор был из тех, кто может пить сколько угодно, а потому он постоянно находился в состоянии похмелья. После кутежа ночь напролет в нем нельзя было заметить нетрезвости, однако видом он напоминал каменную статую: лицо его костенело, глаза застывали в положении, при котором было не различить ни зрачка, ни радужной оболочки, всякая мыслительная деятельность прекращалась, язык казался пригвожденным к нёбу. Человек этот не выказывал ни малейшей симпатии или предвзятости к чьему-либо мнению, со всеми был одинаково ровен, холоден, сух. В компании прокурор говорил взглядами и наружностью, неизменно следил за беседой, подбадривал рассказчиков, отчего создавалось впечатление, будто он едва ли не хитростью заставляет других болтать без умолку, хотя сам ограничивался лишь изредка вставляемыми фразами вроде: «Совершенно верно!», «Могу себе представить!» или «Вы попали в самую точку, ваше здоровье!»
Асканий был в восторге от своего прокурора, поскольку склонен был превозносить окружающих до тех пор, пока они составляли его принадлежность… и прежде всего потому, что они составляли таковую. Прокурор был Совершенно Необыкновенным Человеком, обладавшим потрясающимисведениями обо всех сотрудниках судебного ведомства; у него был замечательныйталант к расследованию уголовных дел, и он был непревзойденнымсобеседником – тактичным, внимательным, интересным.Разумеется, настоящий прокурор ничуть не соответствовал такому описанию, но Асканию ничего не стоило творить гомункулов из полнокровных людей, а затем переделывать их по своему образу и подобию.
Прокурор Че́рне был долговязым, сухопарым мужчиной с крохотной головкой: казалось, что он, подобно созданному Господом змею, пролезет в любую дыру, если только сумеет просунуть в нее голову. Когда он вставал и тянулся через стол за спичкой, туловище его будто скользило по воздуху, а длиннющая рука пробиралась между бокалами и бутылками, не перевернув ни одного сосуда, при том что голова – от страха задеть свисавшую с потолка лампу – была задрана кверху и почти лежала на спине. Во всем остальном прокурор считался красавцем и пользовался успехом у дам, хотя по ряду причин никогда не хвастал им и даже не подавал виду. Как истинный Дон-Жуан, он не находил в этом успехе ничего примечательного, едва осознавал его, и, если кто-нибудь обращал на него внимание прокурора, краснел, словно уличенный в слабости. И все же судьбе угодно было внести определенную дисгармонию в его жизнь. Либоц, отличавшийся повышенной наблюдательностью, заметил, что Черне никогда не упоминает женщин и особенно демонстративно молчит, когда заходит речь о разводе или безнравственности. Прокурор считался сыном известного в городе человека, покойного члена магистрата, который потом расторгнул свой брак, но Черне был настолько похож на одного видного офицера, что незнакомые люди часто безо всякой задней мысли спрашивали, верно ли угадали его фамилию: не иначе как она кончается на «круна», а? Черне не мог разобраться в этой путанице, пока не начал муштровать ополчение и безжалостные товарищи не стали обращаться к нему по фамилии ротного командира. Тут только он все понял – и с тех пор навечно похоронил воспоминания о матери, ни в чем, впрочем, не обвиняя ее и не судя. Итак, он оказался лишен самого дорогого из наследств – безупречного происхождения, а потому рано причислил себя к круглым сиротам. Люди осведомленные избегали касаться его раны, тогда как непосвященные чужаки то и дело бередили ее. Скоро обнаружив, что тебя оставляют более или менее в покое, если ты оставляешь в покое других, Черне удерживался от соблазна навязчивости и слишком откровенных разговоров в компании. На службе же или с глазу на глаз с кем-либо прокурор был менее прихотлив, хотя и тут проявлял боязливость, по опыту зная, с каким дьявольским коварством человека иногда пускают по ложному следу. Посему он никогда сразу не выдвигал обвинения, а лишь «нацеливался» на подозреваемого, давая судье возможность провести тайное дознание, чтобы уж потом обвинить. Но он прислушивался к тому, что происходит вокруг, и, если в компании случался говорун, прокурор сидел с раскрытым ртом, навострив уши и словно делая заметки. Он понукал рассказчика односложными выражениями одобрения вроде «Что вы говорите!» либо наводящими вопросами, которые, однако, не выдавали его любопытства. Казалось, он просто интересуется всем и всеми, совершенно забывая о себе и словно переставая существовать.
Асканий принял прокурора как адепта, как человека, пришедшего послушать мудрые речи.
– Ты, видимо, после ужина… Тогда садись и выпей с нами в этот чудесный летний вечер… тем более что в реке уже появились раки и скоро я приглашу вас всех на пир, а пока что…
– Неужели раки?.. – встрял прокурор, но даже не потрудился закончить фразу, поскольку знал, что его все равно прервут.
– Разумеется, нет, – поспешил не обмануть его ожиданий адвокат, сам думая в это время о брате и поручительстве, которое обязан дать за него.
Трактирщик между тем уловил, что его слушатели иссякли, тогда как сам он испытывал сегодня потребность проявлять себя с наилучшей стороны, вызывать интерес и восхищение, а потому привычно начал со своего коронного номера – рассказа о том, как не кто-нибудь, а он пел в Версале перед императором Наполеоном, и предварил историю описанием фонтанов, каждый день работы которых обходится французской казне аж в тридцать тысяч франков. Асканий обрисовал фонтаны с такими подробностями, словно его собеседники слышали о них впервые в жизни, причем самое смешное было то, что и адвокат, и прокурор тоже посещали Версаль и видели сие чудо собственными глазами, однако же не осмеливались признаться в этом Асканию, поскольку тот все равно не поверил бы – или посчитал бы их грабителями, которые вознамерились отнять принадлежащее исключительно ему добро.
Оба соумышленника лишь изредка обменивались взглядами, после чего Либоц возвращался к исчислению суммы поручительства, но стоило адвокату потупиться, как его выводил из раздумий трактирщик, на датский манер требовавший внимания фразой: «Вы следите за моей мыслью?» Тогда Либоц снова поднимал голову, хотя взор его оставался отрешенным, поскольку он продолжал в уме свои подсчеты.
Тем временем Асканий совсем запутался в фонтанах, отметил, что у него барахлит память, и принялся рассуждать сам с собой о том, какой фонтан наибольший:
– Постойте, я, кажется, сказал «Диана»… нет, не «Диана», а этот… как его… – Он постучал себя пальцем по лбу. – Какой же, черт возьми?
Либоц, принявший этот риторический вопрос за обычный, вышел из забытья, чтобы ответить:
– Самый большой фонтан «Нептун».
– Ничего подобного, вовсе не «Нептун»…
Тут прокурор позволил себе неслыханную дерзость, сказав:
– Самый большой действительно «Нептун», я его видел и помню.
Это не лезло ни в какие ворота, поэтому Асканий счел прокуроровы слова дурной шуткой и продолжал:
– Подобные фонтаны, господа хорошие, можно увидеть разве что в Санкт-Петербурге… Вы бывали в Санкт-Петербурге? Нет?! Что вы говорите?.. А в Шёнбрунне? Тоже нет?! Ай-ай-ай, ничего великолепнее вам не увидеть за всю свою жизнь. А уж в Версале, судари мои, и подавно должен побывать каждый, так что когда-нибудь и вам надо сорваться с места и… пейте меньше пунша, копите, скряжничайте, сколачивайте деньгу, приговаривая: пусть я буду скупердяем, пусть я стану отказывать себе в самом необходимом, но я должен перед смертью побывать в Версале… Можете взять почитать бедекер, у меня два экземпляра, один на французском, другой на немецком, а съездить туда стоит двести франков, что составляет сто пятьдесят крон…
– Точнее, сто сорок! – вмешался прокурор, который не мог больше выносить трактирщиковой надменности.
– Позвольте! Нет уж, позвольте мне договорить до конца!..
– Да будьте любезны!
– Так вот, господа, пока мы пели для императрицы… а она, надо вам сказать, была по случаю нашего посещения в парадном сине-желтом платье, которое очень ей шло… тут входит император!
На самом деле трактирщик с юношеских лет презирал человека, который был известен как Сфинкс, Баденгэ и под прочими кличками [62]62
Имеется в виду Наполеон III (1808–1873), которого действительно называли «Сфинксом с берегов Сены» и Баденгэ (последним прозвищем он обязан каменщику, в одежде которого в 1846 г. бежал из тюрьмы).
[Закрыть], однако после выступления перед французским императором резко переменил свое суждение. Теперь император стал для Аскания гением, величайшим политиком на свете и уж конечно замечательным полководцем, который вполне мог соперничать талантом с Величайшим из Великих [63]63
То есть с Наполеоном I.
[Закрыть].
Сегодня трактирщику недоставало отклика слушателей, отчего Асканий никак не мог войти в раж, так что велел подать шампанского.
Его жертвы сидели потные, раздавленные обрушившимся на них величием. Либоц, который не любил кого-нибудь огорчать, хотел поднять общее настроение, однако перевести разговор на другую тему означало бы нанести Асканию смертельный удар. И адвокат снова встрял с, казалось бы, совершенно невинным вопросом:
– А каким вы тогда пели голосом, господин трактирщик?
Асканий сделал вид, будто роется в памяти, прикинул, не лучше ли соврать, попробовал ложь на язык и, наконец, ответил – дипломатично и не слишком обидно, но все же так, чтоб неповадно было и дальше задавать столь наглые вопросы:
– Да будет вам известно, уважаемые господа, что в хорошо спевшемся мужском квартете всего один голос, да-да, один за всех и все за одного… И если вы имеете хоть малейшее представление о великом и многотрудном певческом искусстве, то должны знать, что в нем одинаково важны все голоса, независимо от того, называются ли они первым или вторым тенором либо первым или вторым басом.
Тут трактирщик несколько переборщил, и предлог, под которым он оставил собеседников в неведении о том, что был всего лишь вторым тенором, разозлил прокурора, издавна тоже певшего в квартете. Шампанское придало ему куражу, и, поскольку Черне не желал больше слушать поучений, он как бы между прочим сообщил, что в студенческом хоре исполнял партию первого тенора.
Последовала гробовая тишина, и в продолжение этой паузы Асканий боролся с самим собой, со своей гордостью, со своим чувством справедливости. Если он поднимет опасное яблоко раздора, он пропал, ведь, похоже, и Либоц готов взять сторону студенческого хора… Нет, он предпочел уклониться от сражения, дабы не отступить, пойти в обход, дабы не споткнуться.
– Бывает два вида пения, милостивые государи, – шепотом произнес он, – как бывает много разных вин, сигар, кушаний, ликеров, вы согласны? Так вот, бывает пение как искусство, или артистическое пение, и бывает пение естественное, безыскусное, вы следите за моей мыслью? Я, например, занимаюсь артистическим пением, и то же самое можно сказать обо всех музыкально образованных людях, к какому бы классу общества они ни принадлежали. Посему я, в виде достойного ответа на сделанное прокурором Черне не совсем уместное замечание, прошу вас поднять бокалы за… искусство!
– Браво! – вскричал прокурор, который был слишком ленив и падок до удовольствий, чтобы тратить порох на ссору, а потому с радостью воспринял предложенный старым безыскусным певцом тост за искусство, тем более что тот всегда обеспечивал его дармовой выпивкой.
Либоц провел рукой по лицу, стирая с него ухмылку, а заметив, что Асканий дошел до состояния полной глухоты и слепоты, оборотился к Черне и громко произнес:
– А он занятен, этого у него не отнимешь.
Время двигалось к полуночи.
– Поговорите о чем-нибудь приятном! – велел трактирщик, не столько потому, что ему хотелось послушать, сколько ради того, чтобы самому отдохнуть; после чего переменил позу, всем своим видом давая понять, что готов терпеливо и покорно выждать до конца разговора, между тем как сам перебирал в голове мысли, намечая, о чем будет его следующий рассказ.
Черне, хорошо знакомый с этой тактикой, повернулся к Либоцу и заговорил о Париже, причем адвокат охотно отвечал на его вопросы и дополнял его сведения.
Будь на месте Аскания обычный человек, он бы вслух удивился, что уважаемые господа, оказывается, тоже бывали в Париже, и, улыбнувшись по поводу того, какого свалял дурака, постарался бы шуткой вызволить себя из неловкого положения; но Асканий был человеком необычным, поскольку наряду с замечательными качествами обладал изрядной субъективностью, властностью и себялюбием. Он был центром этого тесного мирка голодных должников, живших за счет его благодеяний, а потому пение и Париж составляли его исключительную собственность: никто иной не имел права касаться их. Услышав, что его друзья видели Париж, о чем он, впрочем, знал и раньше, трактирщик хотел было вмешаться в их беседу с возражениями и поправками, но его остановила собственная гордость, так что он, шумно попыхивая сигарой и задыхаясь от напряжения, лихорадочно пытался найти новую тему для разговора, которая бы оборвала нить теперешнего.
Кто-то из расходившихся посетителей заглянул в окно, и Асканий, воспользовавшись случаем, встал и опустил штору.
– Мне кажется, пора занавесить окна, – объяснил он и, усевшись на место, спросил: – Не желаете ли поднять бокалы?
Прокурор залпом опустошил свой, однако не упустил нити разговора про Париж. Либоцу, этому другу всех людей, стало жаль томившегося смертной мукой Аскания, поэтому он прервал тираду Черне словами:
– Давайте выпьем за здоровье нашего хозяина.
Этот бокал оказался решающим: после него с действующими лицами начали твориться метаморфозы, какие опытные драматурги приберегают для четвертого акта. Прокурор сделался спесив, нагл и вызывающ и затеял с трактирщиком обсуждение Шекспира. Асканий не молчал в ответ, но разговор напоминал петушиную схватку – оба старались перекричать друг друга и ждали, когда кончит высказываться противник, не для того, чтобы отозваться на его слова, а чтобы продолжить плести свое.
Асканий даже не слушал прокурора и с омерзением отворачивался, пока тот говорил, как бы давая понять: ну-ну, пори свою чушь, сейчас я тебе задам.
Спор вышел на широкую дорогу цитат, коих Черне знал великое множество, тогда как у трактирщика была в запасе всего одна и он готовился пустить ее в дело, когда наступит подходящий момент.
– Нет, – кричал прокурор, – вот поистине великие слова, и их произносит Макбет:
– Фи! – прошипел Асканий. – Куда благороднее и глубже сказал то ли Отелло, то ли Гамлет… сейчас, минуточку…






