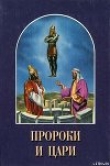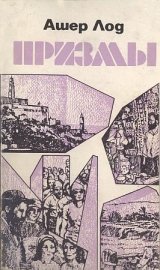
Текст книги "Призмы"
Автор книги: Ашер Лод
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 12 страниц)
Мегед поднял трубку и набрал указанный номер, чтобы тотчас покончить с делом. От одного утверждения о превосходстве над двумя знаменитейшими музеями несло мистификацией или просто старческим бредом, но этим не ограничивались странности письма. Написанное на превосходном, но чрезвычайно высокопарном английском языке, оно было увенчано вензелями, обрамлявшими герб с духовным стихом на иврите. Стих был подписан именем "Иоханан бен-Давид", в подписи под текстом значилось "профессор Иохана бен-Дауд". Между тем женщина, ответившая на звонок Мегеда, говорила на кокни – диалекте лондонского простонародья. Мегед приготовился услышать, что ошибся номером, но вместо этого услышал, что профессора она давно не видела. Профессор болеет. Лежит, возможно, дома или увезен в больницу.
Прошло две недели, прежде чем заинтригованному Мегеду ответил сам старик. Нет, нет, он сейчас никого не принимает по причине нездоровья. Да, да, позвонит как только поправится.
Чем больше дней проходило без обещанного звонка, тем нетерпеливее поглядывал Мегед на телефон. Наконец он не выдержал и без приглашения поехал по указанному адресу. Хайгейт. Лондонский рабочий квартал. Трехэтажный дом, выщербленный и покрытый копотью, стоял в длинном ряду своих кирпичных двойников, облитых мокрым туманом. Встреченная Мегедом босая девчонка с нечесанными волосами отправила его на второй этаж. Никто ему не открыл. На третьем этаже два веселых студента, помахивая жестянками пива, сказали, что за профессором Даудом снова приезжала машина скорой помощи и увезла его в больницу.
Мегеду начали мерещиться шерлок-холмсовские сюжеты. Стиль письма, с одной стороны, лондонские трущобы и туман – с другой много тому содействовали.
К розыскам таинственного профессора подключился приехавший в Лондон нумизмат израильского музея. Тот нашел больницу, куда увезли старика, съездил к нему раз, другой, третий, и наконец сообщил, что выудить что-нибудь у Иоханана бен-Давида, он же профессор Иохан, он же Бен-Дауд, о его собрании невозможно. Нельзя понять, его коллекция реальность или фантазия. Скорее фантазия. Хотя одно бесспорно: старик знает толк в том, о чем он говорит.
На дворе стоял уже проливной лондонский ноябрь, когда в квартиру на втором этаже кирпичного дома в Хайгейте вернулся ее обитатель. Он будет счастлив принять у себя дипломатического представителя Государства Израиль, сказал старик по телефону. И принес витиеватые извинения по поводу того, что не сможет оказать гостю подобающего приема, ибо прикован к постели.
Войдя в квартиру, Мегед увидел высокий потолок в паутине и огромную железную кровать с пледом, торчавшим из-под старых газет, накиданных на постель целыми пластами. В комнате было холодно, как в карцере. У изголовья на табуретке стояла пустая бутылка из-под молока и блюдце с заплесневевшей простоквашей. Рука, лежавшая на газетах, казалось, принадлежала скелету. Затем Мегед разглядел запавшие щеки и провалившийся рот. Комната с ее обитателем оказалась даже не конан-дойлевской, а диккенсовской.
Старик отклонил предложенную ему помощь и попросил перейти к делу. К условиям, на которых он хочет преподнести Израилю свой дар. Да, он ставит некоторые условия и просит учесть, что коллекции нет цены. Номинальная стоимость? Несколько десятков миллионов фунтов стерлингов.
Мегед снова покосился по сторонам. Два ветхих шкафа, между ними дверь на ржавом засове. За ней, что ли, эти миллионы?
Как только старик заговорил о своем собрании, его потухшие глаза заблестели. Приподнявшись с грязной подушки, он хвастал перед гостем и даже торжествовал, но все как-то с горечью, с какой-то мрачной обидой.
От Диккенса мы перешли уже и к Мольеру, подумал Мегед. Скряга, пожалуй, почище мольеровского. Если, конечно, в его излияниях содержится хоть крупица истины.
Не веря во всю эту затею, посольство все же составило контракт. По крайней мере, условия старик поставил вполне разумные. Перевозка коллекции за счет Государства Израиль. Квартира в Иерусалиме. Пенсия. А также секретарша для составления описи предметов. Юрист посольства написал черновик и пошел показывать английскому коллеге. "Превосходно", – зарокотал знаменитый сэр Готхарт, крупнейший лондонский специалист по наследственным делам. – Одно "но": законы Британии запрещают вывоз предметов искусства, созданных более ста пятидесяти лет тому назад. После смерти владельца таковые автоматически поступают во владение английской короны, если они не завещаны родственникам покойного".
– Но не падайте духом, – усмехнулся английский адвокат. – Наш кодекс не вхож в ваше посольство. За вами права экстерриториальности. Вы можете беспрепятственно отправить ваш дар в Израиль – но только с территории посольства, разумеется. Надеюсь, вы меня поняли?
Понять-то израильский юрист понял, но профессор Дауд теперь перестал спешить с дарственной. Высохшая рука хватала перо и сердито его отбрасывала, словно ее приводили в движение две противоположные силы. Между тем старика перевезли за счет посольства в респектабельный лондонский дом для престарелых, где его впервые за много лет помыли и накормили горячей пищей. Молодой киббуцник, приехавший из Израиля учиться в одной из школ медицинского массажа, взялся разминать старику позвонки и через неделю объявил в посольстве, что там даже не понимают, что за человек этот старик.
16 января 1969 года Иоханан бен-Давид, он же Иохана бен-Дауд, скончался. У него были жена и дети, с которыми он давным-давно порвал всякую связь. Он не числился в списках общины лондонских сефардов, в синагогу общины никогда не ходил и никакого участия в ее делах не принимал. Община от него отказалась, и за гробом никто не шел, кроме трех израильтян: писателя, нумизмата и массажиста. В вещах покойного нашли записку к послу Израиля: "Спасите, умираю!"
Ну, а клад?
За несколько дней до смерти старик все-таки подписал и дарственную, и доверенность работникам посольства на изъятие коллекции из квартиры. В двух шкафах оказались восточные безделушки да сувениры небольшого достоинства. Чтобы сбить засов с двери во внутренние помещения, понадобился слесарь. Там, в тучах известковой пыли, из ящиков, шкафов и сундуков посыпались завернутые в ветошь сокровища.
Все, что значилось в письме и что утверждал на словах старик, было чистой правдой: полотна, написанные в Персии, Индии, Турции и Афганистане триста-четыреста лет тому назад; драгоценные восточные миниатюры; редчайшие инкунабулы и манускрипты на персидском, арабском и иврите; гобелены и ковры, монеты и медали, кинжалы и сабли, щиты и кольчуги. Восточный фаянс, блистающий изумрудом и ультрамарином, слоновая кость, медь и серебро замечательной чеканки.
На всякий случай Мегед с товарищами приехали на двух посольских машинах. Потребовался еще и грузовик. Полтора дня пришлось работать, чтобы вывезти клад из продутого холодными ветрами Хайгейта.
Внизу на первом этаже нашли личный архив покойного. О, в какой благополучной семье родился и как увлекательно – если, конечно, не считать старости – прожил он свою жизнь! От лиц на ранней семейной фотографии, сделанной в Тегеране, веет спокойствием, богатством и превосходнейшим положением. Как можно себе представить, что самоуверенный юноша в черном сюртуке и белой манишке кончит свои дни без единой родной души и не к кому будет обратить свой последний крик, кроме посла Израиля... А ведь в Кембридж, который он окончил, его рекомендовал не кто иной, как сам вице-король Индии лорд Керзон. В первую мировую войну молодой специалист по искусству ислама служил в британской разведке. Он чувствовал себя своим человеком в Европе и в странах Востока, знался с принцами и магараджами и, одержимый страстью, покупал и приобретал.
В зависимости от обстоятельств он менял имена, подписывался то "Иохана бен-Дауд", то "Мирза Дауд", то "Иоханан бен-Давид". Он не верил в Бога, не был сионистом, но в письмах цитировал Талмуд и рассуждал о еврейском государстве. Весь он состоял из противоречий. Богатый как Крез, еще задолго до того, как кончить жизнь в нищей комнате, он из скупости вел счета на полях газет, салфетках и квитанциях. И при этом, как выяснилось, еще в 1926 году отвалил Еврейскому университету в Иерусалиме тысячу томов гебраики и с полета персидских и арабских манускриптов. Нет, он не жил в Израиле – Израиль жил в нем. Колол вечной занозой.
Я рассказываю эту историю, напечатанную в газете "Йедиот ахаронот" пятнадцать лет спустя встречи Аарона Мегеда с Иоханой Даудом, не из-за сходства ее фантастического героя с героями Диккенса или Мольера.
Зигзаги его жизни и его души не потому заслуживают описания. Они проходят через весь галут, через всю упорную любовь евреев к чужбине и всю их смиренную тоску по родине.
Поэтому, мне кажется, фигура нищего Креза и щедрого скупца много значительней даже его замечательной коллекции.
Мещанство во дворянстве
Речь пойдет о явлениях, на мой взгляд, присущих национальному облику Израиля, и наоборот, заимствованных в ущерб национальной самобытности. Хотя последние, вероятно, неизбежны у малых народов, над которыми простирается тень сверхдержав. Над одними – в форме штыка, над другими – мешка с чужим золотом.
Старый эрец-исраэльский писатель Ашер Бахар оставил прелестное описание Тель-Авива эпохи первой мировой войны. Дома, словно прямиком перенесены из Киева и Самары на пески Ближнего Востока. Отцы первого в мире города, заговорившего на возрожденном иврите, рядят и судят на своих заседаниях по-русски. Пьют чай внакладку и вприкуску, разумеется, из самовара. Самовар раздувает сапогом рыжебородый сторож городской управы Тель-Авива – крестьянин Смоленской губернии, принявший еврейскую веру и еврейское имя Авраам.
Не только бытовая, но и вся идейная сторона строительства национальной жизни испытала на себе в предгосударственный период сильнейшее русское влияние. Чтобы описать его, нужны тома. Нашелся, правда, остряк, который сказал об этом в двух словах: большевики пошли брать Зимний, а меньшевики уехали в Палестину. С тех пор и в мире, и в молодом израильском обществе произошли радикальные изменения. После второй мировой войны, в 50-е годы Израиль отрезало от России, словно акушерскими ножницами. Вырвавшись из орбиты одной сверхдержавы, малые страны тут же попадают в поле притяжения другой. Однако в короткое переходное время Израиль успел заложить фундамент независимой национальной культуры. Он успел приобрести то лица не общее выражение, без которого извечная мечта евреев о собственной стране потеряла бы смысл. Успел приобрести иногда прекрасные, иногда уродливые, но свои черты. Наше небо и наше болото. Но и над нами простирается великодержавшая тень. Еще слава Богу, что не в форме штыка.
На американские вывихи, последовавшие за российскими, тоже нужны тома, а у меня считанные страницы. Поэтому возьмем наугад израильскую газету. Среди реклам вы тотчас найдете израильское молоко под английским названием "йогинг", напечатанным литерами возрожденного иврита. Затем в глаза полезут еврейские куры по имени "америкен чикен", за ними сыпется горох "санфрост" и тает мороженое "сноукрест". Хотя горох, куры и прочие цыплята выращены не в Аризоне, всем им так импонируют американские титулы, что стоит возвести родную израильскую курицу в "америкен чикен", и она надуется, как индюк.
Мелочь, конечно. И объявление о премьере "Оклахомы" в тель-авивской опере, соседствующее с пожеланием Тель-Авиву обзавестись консерваторией не хуже нью-йоркской школы Джульярда – тоже мелочь.
Благое пожелание. Но когда далее газета вам предлагает статью о пяти самых богатых семействах Америки, а на десерт – портрет доблестного американского боксера по кличке "Шугер", что, как известно, значит "сахар" – это уже не сахар.
На что надеешься, когда читаешь, слышишь и видишь вокруг себя все это мещанство во дворянстве? На то, что ничто не вечно под луной. На то, что в этом мире все возвращается на круги своя.
Смешная история случилась недавно. На Беер-Шеву, абсолютно не по сезону, обрушился с неба потоп. Город оказался по колено в воде. Но буквально в трехстах метрах от него лишь слегка покропило. В Беер-Шеве выпало сорок миллиметров осадков, в то время как за ее окраинами едва набралось миллиметров шесть, сообщил по радио дежурный метеоролог. И добавил: "Такое явление описано еще в Книге пророка Амоса, глава четвертая, стих седьмой. Там сказано: "За то Я проливал дождь на один город, а на другой город не проливал дождя. Один участок был напоен дождем, а другой, не окропленный, засыхал".
Вот тебе и израильский метеоролог! Он, может, и клюет на "америкен чикен" – но только пока небо не разверзлось. Тут наш метеоролог вспоминает не американского президента, изобретателя громоотвода, а своего древнего предка – пастуха.
Дождь
В Европе говорят о погоде, когда больше говорить не о чем.
В Израиле погода – будь то жара или дождь – вытесняет с первых газетных полос как местные, так и международные сенсации.
Выпавшие на прошлой неделе осадки заслонили собой главную новость – об очередной судороге международного страха перед террором, замешанном на нефти. Отказ Мексики впустить к себе шаха ушел в тень, освободив центральные колонки отчетам о дожде.
"Мощный паводок, хлынувший с гор в результате ливня, едва не унес пикап с пассажирами в пропасть, – живо писал репортер "Йедиот ахаронот", не жалея красок и явно радуясь такому неуемному могуществу стихии. – Машина, затопленная выше руля, неслась к обрыву. На счастье, рядом оказался автобус, которым управлял Иоси Амитай из мошава Хамра. Он успел встать между пикапом и краем пропасти.
Стихия, между прочим, явилась к нам из Советского Союза. Накануне синоптики рассказали по телевидению о перемещении холодных воздушных масс, движущихся в наши края из России через Турцию. Никто не придал этому особого значения: от СССР никогда не приходится ждать ничего хорошего, а от Турции в лучшем случае теперь можно ожидать, что она не слишком заразится от Ирана. Ноябрь заканчивался в Израиле под небом синим, как фаянс мечети в Мекке, захваченной группой правоверных, как утверждает Хомейни, по наущению еврейских сионистов и американских империалистов. На телеэкране после новостей, посвященных белобородому заклинателю змей, поймавшему американских дипломатов в мешок, пошел и другой животрепещущий сюжет: обмельчание Кинерета. Три метра ниже оптимального уровня воды.
На экране водозаборные трубы на берегах озера – главного израильского резервуара пресной воды – лежат, как рыбы, выброшенные на песок. Вода ушла на 15-20 метров от пересохшего зева каждой трубы. Жара 25 градусов по Цельсию, а на дворе конец ноября. Сварщики срочно приваривают к трубам новые звенья. Кто-то не растерялся и сообразил развести на песке обнажившегося дна пышный огород. Показывают обмелевший Иордан в том месте, где он впадает в Кинерет. Из-за прошлогоднего зимнего бездождья река принесла в Кинерет вместо обычных 800 тысяч кубических метров воды только половину. Показывают рыбака в лодке. Рыбак рассуждает: "Что может спасти положение? Одно лишь чудо". Он улыбается. Он невозмутим. Кажется, есть от чего прийти в отчаяние, но Израиль вообще стоит на чуде. Дожди? Бог посылает Израилю дожди.
И не просто посылает дождь – Он палит им, как из пушки. Именно этот образ заключен в ивритском слове "йоре" – "палящий", которым в древности евреи называли и первый зимний дождь, и весь начальный период зимних дождей. Мы еще увидим, насколько точно и емко это древнее название. Однако прежде всего оно верно в том смысле, что в стране с палящей жарой должны, просто обязаны лить палящие дожди. Иначе на этой земле ничто не выживет. Сначала вода, и уже потом все, что евреям угодно или неугодно – собирание диаспоры, партийная борьба или борьба с инфляцией.
Образ животворной воды сидит у каждого израильтянина в подкорке. Он, израильтянин, живет на берегу огромного моря, из которого при всех роскошных морских удовольствиях – ни напиться, ни землю напоить. От соленой воды постоянно защищают пресную грунтовую воду. Поэтому великолепный малахитовый простор Средиземного моря вычеркнут из этого образа.
Из него вычеркнута также открыточная голубизна бесчисленных плавательных бассейнов и зелень рыболовных прудов: бассейны и пруды не пополняют драгоценную питьевую воду, а безбожно ее расходуют.
Несколько лет назад в районе Латруна открыли новый заповедник-парк, названный в честь северного соседа Соединенных Штатов "Канадским". В парке среди рощ миндаля, фисташек и фиг есть маленький родник, образовавший на дне ложбины лужицу метра четыре на четыре. В день открытия парка тысячи израильтян, как всегда, примчались осваивать новую достопримечательность родной природы. Они двигались нескончаемой автомобильной процессией вокруг лужицы, созерцая ее через головы спешившихся гидрофилов. Живая вода!
В коридорах амбулаторий, в конторах туристических агентств, в вестибюлях мэрий и муниципальных советов висят большие израильские фотопейзажи. Рассвет на воде. Закат на воде. Солнце на волнах и брызги водопада при луне. Можно подумать, что вы находитесь на берегах Миссисипи или что за окном протекает Волга-матушка. Покажите израильскому фотографу капли, сочащиеся из-под камней, и он принесет вам снимок водной глади, убегающей к горизонту. Это не мечта, не самообман и тем более не обман – это фотография образа в подкорке.
Мы не знаем, сколько пресной воды расходовали древние евреи. Их современные потомки тратят за год полтора миллиарда кубометров. Но вовсе не потому, что столько им нужно и больше они не хотят, а просто потому, что таков годовой дебет всех естественных водоемов, скважин и источников Израиля.
Полтора миллиарда кубов. Их расходуют до последней капли. Еще немножко – и придется качать соленую морскую воду.
Сельское хозяйство Израиля требует четыре пятых всей наличной пресной воды. Два раза в день во все дни всех месяцев долгого лета поля страны становятся театром водяной феерии. Из земли, вернее из зелени, безукоризненной, как на рекламном проспекте, взлетают вращающиеся снопы воды. По полям простираются аллеи фонтанов – Версали и Петергофы без статуй и дворцов. Роскошное зрелище, с которым борются как могут, чтобы сэкономить воду. Пускаются на всевозможные технические уловки, вплоть до хитрости поить не землю, а каждый отдельный корень. Земля страны прошита трубами всех калибров, от венечной артерии Израиля – огромного водопровода, который транспортирует воду из Кинерета в Негев – и до капиллярных сосудов – тонких резиновых трубок, по капле подающих влагу каждому кусту бесчисленных роз, цветущих в скверах и на разделительных полосах дорог. Если все эти спрятанные от глаз трубы и трубки нанести на карту страны, получится нечто вроде кровеносной системы в анатомическом атласе. Да она и есть кровеносная система Израиля. К сожалению, эликсир жизни в ее сосудах течет только в одном направлении – в расход.
Пытаются изыскать дополнительные ресурсы.
Эйлат пьет воду из опреснителей. Хайфа очищает промышленные стоки и пускает их на полив. Однако даже если весь Израиль будет пить опресненную воду и все его промышленные стоки вернутся в очищенном виде на поля, запас пресной воды увеличится не более чем на одну пятую. Словом, есть предел человеческим возможностям, и сыны Израилевы, как две, три, четыре тысячи лет назад, ежегодно ждут чуда первого дождя.
На прошлой неделе небо наконец померкло. Задул ветер. Упали капли и высохли. Наутро снова проглянуло солнце, потом затянулось дымкой. Долго плыла легкая облачная вата, затем разлился странный свет, призрачный и яркий, как от флуоресцентной лампы. В этом свете с моря подымались черные громады туч.
Вдруг налетел шквальный ветер. Весь Израиль бросился к окнам затворять рвущиеся из рук рамы и фрамуги. Руки и лица уже окатывало, как из ведра. Израиль блаженно заулыбался. За стеклами, ослепшими от потоков дождя, пошло греметь и грохотать, словно страна очутилась внутри огромного барабана.
Внутренность этого небесного барабана распирало от воды, электрических разрядов и ветра скоростью сто километров в час. Всю ночь напролет "палящий" оправдывал свое древнее мистическое имя, сваливая деревья и обрывая провода.
На дорогах мигали желтым выведенные из строя светофоры. В домах то зажигалось, то гасло электричество. В Тель-Авиве один из мостов дрогнул и медленно осел за мгновение до того, как на него въехал ночной автобус. В ащдодском порту сорвало с якорей пять судов. В Иерусалиме на нескольких улицах затопило нижние этажи. В Кинерет небо вылило в один прием сто миллионов кубов воды. К сожалению, это подняло уровень озера лишь на два сантиметра.
Сейчас снова светит солнышко. На улице прелесть как хорошо. Но я описываю не климат. И даже не водный баланс. А то религиозно-приподнятое настроение, которое в ночи первых зимних дождей посещает вместе со всем Израилем и меня, неверующего еврея из России, умевшего ценить грибной ливень и хорошую русскую грозу. "Йоре" – запомните это слово.
Фантазия на фруктовую тему
Я как-то рассказывал о цветах, пора поговорить о ягодах.
О чем же еще говорить, если не о натуральных соках, когда жара давит хуже гипсового корсета, а солнце слепит лучше тысячи фотовспышек.
Сейчас, когда кончилась клубника, сняты цитрусовые, съедены бананы и пошел летний ассортимент фруктов, Израиль приобретает окончательное сходство с плодоовощной базой, где не прекращается погрузка, развозка и разгрузка.
Экспортный товар мчится в порты на дизельных тягачах. Объем груза на прицепе равен железнодорожному пульману, и вся эта накаленная солнцем махина несется с недозволенной скоростью сто километров в час.
Товар местного потребления колышется на старых грузовичках-ревматиках, осевших на задние колеса, к большому облегчению передних. Кузов маленький, но зато нагружен в три этажа. Содержимое в лавке не помещается, его раскладывают прямо на тротуаре. Избалованная публика меланхолически бродит по вернисажу от ящика к ящику и, скрепя сердце, кладет в сумку самые впечатляющие экспонаты.
Кто приходит попозже, тот складывает свой натюрморт из экспонатов среднего размера, но такой же идеальной свежести. Того же, кто согласен брать что осталось, уже и за покупателя не считают.
Всю эту роскошь грузят в багажник, втаскивают в дом и устраивают ей постирушку с мылом. С мылом – потому, что на плодах кроме следов микробов еще и следы ядохимикатов. Зато эти плоды не знают червоточин.
При въездах и выездах из городов, подле бензоколонок и прочих бойких мест на обочинах шоссейных дорог уже окопались до глубокой осени арбузных дел мастера. Все, кроме арбузов, пребывает у них в экспедиционном кавардаке: хромые койки, на которых ночуют продавцы, рваный брезент палаток, реклама в виде дощечки, выломанной из фанерного листа, на которой криво красуется одна строка: "С любовью от галилейского арбуза".
Сам арбуз скромно помалкивает о своих чувствах, зато взоры авторов этого любовного послания пылают так, что в их страсти к проезжающему покупателю сомневаться не приходится.
Круглые ядра и цилиндрические снаряды арбузов тянут в среднем на полпуда и сложены под брезентом в аккуратные "штабеля выше человеческого роста. Говорят, хозяева этих орудийных складов зашибают за сезон бешеные деньги. Впрочем, чужие заработки всегда больше, чем свои.
После лавки зеленщика и арбузной палатки следует описать изящные фруктовые магазинчики на городских бульварах, где не только фрукты, но и продавцы словно сделаны кондитером. Плодоовощные отделы больших супермаркетов и суперсолей смахивают на выставку достижений сельского хозяйства, а израильские рынки сравнить не с чем: нет другого такого изобилия и такого бедлама.
В Союзе много пишут о передовиках сельского хозяйства, хотя чем больше передовиков, тем меньше продуктов. В Израиле продуктов столько, что они совершенно заслонили собой передовиков. Нашу прессу остро волнуют не передовики, а например, труп матроса, спрятанный в холодильник, или гражданка, влезшая на портальный кран. Про плодоовощной рог изобилия газеты не напишут, пока наши мичуринцы не выведут чего-нибудь такого, что окажется не менее странным, чем еврейка на портальном кране.
Так мне и попалась заметка под сенсационным заголовком "фрукты завтрашнего дня". В ней описывались работы сельскохозяйственного института в Реховоте. Этот институт называется "Махон вулкани", и, пока мне не объяснили, что это крупнейший в Израиле центр агрономической науки, я находился в твердой уверенности, что в "Махон вулкани" вулканизируют покрышки.
А там, как сообщила заметка, оказывается, выращивают карликовые плодовые деревья: миниатюрные яблони, груши, сливы, персики и апельсины.
Зачем? Очень просто. Если у вас дунам земли, вы можете посадить на нем 30, максимум 60 плодовых деревьев. Превратите их в карликов, и на том же дунаме у вас разместится от 300 до 1000 стволов. Урожай, соответственно, увеличится во столько же раз, причем убирать его можно не вручную со стремянок, а комбайном.
После чудес с карликами заметка сообщает о фиджое. А это еще что такое? А это декоративное растение. По крайней мере таковым оно считается на своей родине, в Центральной Америке. Реховотские вулканизаторы привезли фиджою из-за океана и поставили перед собой задачу заставить декорацию давать плоды.
Решив ее, они перешли к следующей: пусть дает плоды и другое декоративное растение – земляк фиджои под названием питанго. Звучит как танго, а что касается вкуса, узнаем, когда питанго поступит в магазины.
"Махон вулкани" вывел еще и карамболу (не путать с Карамболиной!) о плодах которой сообщается, что они имеют форму морской звезды на рассвете, цвет янтаря на закате и вкус рая до грехопадения.
Составивший заметку репортер так долго исполняет фантазию на фруктовую тему, что сам утомляется и об актинидии уже ничего существенного не пишет. Лишь сообщает, что фрукт привезли из Новой Зеландии, а зажравшаяся Европа платит за него большие деньги.
Видать, в скором времени мы не избежим дощечек "С любовью от негевской актинидии!"
Перед глобусом
Когда я сел обдумывать статью ко Дню поминовения шести миллионов евреев, остановив взгляд на матери и тесте в черных рамках – от тещи и фотографии не осталось, – заговорил приемник. Диктор последних известий сообщил, что ночью в киббуц Мисгав-Ам на границе с Ливаном проникли палестинские террористы. Они ворвались в здание ясель киббуца и держат в заложниках детей из группы двухлеток.
Один ребенок убит. Убит также секретарь киббуца. За считанные минуты до нападения в яслях погас свет, дежурная, подняв секретаря среди ночи телефонным звонком, попросила прийти починить электричество. Он пошел чинить свет и наскочил с отверткой на ручные пулеметы.
Шесть миллионов людей, уничтоженных за принадлежность к еврейскому племени. В День поминовения, в восемь утра страна замирает на две минуты. Две минуты молчания, но не тишины: во всех концах Израиля гудит сирена. Голос сирены в двадцатом веке – голос массового несчастья. В Израиле в этот день механический протяжный вой повисает над землей, как звук труб Страшного Суда, и страна, как переполненный зал суда, встает и замирает.
Приемник отсчитывает сигналы точного времени. С момента первого сообщения о нападении на Мисгав-Ам прошел час. Новая сводка. Новых известий нет.
В киббуц переброшено специальное подразделение Цахала. В Мисгав-Аме находятся поднятые по тревоге министр обороны, начальник генштаба, командующий северным округом. Это сообщили уже час назад. Что с детьми?! Вечером все будет показано по телевидению, но до вечера еще надо дожить, а репортеры молчат.
Вот такой канун Дня памяти евреев, сорок лет тому назад уничтоженных во рвах, душегубках и крематориях. В русский язык не ввели термина, обозначающего их судьбу. Не сочли необходимым. В английском все-таки нашли синоним ивритского апокалипсического слова-образа "шоа". Холокост. Толкование можно найти в любом англо-русском словаре. Первое значение: уничтожение, гибель в огне, особенно людей. Второе: бойня, резня. Третье: всесожжение. Полное истребление жертвы огнем. Четвертое: самоотверженность. Полное самопожертвование.
Для перевода слова "шоа" бывшие советские евреи в Израиле взяли, за неимением лучшего, слово "Катастрофа". Но хотя мы и пишем это слово с большой буквы, оно не вырастает в нечто большее, чем железнодорожное происшествие, в котором, как известно, нет виновных, кроме стрелочника, в данном случае немецкого.
А нас истребляли задолго до того, как придумали железную дорогу. С тех пор, как существует диаспора, мы доказываем миру свою принадлежность к роду человеческому и даже наш вклад в его прогресс. И с тех самых пор, как мы просим учесть эти смягчающие обстоятельства, нас неизменно приговаривают к высшей мере. Меняются лишь мотивировки. Средневековый монах Франциск из Пьяченцы утверждал, что у евреев во рту раны, а с языка во время разговора соскакивают живые черви. Сегодня у нас за щекой находят то коммунизм с тоталитаризмом, то сионизм с империализмом – смотря, что больше подходит, когда наступает час.
Вот они щелкают, сигналы точного времени. Сводка. Террористам сделано предложение: их не тронут и позволят беспрепятственно уйти, если они не причинят вреда детям. Террористы отвечают отказом. Они пришли сражаться. С ними листовки, где сказано, что с Израилем будет покончено только одним способом
– огнем и мечом.
В саду под окном соседка с прижатой к уху коробочкой транзистора. Мы избегаем смотреть друг на друга и не обмениваемся ни единым словом.
Новость! Оказывается, еще до переброски войск в Мисгав-Ам киббуцники сами предприняли попытку выбить террористов из здания. Попытка не удалась, но террористов все-таки оттеснили во второй флигель и спасли несколько женщин и детей. Трещит телефон. О, черт, кому это приходит в голову сейчас звонить? Приятельница, репатриантка из Риги. "Слыхали про киббуцников? – говорит она глухим от волнения голосом. – Какие ребята!"
Соседка уходит в дом, наверно, готовить ужин. По улице ползет грузовик палестинца, скупщика старой мебели, под его заунывные выклики, разносящиеся из громкоговорителя по всей окрестности. Араб преспокойно выкрикивает на идиш клич всех еврейских старьевщиков от Гамбурга до Пинска: "Алте захен! Алте захен!" В это время приходит новость из Мисгав-Ама: запросив молоко для детей, палестинские террористы напомнили о сроке своего ультиматума, после которого они взорвут флигель. Они требуют освобождения всех членов своей организации, отбывающих наказание в израильских тюрьмах.