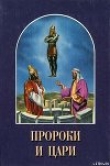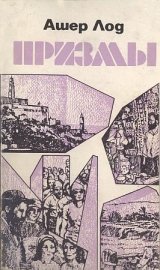
Текст книги "Призмы"
Автор книги: Ашер Лод
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц)
Еще года не прошло, как Ави уехал из дому, а уже благодарит домашних с иностранным акцентом. И домашние это очень замечают, но так хочется порадоваться.
Тем же вечером на одной из свадеб в Тель-Авиве раввин говорит о другой радости: молодые создали в Израиле еще одну, новую, семью. И как это радостно, как важно не только для самих молодых, для их родителей, для Израиля, но и для евреев во всем мире. Потому что время такое. Потому что вопрос стоит так: быть еврейскому народу или не быть.
Но не только в Тель-Авиве понимают, что вопрос стоит именно так. То же ощущение скрывается и за обиженным письмом из Канады. И за веселым письмом, пришедшим из СССР.
В письме фотография пасхального стола и следующие примечания хозяйки, до недавних пор не имевшей понятия о Пасхе: "Слева рыба, для справки – треска. В центре шарики из глины, которую месили в концлагере у Рамзеса Второго. Я сделала еще липучки, которые, мне сказали, нужно варить в меду – то ли "тейглех", то ли "кнейдлех", не могу запомнить".
Синай
После Ханукки пресса поместила короткие отчеты о ней, перечислив экскурсии и прогулки – непременный вид праздничных удовольствий. Поездкам в Нуэбу и Шарм-аш-Шейх, которые должны отойти Египту, было уделено пол строчки. Между тем, такие путешествия заслуживают большего внимания. Особенно, если у вас нет своего автомобиля или вы не такой шейх, чтобы проехать 1200 км на своем бензине, и поэтому записываетесь в профсоюзную автобусную экскурсию.
"Ваад овдим", назовем его для простоты месткомом, берет на себя до половины расходов на туристический автобус с гидом, ночлегом в отелях и питанием в ресторанах. Трудящиеся экскурсанты, с одной стороны, довольны, но, с другой, не могут удержаться от колкостей по поводу малого комфорта, неизбежного, правда, при поездке за полуказенный счет: вы услышите, как автобус с кондиционированным воздухом обзовут телегой, а отель с баром, бассейном и пятью махровыми полотенцами на двоих – постоялым двором. Впрочем, экскурсанты мужественно переносят лишения даже на фоне куда более шикарных средств передвижения и ночлега.
Чтобы присоединиться к "лишенцам", не обязательно иметь отношение к месткому. Достаточно и того, что в учреждении, организовавшем экскурсию, работает ваш двоюродный дядя. Попросите его, и он вас запишет. Запишет он, если хотите, и вашу подругу детства, давно мечтавшую посмотреть Синай, и ее дедушку, которого не на кого оставить. Поэтому не удивляйтесь, что в автобусе, высланном в Шарм-аш-Шейх, допустим, Тель-Авивским университетом, не окажется, скажем, ни одного профессора, но зато будет широко представлен весь прочий Израиль. Вы найдете здесь мошавника, водопроводчика, программиста, старшего банковского клерка, судомойку с пятью детьми и группу заслуженных дам в перчатках, которые везут с собой в пустыню самое необходимое, то есть три смены вечерних туалетов.
Вам гарантирована также влюбленная парочка, которая смонтируется друг с другом, как только займет места, и размонтируется лишь через трое суток, по возвращении в Тель-Авив. Почти наверняка вы увидите и двух подружек, засидевшихся в девицах. В отчаянном поиске суженого, они уже починили у хирурга свои носы и готовы ехать не только на край Синайского полуострова, но и на край света. И вы непременно увидите типового израильского гида – профессионального весельчака в расшлепанных босоножках – в паре с профессионально хмурым шофером. Увидите, как в один миг гид сколотит из этой разношерстной и даже разноцветной израильской публики не просто дружную компанию, но я бы даже рискнул сказать, коллектив.
Достигается это точно так же, как в Союзе, с помощью песни, гражданской по содержанию и лирической по форме. Песня – это и детство, и школа, и молодежная организация, и военная служба. Любой израильтянин в любом возрасте окончательно пьянеет от нее, как от бутылки пива. Гид, поскольку на дворе Ханукка, начинает с хануккального репертуара, запевая в микрофон тем голосом, какой Бог послал; в автобусе взрывается неистовый рев; поют в унисон дамы, судомойки, мошавники, а самозабвеннее всех – подружки с хирургически-классическими носами. С этого момента банковский клерк начинает давать бесплатно финансовые советы. С этого же момента каждый любит другого, как родного брата. Если не до конца жизни, то почти до конца поездки.
Израильский гид, как видите, еще и затейник: рассказывает политические анекдоты, устраивает игры и разучивает с публикой собственные куплеты весьма озорного содержания. Вообще, в отличие от экскурсоводов во всем мире, он изъясняется не в стиле туристических проспектов, а на языке "хевре", то есть неписанного братства питомцев израильской школы и Цахала. У "хевре" своя речь, приправленная пудом съеденной вместе ближневосточной соли; на этом невероятном языке гид рассказывает как маленькие анекдоты, так и великую историю. Сантименты противопоказаны "хевре". И поэтому, когда он вдруг заявляет по поводу предстоящей отдачи Синая Египту, что у него сердце болит, можете ему поверить.
Дело не в собственническом инстинкте и даже не в том, что ужасно жаль огромных средств, вложенных Израилем в освоение неприступного восточного побережья Синая. Дело в самом этом побережье с его горами и морем, перенесенными на Земной шар как бы с иной планеты.
Зимой, в период грозовых дождей, внезапных, как наводнение, на берег из всех ущелий обрушиваются стены воды. Потоки с пушечным громом тащат каменные глыбы, несут песок, мчат клубы колючек и клубки уцепившихся друг за друга ядовитых змей. За миллионы лет вода ливневых паводков намыла песчаные террасы, точно светлые столы, на которых горы стоят, как темные пирамиды. Зимние потопы ежегодно отшлифовывают их гранит, отчего крутые громады высятся в грозной наготе первого дня Творения.
Гид расскажет вам анекдот, как проводнику-бедуину, сопровождавшему здесь в прошлом веке английского географа, надоели вопросы европейца о местных названиях вершин. На один такой вопрос бедуин ответил неприличным арабским словом, которое с тех пор так и значится на всех картах. Но как не пристает к этим горам летучий песок, так не подходит к ним ни одно название на изменчивом человеческом языке, ни высокое, ни низкое. Сотни, тысячи вершин и пиков безмолвно лиловеют в небе зазубренными шеренгами, одна над другой. А внизу расстилается невозмутимое море с чашами лагун, сияющими фосфорическим светом.
Какое-то космическое единство противоположностей: самая богатая в мире подводная флора и фауна переходит на урезе воды в мертвую горную пустыню. Ничего, кроме тектонической архитектуры: витые каменные колонны, башни, арки. Да еще магические краски, переливающиеся на синайском граните. Автобус едет под нависшими глыбами, мимо редких зонтов синайской акации на белой гальке. Глаз отдыхает на ее зелени. Но троньте веточку, и она вам пропорет ладонь острыми, как гвоздь, шипами, которые по зубам только верблюду.
Гид заметит, что верблюды здесь не знают разницы между этим огнеупорным деревом, растущим в синайском зное, и ржавыми египетскими минами, которые они жуют с не меньшим якобы аппетитом.
Гид остановит автобус, сорвет на обочине скромное растеньице и пустит по рукам, объясняя публике, что отвар из его листьев действует лучше всякого героина: синайский дурман, как называется растение, вызывает галлюцинации, затем смерть.
Публика хануккальной учрежденческой экскурсии прекратила песни – молча смотрят в окно на каменную пустыню.
И вдруг пронзает догадка: так вот этот камень, на котором были высечены Десять Заповедей.
Изгнание из рая
У Пушкина в одной из его народных драм народ безмолвствует. О евреях в Израиле этого не скажешь, тем более когда дело доходит до народной драмы. Эвакуация Ямита и разрушение этого города вызвали в Израиле, можно сказать, вопль. Гневу еще долго остывать в сердцах и архивах, прежде чем историк сможет к нему прикоснуться без риска подчернить или подрумянить вывод.
Но одно можно сказать уже сейчас. В Ямите состоялось самоизгнание из райского сада. И если само решение оставить Ямит было принято добровольно – насколько можно полагаться на свободное парламентское голосование – то выполнение этого решения добровольным не было и быть не могло. Стоит ли отдавать Синай за мир с Египтом, точнее, за страстное желание надеяться, что действительно будет мир?
Стоит или не стоит – но смотреть, как бульдозер крошит и погребает в пустыне зеленые ковры плантаций и садов, выше человеческих сил. А видеть даже по телевидению сцены финала – сцены столкновения войск с противниками эвакуации Ямита, забаррикадировавшимися на крышах города – такого я не желаю ни одному народу.
Это было похуже военных маневров с живым огнем, где несчастье может произойти просто по ошибке. Это была не только самая большая в мире массовка, где с обеих сторон участвовало в общей сложности более десяти тысяч человек, но и единственная в мире, где на главных ролях были статисты: среди десяти тысяч, которые сошлись в Ямите, каждый мог зажечь пожар большого кровопролития. Иные иностранные обозреватели объявили события в Ямите израильской инсценировкой: правительству, мол, выгодно представить дело так, будто передача Египту этого района натолкнулась на народное сопротивление. Кто говорит об инсценировке, пускай посмотрит документальные кадры с поселенцами на крышах и солдатами у стен белого Ямита, объятого дымом горящих покрышек. Пусть посмотрит, как толпы на крышах, теряя голову, пытаются сбросить солдат с штурмовых лестниц. Не думая о последствиях, молотят по каскам, отпихивают смеете с лестницами от карнизов. Пусть посмотрит, как солдаты, вооруженные лишь приказом предотвратить несчастье, все это терпят, не отвечают на удары. Не дают волю рукам. Укрощают нападающих пеной из мощных огнетушителей. Заводят на крыши стрелу гигантского крана с железной клеткой на крюке и, спасая сопротивляющихся от их собственной ярости, спускают их по одному, по двое вниз. Терпят обоюдное унижение, лишь бы не дошло до катастрофы.
Надо было посмотреть и на ямитского плотника, построившего здесь дом. Свой первый дом после лагерей в галуте. Он тоже отказался уходить. Он заранее отказался и от обещанных правительством компенсаций, от денег в возмещение жилья и мастерской, где пилил и строгал до последней минуты. Словно ее, этой последней минуты, и быть не могло. На крыши не пошел. Стоял возле своих обреченных стен, потягивая кофе и глядя на происходящее. Телевизионщики, назвав его в кадрах совестью Ямита, дали крупным планом его лицо. Зритель увидел невыразимый взгляд советского зека.
Надо было посмотреть и на другого жителя Ямита. Копна волос, из-под которой сверкают яркие белки. Смуглое, жесткое лицо военного, подрывника. Когда бульдозер завел мотор, чтобы двинуться на его дом, он снял с крыши палку с флагом Израиля, позвал плачущую жену и четырех детей, и так, всей семьей, они вышли на дорогу и пошли в Иерусалим.
Они шли несколько суток, через киббуцы, мошавы и маленькие поселки. К ним навстречу выходили люди и звали в дома, чтобы покормить, напоить и предложить ночлег. А когда флаг на неоструганной палке оказался в Иерусалиме, у подножия Стены Плача, он почти затерялся среди тысяч и тысяч людей, присоединившихся по дороге к траурному шествию одной семьи.
Зачем я это рассказываю? Хочу, чтобы об этом знали евреи всего мира. Независимо от того, как они распорядятся своей судьбой. Или как, не дай Бог, судьба распорядится ими. Желают они добра еврейскому государству или не желают, как это порой бывает в итоге несостоявшейся любви – к Израилю они не равнодушны.
Еврейский издатель русской эмигрантской газеты в Лос-Анджелесе, сам эмигрант из СССР, не хотел в своей газете "никаких этих еврейских историй". Одни половецкие пляски. Немедленно выяснилось, что газета прогорает.
Подписчикам, избравшим Америку, почему-то надо, чтобы в каждом номере газеты было и про Израиль. Поэтому теперь у газеты один глаз смотрит прямо в насущные заботы еврейского эмигранта, попавшего в огромный американский город, а другой глаз косит за океан по принципу перископа. Многого по такому принципу не высмотришь. И газета прибегает к услугам бывшего земляка, ныне жителя Иерусалима, печатая заочное интервью, взятое у него незадолго до драмы в Ямите.
Что же рассказывает бывший земляк новым американцам? Сначала о себе. Писатель. Русский писатель, а также еврей. Далее подробно о личном вкладе в русскую литературу после выезда из Союза и о состоянии оной на текущий момент. Но газету, как ни странно, интересует еще и еврейское государство. О нем коротко, вот цитата:
"Государство малоприятное, вязкое, надоедливое, утомительное. Отбивает охоту жить на свете, вызывает раздражение".
Спорить? Опровергать? Ни в коем случае! Бывший земляк говорит чистую правду. Его личную. Ее-то и сообщает газета своим читателям. И правильно делает. Почему бы новым американцам не знать и эту правду. Тем более что интервьюируемый не одинок, и многие из новых израильтян с ним согласны.
Но почему бы новым американцам не узнать и другую правду? Например, правду флага на неоструганной палке.
«Президент»
Передачей, посвященной Ицхаку Мамбушу, телевидение возобновило программу биографических вечеров под названием "Вот такая жизнь" – "Хаим ше-каэле". Любой показ так называемых положительных героев отдает, как известно, юбилейным сахарином. Из передачи "Хаим ше-каэле" его отцеживают как могут. Прежде всего программа строится так, что последней о ней узнает сам герой: материал собирают втайне от него и даже на саму передачу его не приглашают, а заманивают под каким-нибудь предлогом. Вводят в неосвещенное помещение – и вдруг темноту разрезают ярчайшие юпитеры. Герой оказывается в створе телекамер, перед множеством людей, рассаженных амфитеатром. Среди них он с изумлением видит жену, детей, иногда внуков и непременно – весь сонм своих знакомых и приятелей за последние сто лет.
Пожилой, тщедушный, морщинистый, с ехидным ртом и скорбно-крючковатым носом, Ицхак Мамбуш недаром более известен под своим потешным прозвищем "Иче". "Иче" Мамбуш. Мастер устраивать розыгрыши, он на сей раз сам попался на крючок и вполне это оценил. Бровью не повел, только прищурился на дородную красивую жену, улыбавшуюся милой, счастливо-виноватой улыбкой:
– Так вот почему ты сегодня напялила на меня чистую рубаху.
Трибуна, слишком хорошо зная "Иче" и заранее предвкушая удовольствие от его ответов, покатилась со смеху еще до того, как он вымолвил первое слово.
– Эх, вы... Предатели. При таких друзьях врагов не надо, – повел носом Мамбуш в сторону собрания в сто с лишним человек.
На "Хаим ше-каэле" в студии всегда собирается уйма народу. Вскоре вы начинаете понимать, что перед вами не случайная публика, а как бы группа сородичей, клан сложившийся еще со школьной скамьи. Вам становится также ясно, что, по всем правилам родовой общины, клан ходит под старшим в роде, и тот, кто сидит в кресле перед собравшимися, и есть этот старший. Весь Израиль, мостивший дороги, убиравший камни с полей, сражавшийся в войнах, голодавший, закладывавший основы промышленности или культуры, состоит сегодня из подобных кланов. Явление, пожалуй, уникальное в современном мире, где люди воют от разобщенности. В израильских кланах стоят друг за друга горой и требуют уважения от посторонних. Когда такой посторонний – ведущий передачи позволил себе фамильярно назвать Мамбуша "Иче", присутствующие тут же закричали:
– Называйте его "президент"!
В этой шутке была большая доля правды. Хотя "президент" нынешнего вечера тем был интересен и поначалу даже немного загадочен, что занимаемое им положение нельзя объяснить какой-то особой заслугой. На сей раз в кресле юбиляра сидел не ученый, не партийный или государственный деятель, не генерал. Даже наоборот. Как выяснилось, Мамбуш не мог похвастать ни геройскими поступками, хотя честно прошел через испытания века, ни большими успехами на каком-либо поприще. Бросил живопись, которой долго занимался и ради которой несколько лет проголодал в Париже. Пробовал сниматься в кино и в конечном счете утешился мастерской ковров и эстампов. Главное достижение его жизни носит чисто организаторский характер: основал товарищество художников в месте, которое называется Эйн-Ход. Место живописнейшее, оно пребывало в запустении, пока не явился Мамбуш и не привел туда свою богемную братию. Ведущий спросил его, почему он все-таки забросил кисть.
– Чтобы ее не забросить, надо быть либо круглым дураком, либо слишком большим умницей! – отбрил "президент".
Собственно, ответ адресован не столько ведущему, сколько двум художникам, начинавшим вместе с ним. Один – Дани Караван, которого нам тут же и показывают на экране в его роскошной студии в центре Парижа, напротив центра Помпиду. Сейчас Караван проектирует один из новых городов-спутников столицы Франции. Он – воплощение успеха в жизни. Другой художник, имя которого, увы, никому ничего не говорит, доживает свой век на задворках в том же Париже. Он обозлен на мир, отказавший ему в признании, но все равно не выпускает из трясущейся руки свою мучительницу – кисть. Да, Мамбуш не сорвал банк, но зато вовремя отошел от стола. Однако не один Дани Караван – большинство членов клана намного обогнали своего "президента". В студии сидят известные израильские художники, писатели, артисты. Они обошли Мамбуша не на голову, а на целый корпус и, тем не менее, весь вечер смотрели ему в рот, как ученики смотрят на метра, или, лучше сказать, как дрессированные львы – на сурового, но обожаемого укротителя.
Так умильно взирая на Иче, писатель Йорам Канюк привел разные примеры магнетической власти Мамбуша над людьми. В том числе над гарсонами парижских кафе, где Мамбушу отпускали коньяк в долгосрочный кредит– вещь просто уму непостижимая для прочей израильской богемы, мытарствовавшей тогда во Франции.
– Все официанты Монпарнаса – сволочные антисемиты, – откомментировал Мамбуш, наливая себе стакан хорошего виски из бутылки, предусмотрительно приготовленной телевидением. – Они постоянно убеждали меня, что я не израильтянин и, не дай Бог, не еврей, а просто пропойца.
Иче кричал им в ответ: "Гарсоним!", переиначивая французское слово на ивритский лад для пущего оскорбления гарсонов, – рассказывает дальше Канюк, красивый, как поседевший ангелок с картины Мурильо. В Париже Канюк остро завидовал успехам невзрачного Мамбуша у лиц женского пола. По его словам, Иче производил неизгладимое впечатление не только на старых дев и консьержек, но и на девиц, куда более сведущих в любви.
– При всей моей большой скромности я вынужден признать, что во мне что-то есть, – согласился Мамбуш и опрокинул второй стакан.
Трибуна грохнула, излив на него очередную струю того нежного восторга, в котором, как теперь выяснилось, он купался всю жизнь. Хотя жизнь его не баловала. Зато баловали люди. И не за подвиги, не за заслуги, а исключительно за редчайшее свойство талантливо жить. Люди остро нуждаются в таланте находить радость для себя и для других при любых обстоятельствах.
– Почему вы такой оптимист? – спросил ведущий.
– В пессимисты я успею записаться и за минуту до того, как мне придет карачун, – сварливо ответил Мамбуш.
В силу этого простейшего соображения, продолжал "президент", он совершенно не переносит нытиков. Одному нытику, жаловавшемуся в тель-авивском кафе на ужасные израильско-еврейские недостатки, Мамбуш объявил, что из любви к своему народу готов поцеловать каждого еврея в задницу.
Трибуна остолбенела. Все-таки микрофоны включены и камеры снимают.
– А что, – продолжал невозмутимо Мамбуш, – половина нашего населения, как известно, милые женщины. Если к ним прибавить наших сладких деток, получится уже три четверти. Остальных я, так и быть, поцелую из патриотизма.
Клан вскочил на ноги от восторга и бросился обнимать "президента".
Там, откуда съехала приличная публика
Можно ли создать произведение о той удивительной власти, которой обладает над своими поклонниками шахматная игра? Есть, например, "Шахматная новелла" Стефана Цвейга. За доску Цвейг усаживает, с одной стороны, чемпиона мира довольно неправдоподобного, так как во всем, что не касается шахмат, он круглый невежда, а с другой – бывшего узника гестапо, полубезумного человека. Их поединок протекает среди аромата дорогих сигар, на борту роскошного судна. При таких экзотических героях и аксессуарах, в сущности, не так уж важно, идет ли речь о шахматах или о топоре, из которого солдат сварил свой знаменитый суп.
Все обстоит не так в скромном документальном фильме, показанном нашим телевидением на прошлой неделе. Фильм снят в Тель-Авиве, где существует несколько шахматных клубов. Но чтобы воспеть эту игру и вместе со зрителями поразиться удивительной способности человека жить за шахматами особой жизнью – такой яркой, болезненно радостной и страстной, что порою перед ней блекнет так называемая "настоящая" жизнь – авторы отправились не в каюту роскошного лайнера и даже не в какой-нибудь особняк с люстрами и паркетными полами. Они выгрузили камеры и микрофоны возле ветхого домика, камень и железо которого изъедены ржавчиной и солью. Лет тридцать назад этот район на берегу моря был как картинка, но картинка поблекла, и теперь ее вытесняет совсем другое полотно: фешенебельные, как цвейговский пароход, башенные отели плывут под небесами в сторону замусоренных дворов и открытой всем ветрам панели с тоскливо маячащими на ней жрицами продажной любви, выражаясь цвейговским языком. Но что "шахматным евреям", как вполне можно назвать героев фильма, до убогости антуража! Они, кажется, даже не заметили, как съехала отсюда вся приличная публика. Дом, куда они ходят десять, двадцать, тридцать лет подряд, может рассыпаться над их головами – материя для них не существует. Кроме бронзового бюста Ласкера, который наблюдает за их партиями так долго, что весь он уже почернел. О нет, у них и мысли нет подняться до гиганта: тут честолюбие не в потугах выскочить в великие мастера, а в решимости ни за что и никогда не складывать шахматного оружия. То есть не прекращать то самое усилие ума, которое необходимо и гигантам, пускай на другом, недосягаемом уровне.
Клуб (хоть и странно называть клубом эту свирепую арену безвестных шахматных гладиаторов) вот уже тридцать лет открыт с раннего утра до поздней ночи и всегда набит битком. От вас не требуют никаких рекомендаций и тем более анкет; можете даже не называть себя: внесите скромный членский взнос и приступайте к делу. Шахматную доску совершенно не интересуют ни имя, ни возраст, ни заслуги перед обществом или собственным карманом. В клубе собираются и молодость, у которой все впереди, и старость, у которой впереди, увы, уже почти ничего нет. Общество, невозможное в обычной жизни даже по своему внешнему виду, но пока отсюда не вынесли шахматные часы и доски, сцементированное так прочно, как дай Бог стенам, в которых оно собирается.
С точки зрения постороннего наблюдателя, это сборище одержимых чудаков, "мешугаим ле-иньян", как говорят на иврите. Эта точка зрения представлена в фильме очень живо. Жены нескольких "шахматных евреев" откровенно рассказывают за кадром все, что они думают про занятие своих мужей. А в кадре тем временем бушует это самое занятие, раскрытое в превосходных, кстати, портретах.
Шахматные доски оглашаются то громкими выкриками, то невнятными вздохами, то какими-то шарманочными напевами. Время за доской течет не по звездам – оно скачет под выстрелы шахматных часов. Вся эта звукозапись в фильме еще усиливает впечатление от зрительного ряда.
Говорят, шахматы – еврейская игра. Точнее, эту игру должны были выдумать евреи, если б ее не придумали индусы. Камера показывает, главным образом, стариков: молодость хороша собой, но универсальна, как дебют. А эти усталые веки, эти старческие носы – и разве мы иной раз не стеснялись их, окарикатуренных всеми "Штюрмерами" мира! – несут в себе эндшпиль целой жизни. Но камера приближается, дает крупный план – и вы видите, что партия еще не сыграна. Воля драться до самого конца, расчет и азарт, мудрость и простота, – все в этих чертах, и вы вдруг ловите себя на мысли: эти черты – прекрасны.
В фильме есть монолог завсегдатая помоложе. Видный мужчина, того особого типа, который не пропустят дамы и который не пропускает дам. Он и шахматный вопрос освещает с точки зрения успехов у женского пола. Одна из его бывших подруг однажды заметила, что за шахматами он очень хорошеет, и теперь он широко пользуется приемом, неведомым ни Казанове, ни Дон Жуану: водит девушек в клуб смотреть на него во время игры.
– В самом деле, – говорит он, сбросив усмешку,
– что может быть выше сильнейшего напряжения ума и души. Должна же такая работа возвышать человека, хоть она и незрима.
...А башенные отели продолжают плыть под небесами в сторону замусоренных дворов...
Город без памятников
Не знаю, кто такой профессор Дан Мерон, которого я слушал по радио, но не могу вообразить, чтобы израильский профессор не понимал красоты и величия Иерусалима. Между тем, Мерон заявил даже с каким-то вызовом в адрес поклонников Иерусалима, что Тель-Авив куда больше говорит его уму и сердцу и что в свободные дни он специально ездит из Иерусалима в Тель-Авив, чтобы погулять по городу.
В свободные дни все дороги обычно ведут в Иерусалим.
Господствует общее мнение, что днем в Тель-Авиве смотреть нечего, а летом и вообще нечего делать в этой парилке. Это мнение, видимо, не разделяют любители "Ха-музеон ха-мешотет". По-русски – "Бродячий музей". За этим ярмарочным названием скрывается цикл скромных пеших экскурсий по городу для тель-авивских школьников во время летних каникул. Школьники ценят лето за свободу от мероприятий, и, придя на место сбора на углу улиц Алленби и Бялика, я, естественно, не увидел ни одного школьника. Пенсионеры – да. Они были. Затем появились женщины. За ними начали прибывать дамы, за дамами поспешили семьи, волоча упирающихся детей. Прикатил на велосипеде повышать свой уровень слесарь. Затем из-за угла вывернул американский лимузин. Из него выпрыгнула полуобнаженная газель, которой, судя по автомобилю, повезло родиться не только красивой. Затем возник, словно с пролетевшего самолета, долговязый солдат-парашютист, еще пастельный от серой синайской пыли. Возвышаясь над публикой, запрудившей уже и тротуар, и мостовую, парашютист поспешно уминал "питу" – обед из двух блюд в одной лепешке. Набралось человек триста.
Чтобы ходить по центру Тель-Авива в мокрую августовскую жару, нужно и впрямь быть подвижником. И вот, в пять пополудни, когда улица Алленби вот-вот, кажется, упадет в обморок от духоты, триста подвижников двинулись в путь, запрокинув головы в предвкушении архитектурных достопримечательностей Тель-Авива, обещанных организаторами экскурсии. Подвижники шли по тем же улицам, по которым ходили годами, если не всю жизнь.
Объясняя свою приверженность Тель-Авиву, профессор Мерон сказал, что, если не считать монумента, воздвигнутого футуристом-скандалистом Тумаркиным на главной городской площади, где скульптор назло врагам установил нечто вроде двухэтажной соковыжималки, это город без всяких памятников, скульптурных и архитектурных. В этом вся соль, добавил Мерон. Памятники олицетворяют прошлое. Тель-Авив же – воплощение настоящего. Скоротечного, но и созидательного, как прибой, который, перемывая песок, стирает один рельеф и строит новый.
Итак, триста подвижников, одолев несколько сот метров, благоговейно уставились на купол, примечательный, пожалуй, лишь тем, что его жесть с двадцатых годов дожила до наших дней.
Такое внимание к железной крыше вызвало у торговой улицы Нахалат-Биньямин немалое изумление. Продавцы высунули головы на солнце и, убедившись, что перед ними экскурсия, похоже, из сумасшедшего дома, тут же спрятались в лавки. Гид повел экскурсантов к другой башенке "из бывших", к другому ржавому призраку над столпотворением раскаленных автомобилей, вывесок и светофоров.
Свою радиобеседу о Тель-Авиве профессор Мерон начал с евреев из алжирского Орана, разбогатевших в Яффо на ювелирном деле. Выходцы из арабского мира, в Палестине они потянулись к новой, обособленной от арабов жизни и построили свои еврейские выселки за пределами Яффо. Мечты этих алжирских евреев начать жизнь сызнова, с ноля (как будто кому-нибудь это дано) сохранились только в названиях, которые они дали своим слободкам: Неве-Шалом и Неве-Цеддек – Обитель Мира и Обитель Справедливости...
Потом были русские евреи, они тоже отпочковались от Яффо – прямо на песок береговых дюн, где и заложили Тель-Авив. Их алжирские предшественники строили, имея перед глазами модель восточного Орана. Русские евреи взяли за образец дачное Подмосковье. И построили. Правда, без берез, но зато с запахом жасмина и со звуками вечернего рояля. От Неве-Цеддека и Неве-Шалома сохранились полуразвалины, от дачного Тель-Авива ничего не осталось, кроме новелл Ашера Бараша. Этот наблюдательный юноша из Галиции описал заседания тогдашнего тель-авивского городского совета, где пили чай вприкуску, разумеется, из самовара. На месте первой в Палестине ивритской гимназии "Герцлия", построенной российскими интеллигентами в пенсне и панамах, сейчас громоздится железобетонная глыба "Мигдал Шалом", крупнейшего до недавнего времени израильского универмага. Новые времена – новые боги. Новым богам – новые храмы.
В двадцатые годы хлынула алия Грабского, прозванная так по имени польского министра-юдофоба, от декретов которого бежали в Палестину еврейские портные и торговцы. В дачный Тель-Авив потекли капиталы, жаждущие хлынуть в мануфактуру и пустить сверхприбыль на оперетку и танго. Нахалат-Биньямин, центр дачного Тель-Авива, превратилась в торговую улицу, а затем уступила первенство улице Алленби и прилегающей к ней улице Шенкина. Район заблистал не только витринами и кафе не хуже варшавских, но и варшавскими манерами. Алленби излучала энергию и силу не меньше, чем со временем стали излучать улицы Дизенгофа и Бен-Иегуды.
А к северу от Алленби и Шенкина, замечает профессор Мерой, стоял еще один Тель-Авив, совершенно иной – пролетарский. Тель-Авив Гистадрута, гистадрутовской больничной кассы, рабочих общежитий. Глаза у людей в этом районе были воспалены от солнца, цемента и песка, но главным образом от бессонных ночей. От ночных дебатов о том, как немедленно исправить человечество, начав, конечно, с евреев.
Оба Тель-Авива одинаково шумно отмечали свои достижения и одинаково тихо обходили некоторые свои недостатки.