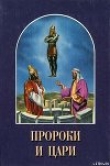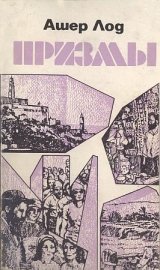
Текст книги "Призмы"
Автор книги: Ашер Лод
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 12 страниц)
Annotation
Сборник агитационных зарисовок на тему "как хорошо в Израиле".
Книга имеет очень светлую "энергетику", и ее приятно читать, несмотря на откровенно "сказочный" и пропагандистский характер.
Ашер Лод
Предисловие
Откуда у цветов ноги растут
Белые формуляры и желтые циркуляры
Свидание в Тель-Авиве
Скворцы прилетели
Театр военных действий
Кайзеровская каска дедушки
Разбитые шаблоны родины
Письма
Синай
Изгнание из рая
"Президент"
Там, откуда съехала приличная публика
Город без памятников
"Колботек"
Зарезанный фильм
Пейзаж с птицами
Парад в Дамаске
Из программы передач
Двойная бухгалтерия
Собаки, Брехт и гитара
Два стальных баллона со сжатым воздухом
Эпикуреец из Меа-Шеарим
Щедрый скупец
Мещанство во дворянстве
Дождь
Фантазия на фруктовую тему
Перед глобусом
"Роце – Ло роце!"
В честь влиятельного идола
Сын халуца из ВПШ
Там, где пересекаются параллели
Почти Челюскин
Немецкие дворники
На Молдаванке в Яффо
Фиеста
Английский гольф и еврейская демократия
В темном мире капитала
Проклятая задача
Что будет?
Сено-солома
Кусочек немецкого сала
Театр профессора органической химии
Из старой оперы
Купчая на собственную собственность
Разница в одну букву
Снаряды и миксеры
Алиса в стране чудес
Международная дива и другие павлины
Последний концерт
Большой театр
"Происшествие"
Земля Шемер, Земля Кейнана
Огненный свиток
notes
"Еш иньян"
Сабра
Купат холим
Херем
Ашер Лод
Призмы
(очерки)
Предисловие
Книга "Призмы", предлагаемая читателю, основана на материалах радиопрограмм, транслировавшихся в передачах радиостанции "Голос Израиля" на русском языке под названием "Призмы". В сборник вошли зарисовки-"призмы", сделанные в 1979—1984 гг.
Их автор, Ашер Лод (псевд. Оскара Минца, род. в 1925 г. в Риге; в Израиле с 1974 г.) посвятил свои очерки самым животрепещущим проблемам Израиля – политическим, социальным, бытовым. Талантливый и опытный журналист, он чутко и остро воспринимает окружающую действительность. Он реагирует на нее быстро и точно, освещает самые актуальные события израильской жизни чуть ли не в самый момент их свершения, умеет дать им должную перспективу и, что не менее важно, нисколько не стремится что-либо затушевать или отретушировать. Сквозь призму своего личного восприятия, своих личных переживаний Ашер Лод описывает широкий спектр вопросов, ежедневно волнующих граждан Израиля. И делает это с незаурядным художественным мастерством. Таким образом, этот сборник является своеобразным эмоциональным и правдивым отражением жизни Израиля в бурные семидесятые и восьмидесятые годы.
(От редакции)

Название литературного произведения нередко является его кратчайшей аннотацией.
Книга Ашера Лода называется "Призмы".
Что же стоит за этим словом? Вынося за скобки объяснения, которые даются в учебниках геометрии и физики, обратимся к выражению "сквозь призму". Словари толкуют его следующим образом: "смотреть, наблюдать с позиций чего-либо, переносное значение – не непосредственно, с посредствующим влиянием промежуточных факторов ".
Очевидно, именно это переносное значение имел в виду автор, давая название книге, ибо писал ее, наблюдая жизнь сквозь призму своих эмоций. Впрочем, такой способ наблюдения разумеется сам собой, поскольку он заложен в природе любого творчества.
Чтобы узнать, какого характера эмоции влияли на нашего автора, достаточно прочесть хотя бы один очерк из "Призм ", и не останется сомнений, что писателем руководило прежде всего чувство любви.
В самом деле, что бы ни двигало писателем – желание обличить мир или воспеть его, раскрыть мир для себя или раскрыть себя миру, – в конечном счете за каждым из этих желаний кроется любовь. Исключения бывают, но ведь они лишь подтверждают правило. Хотя высказывания знаменитых людей вряд ли можно принимать за неопровержимую истину, а ссылки на них – за доказательство, тут так и напрашиваются слова М. Шагала: "В нашей жизни, как и в палитре художника, есть только один цвет, способный дать смысл жизни и Искусству. Цвет Любви".
Как раз этим цветом и окрашены "Призмы".
Оттенков у этого цвета, пожалуй, не меньше, чем людей на белом свете. Правда, если условно принять характер любви за отличительный признак, то по нему род человеческий разделится на далеко не равные части. Так, любовь к своим детям окажется присущей почти каждому человеку, тогда как любовь к так называемому "ближнему" – гораздо меньшему числу людей. То же самое можно сказать и о любви к своим родителям и к чужим, к своей стране и к чужой, к индивидууму своего пола и противоположного и так далее.
"Призмы" – одна из тех книг, которых существует великое множество: она о любви к родине. Хотя прямо об этом не говорится ни единого слова. Но и среди великого множества таких книг она выделяется: речь идет о родине особой, о родине обретенной.
Одни считают, что родина – это то место на земле, где человек родился. Таких людей большинство. Другие говорят, что родина – это то место на земле, про которое человек знает сердцем, что это – его родина. Таких людей меньшинство.
Автор "Призм" относится к тем, кто находится в меньшинстве: он родился далеко от Израиля, приехал сюда вполне зрелым человеком, сформировавшимся в мире с иной системой ценностей (чего, кстати, по его книге никак не скажешь, если не считать тех мест, где он об этом размышляет), – и вот он пишет об Израиле как о месте на земле, которое "обрел в сердце своем ".
Однако книга его выделяется не только этим. Даже среди немногочисленных произведений о любви к родине обретенной она тоже стоит особняком. «Призмы» обладают одной, можно сказать, чудесной (от слова «чудо») особенностью. Но прежде следует сказать несколько слов об Израиле.
В Израиле, как известно, есть все что угодно (кроме нефти). И все, что в нем есть, писатель может описать: палящее солнце и проливные дожди, лазурное море и безводную пустыню, страшную бюрократию (ту самую, о которой знает каждый, включая тех, кто об Израиле решительно ничего не знает) и жуткий балаган (израильтяне почему-то убеждены, что "балаган" означает "беспорядок"), есть любые климатические пояса (откуда, наверное, и возникает ощущение бескрайних просторов, которых у нас нет и в помине), есть социализм (хоть и не "развитый ", как в одной шестой части света)и капитализм (тоже какой-то "недоразвитый"), есть глубочайшие древности и самые современные отрасли техники... Словом, есть все, и все это можно описать.
Израиль – сложная страна. Она требует затрат огромных душевных сил, что, в свою очередь, требует наличия таковых. Те, кто в Союзе покупали кооперативные квартиры, возможно, помнят, как в них въезжали, когда они еще были недостроены, – только бы поскорее избавиться от коммуналки. Помнят, как приходилось все достраивать своими руками, чаще всего неумелыми, так что переделкам не было конца. Наверняка не забыли и радость, когда конец все-таки наступал и забывались все беды. До появления новых. И чем больше труда вкладывалось в новую квартиру, чем тяжелее она доставалась, тем больше к ней привязывались.
Такое сравнение, конечно лее» не отражает всей специфики израильской жизни, но оно может дать некоторое представление о ней. Так или иначе, даже самую сложную действительность, включая израильскую, описать можно.
И только одно не поддается описанию: особое, не выразимое словами обаяние, которое есть в Израиле.
Чудесная особенность "Призм", о которой мы упомянули выше, в том и состоит, что автору этой книги каким-то чудом удалось выразить это обаяние.
"Призмы" – книга о нашей жизни, о нашем времени. Она актуальна в самом точном значении этого слова. Правда, жизнь меняется, а в Израиле – особенно быстро. Но и при этом книга А. Лода останется актуальной, поскольку сможет подвести читателя к сопоставлению настоящего с совсем недавним прошлым, а сопоставление есть первый шаг к осмыслению происходящего.
Все, что описано в этой книге, нам хорошо знакомо. Все это мы и сами видим каждый день. Но, пропущенная автором сквозь призму его эмоций, наша до боли знакомая повседневность открывается теми сторонами, которые могли бы остаться не замеченными нами.
Автор этой книги, как это часто бывает, пытался скрыть за юмором, а порой и за сарказмом то главное чувство, которое вдохновляло его и которое, по мнению М. Шагала, является единственным чувством, придающим смысл жизни и искусству. Из этих стараний (и это естественно) у автора ничего не получилось. От очерка к очерку мы убеждаемся, что главные грани авторских "призм" – это любовь и доброта. И эго, конечно, самое важное для нас – читателей.
С. Тартаковская
Откуда у цветов ноги растут
В любой израильской газете можно найти уголок цветовода-любителя.
Правда, в глаза он не бросается. Не то что полицейская хроника, которая подается с таким энтузиазмом, будто ее составители мечтали ставить вестерны, но не пробились в кинематограф. Уголок цветовода сух по содержанию, мал по газетной площади и относится к явлению, которое за ним кроется, как свеча к лесному пожару.
Для разговоров о цветах, возможно, следовало пригласить ученого ботаника или цветовода-практика. Благо, ботаников и цветоводов в Израиле, кажется, больше, чем людей. Поскольку такого быть не может, приходится думать, что в этой стране не обязательно сколько-нибудь смыслить в растениях, чтобы держать их у себя, и тем более рассуждать о них.
Все это можно себе позволить благодаря растениеводческому сервису. В Израиле он доведен до того же уровня, что и автомобильный. На Западе, как известно, чтобы успешно ездить на машине, вам не обязательно знать, где у нее мотор – спереди или сзади. Этим вопросом ведает могучий авторемонтный бизнес. Могучий садоводческий бизнес ведает в Израиле вопросом, откуда "ноги растут" у цветов.
Есть обычные цветочные магазины. В полном соответствии со своим профилем они предлагают цветы и рассаду. Но польститься на их предложение может только простак или мот, который денег не считает. Назвать же типового израильского потребителя мотом и тем более простаком – значит оскорбить его по гроб потребительской жизни.
Типовой израильский покупатель искушен, как черт. Он себе на уме и точно знает, что в любом хорошем магазине не столько берут за товар, сколько берут за витрину. Поэтому, собравшись вечером в гости, куда не принято ходить без букета, он спокойно газует мимо ста красивых цветочных витрин и держит курс на некий яркий объект на обочине шоссе, радостное освещение которого, с точки зрения нашего брата, репатрианта из Союза, сильно смахивает на иллюминацию крейсера "Аврора".
Наш брат тоже подъезжает к обочине и видит вместо мачт шесты, на которых пестрят лампочки, а на земле под шестами – цветы в кувшинах. Никаких дополнительных расходов на торговое оборудование. Посреди живой радуги из роз, гвоздик, гладиолусов и более загадочных произведений природы бойко шурует хозяин. Этот летучий голландец еврейской или арабской национальности возникает из ниоткуда со своими шестами, лампочками и кувшинами на пять-шесть часов бойкой вечерней торговли, после чего проваливается в никуда. Зазывная иллюминация его собратьев по цеху подстерегает клиента на въездах в города и прямо посреди потемок междугородных шоссе. Искушенный, как черт, израильский потребитель платит здесь не меньше, чем в хорошем магазине, и иногда и больше – зато с преприятнейшим чувством, что он не мот и, упаси Боже, не простак.
Но ни цветочные магазины, ни тем более летучие голландцы не принадлежат к настоящим китам растениеводческого сервиса. Настоящий кит – это отдельный большой рассказ.
В один прекрасный день на пустыре у оживленного перекрестка близ Тель-Авива выгрузили высоченные пальмы. Назавтра эта живая реклама уже осеняла небо, словно тут годами произрастала, а под нею возник каркас ангара из металлических труб. На третий день каркас покрыли виниловой пленкой. Начали ставить второй ангар. Затем ангары начинили ящиками с рассадой. На задах этого хозяйства ревели самосвалы, ссыпая тонны компоста, похоже, для цветочных горшков всего Ближнего Востока.
Месяца через два число ангаров достигло пяти. В них торговали: комнатными и садовыми растениями, разными сортами газонной травы, декоративным кустарником, декоративными и плодовыми деревьями, а также удобрениями – химическими и органическими, чистыми и в сложных смесях, в больших мешках и маленьких узелках. Торговали еще и цветочной посудой, гончарной, пластмассовой и стеклянной. Для школы, для дома, для семьи. Торговали еще и всевозможными цветочными подставками, а также крюками в таком количестве, что на них можно было повесить не только торговцев-единоличников, но все торговые коллективы.
На этом этапе появившийся на свет кит полностью вошел в тело, но еще не исчерпал своих возможностей. Через полгода он ускорил бег к миллионным оборотам, загребая деньги двумя новыми плавниками: плетеной мебелью и декоративным камнем.
Через год, на следующем перекрестке, в двух километрах от первого, у кита появился двойник.
Надо заметить, что в полукилометре от каждого из китов, еще до них резвился кит поменьше, назовем его дельфином.
Теперь, я думаю, ясно, что у нас не обязательно быть цветоводом, чтобы увить свое жилье всем, что способно виться. Подъехав к каким-нибудь очередным ангарам и погуляв по их ботаническим садам, вы тычете пальцем в понравившееся вам растение, не спрашивая его названия. Кувшин или горшок, отобранный под него, вам тут же наполняют некоей сложной земляной композицией и пересаживают в нее вашу покупку. Завертывают некую химию, которой полагается удобрять и опрыскивать растение – продали бы и воду для полива, да жаль, у вас у самого свой кран.
Но есть еще и магазины хозяйственных товаров. Они снабжают вас (за деньги, и немалые) садовым инвентарем – от первобытной лопаты до компьютерной сети автоматического полива. Не забудем и о книжных лавках, которые предлагают всевозможные руководства для цветовода-любителя. Мэрии и муниципальные советы держат специальные садовые отделы, чтобы как-то ввести в берега эту растениеводческую стихию.
Вот что кроется за уголком любителя-цветовода на задворках израильской газеты.
Стоит спросить, чем объясняется этот ажиотаж вокруг цветочных горшков и кадок. Вокруг личных садов и садиков.
Говорят – мода. Говорят – обуржуазились: слишком много денег у слишком большого количества людей.
Так-то оно так, но, поездив по арабскому западному берегу Иордана, я стал смотреть другими глазами на газон под окнами израильтянина и на культ цветочного горшка в его квартире.
Там я увидел нагой, неокультуренный с библейских времен материк и с пафосом, надеюсь, простительным для новичка, записал по свежим впечатлениям:
"Километры без малейших признаков жизни. Ни капли воды. Небо и камень. Раскаленные надолбы синих скал. Россыпи белого вулканического шлака. Над петляющей по обрывам дорогой хранят зыбкое равновесие вулканические бомбы, как судьба, которая с равной вероятностью может помиловать или казнить.
Какое-то грандиозное кладбище, где истлели все завоеватели. Только и осталось, что белые каменные кости, синие скальные надгробия, да рыжие заросли живой колючей проволоки.
С непривычки становится не по себе. Хочется назад, в долину, к морю. Возвращаешься, как в райский сад – да это и есть райский сад: цветы, как тропические птицы, и птицы, как тропические цветы.
Но под ногами у тебя все тот же мертвый материк. И при мысли о тысячелетнем кладбище, спрятанном под растениями, зябко становится на тридцатиградусной жаре.
И, хотя тут почти ничто уже не напоминает о пустыне, хочется придавить ее последние следы тяжелым зеленым щитом, чтобы снова не выглянула на поверхность. Или завести, по крайней мере, свой личный зеленый талисман от праха вечности".
Сейчас, спустя много лет, мне крайне неловко за напыщенные излияния нового репатрианта. Однако и много лет спустя я по-прежнему думаю, что бизнес, кроющийся за газетным уголком цветовода, процветает не только благодаря брюшку израильского общества, но и благодаря здоровому инстинкту его души.
Белые формуляры и желтые циркуляры
Новые репатрианты, отписывающие своим далеким близким насчет израильской бюрократии, наивно полагают, что бюрократ – это коренной израильтянин, поставленный портить настроение коренному еврею, прибывшему на историческую родину.
Такое мнение должно быть очень обидным для бюрократа. Оно крайне сужает его функции и ограничивает компетенцию. Ему куда приятней посмотреть на свою могучую фигуру, нарисованную пером публициста Аарона Бахара.
В статье под названием "Болезнь Паркинсона" Бахар (он еще объяснит, при чем тут Паркинсон) начинает не спеша:
"Возьмем любого канцеляриста. В одно прекрасное утро канцелярист неизбежно приходит к выводу, что он завален писаниной. Ему не под силу тащить такую обузу. Что делать? Одно из трех: либо уволиться, либо свалить пол-обузы на коллегу, либо потребовать себе двух помощников.
Уволиться? Хотел бы я видеть чиновника, готового освободить место добровольно. Хотел бы я посмотреть и на его коллегу, который согласился бы тащить хоть осьмушку чужой обузы. Что же остается? Требовать помощников!
Но почему именно двоих? А потому, что если с работой сладит один помощник, то велика ли обуза. Почему с ней не справился сам канцелярист? Очень тонкий вопрос. И начальник канцеляриста может плохо подумать о своем подчиненном, и помощник канцеляриста может слишком возомнить о себе. Поэтому без двух помощников никак нельзя. А что до дела, так одному дадим разбираться с белыми формулярами, другому – с желтыми циркулярами. Тогда оба поймут, что только сам канцелярист способен разобраться и в тех и в других бумагах. Еще бы! При двух помощниках он уже не просто канцелярист, а шеф, начальник.
Вы, конечно, подумаете, что таким образом происходит раздувание государственного аппарата и увеличивается число бездельников. Вы, конечно, ошибаетесь. Бюрократия тем и хороша, что, чем сильней она разбухает, тем больше у нее работы. Вопреки всем злостным анекдотам насчет сплошных чаепитий в государственных учреждениях, нашим двух новым помощникам бывшего простого канцеляриста, не до чаю. Нет времени разогнуться. Одному над белыми формулярами, другому – над желтыми циркулярами.
Может ли узкий специалист по формулярам один тащить на себе такую обузу? Конечно, нет. Что же ему делать? Этот вопрос уже подробно разобран на примере бывшего простого канцеляриста. Из разбора вытекает, что специалисту по белым формулярам несдобровать, если он не потребует себе двух помощников.
Но в таком случае, что сделает его коллега, специалист по желтым циркулярам? Тоже потребует и тоже не меньше двух. А как отнесется к их требованиям бывший простой канцелярист, ныне довольно большой начальник? Конечно, горячо поддержит их требования. Ведь это так естественно, и по-человечески и по-канцелярски: сейчас он начальник над двумя помощниками, а благодаря их справедливым требованиям станет совсем большим начальником. Целых четыре помощника! Причем два из них в ранге довольно больших начальников над двумя простыми канцеляристами.
Словом, чем больше помощников, тем крупнее получается начальник. Он уже не разговаривает с публикой. Не разговаривают с публикой и восемь начальников под его началом. С публикой иногда разговаривают шестнадцать помощников по белым формулярам и желтым циркулярам. И это еще очень гуманно с их стороны".
Изобразив разрастание бюрократии в геометрической прогрессии, очень смахивающее на размножение амебы путем деления, Бахар переходит к руководящей верхушке.
"Когда выросший из помощников начальник достаточно укрупнится, его заметит усталый взгляд заведующего сектором. Веки заведующего разомкнутся. У него, у заведующего, только четыре заместителя, а лучше бы пять. И вот подходящий кандидат. Конечно, подходящий – иначе он никогда бы не возник в поле зрения заведующего.
Не повысили бы до такой степени, имей он хорошую голову на плечах: бывшие канцеляристы не продвигают помощников умнее себя. Лучше всего продвинуть дурака. На фоне пустого места начальник, того и гляди, сойдет за умного".
Вы вправе спросить, как соотносится эта картина с действительностью. Отвечу: как злая карикатура с оригиналом. Свою карикатуру Бахар посвящает профессору Паркинсону – автору знаменитого "Закона Паркинсона". Эта книга переведена на русский язык. Именно из нее я узнал в свое время о бюрократе как о центральной фигуре государственного управления на Западе. Что касается лагеря, противостоящего загнивающему Западу, то там мы не слыхали о бюрократах, разве что когда проходили Маяковского. Бывало, кое-где, в отдельных случаях нам доводилось услышать про иные пережитки, однако настолько безобидные, что искореняли их уже не поэты-самоубийцы, а процветающие конферансье.
Аарон Бахар не поэт и не эстрадник. Он, если хотите, газетный трибун. Он по должности бичует язвы общества. А беззубой демократической еврейской бюрократии даже льстит, что ее замечают в прессе.
Вот Бахар и пишет:
"Способным работникам остается либо уволиться из аппарата, либо притвориться круглыми идиотами и нарочно вносить дурацкие предложения, чтобы начальство их заметило и повысило.
В итоге, если вам по какой-либо причине требуется пойти в какое-нибудь учреждение, вы оказываетесь в положении человека, бесплодно слоняющегося по коридорам, от одного кабинета к другому. За одним столом сидит истинно пустое место, за другим – прикидывающееся пустым. Вы, естественно, приходите к мысли, что надо добиваться приема у заведующего, того самого, который уже не принимает публику. Путем невероятных ухищрений вы к нему все-таки попадаете. И тут оказывается, что "босс" смыслит в своем секторе меньше всех подчиненных, вместе взятых.
О, если бы он только и делал, что сидел и чесал затылок! Но нет. Как у каждого матерого канцеляриста, у него не найдется свободной минутки, чтобы со смаком выпить свой стакан чаю. Вред от его трудов неописуемый. Словом, готовый кандидат на повышение в центральный управленческий аппарат".
Что для него, кандидата на повышение, готового потопить целую страну в разноцветных чернилах, значит наш брат – новый репатриант?! Поднимай повыше!
Свидание в Тель-Авиве
Выходящая в Израиле на русском языке газета "Наша страна" регулярно печатает списки разыскиваемых родственников, друзей, знакомых. Словно только что кончилась Вторая мировая война с ее разоренным человеческим муравейником, когда уцелевшие подавали голос через газеты – авось кто-нибудь да откликнется. Теперь, спустя тридцать с лишним лет, эти отчаянные голоса в аккуратной типографской рамочке выглядят на газетной полосе так же обыденно, как прогноз погоды. В нашем безумном, безумном мире чуть ли не половина его обитателей давно привыкла к тому, что частной почтовой перепиской заведует не почта, а тайная полиция, и не дай Бог иметь родственников за границей, а тем более писать им. Если в зрелом и даже очень зрелом возрасте вы можете себе наконец позволить вслух поинтересоваться, жива ли тетя Маня, беглая троцкистка, вы воспринимаете это как большой и, может быть, даже незаслуженный подарок. Вы принимаетесь судорожно разыскивать тетю Маню или еще судорожнее наводите справки о Шоломе, родном брате, от которого лет сорок тому назад с негодованием отказались как от сиониста.
Очень страшная вещь, если подумать. Но кому это охота думать...
Массовые поиски пропавших родственников часто приводят к неожиданным результатам. В Израиле фантастические встречи – такое же заурядное явление, как сама фантастическая еврейская судьба. Десятки людей ежедневно находят друг друга, иногда самым невероятным образом. Чтобы местная газетная хроника тиснула фото одного из таких случаев, он должен быть совсем уж из ряда вон выходящим, вроде рождения тройни. На смазанном, как обычно, газетном снимке, герои встречи, по-видимому, улыбаются среди отчетов о вчерашнем заседании правительства, краже бриллиантов и приезде в Израиль Элизабет Тейлор.
Кстати, встречи бывают не только с живыми, но и с мертвыми, и я позволю себе сослаться на свой опыт, чтобы пояснить, о чем идет речь.
Мне тоже посчастливилось "воссоединиться", хотя я искал не родственников, а искал деньги на покупку автомашины.
Надо заметить, что из-за пресловутых льгот на разные мирские блага репатриант из СССР начинает свое знакомство с Израилем, так сказать, с черного хода, со всяких благотворительных обществ. Помощь неимущим – одна из традиционных функций галутной общины. В Израиле выстроен громоздкий механизм государственной социальной помощи, однако галутная благотворительная касса не спешит сдавать свои позиции, действуя при землячествах, синагогах и даже похоронных обществах. А коль скоро касса существует, отчего бы не потрясти перед ней пустой кружкой бедняку, остро нуждающемуся в стиральной машине "Вестингауз" и автомобиле "Альфа-Ромео"? Освоившие эту жилу передают опыт ее разработки новичкам. Каждый заезд репатриантов рождает своих ударников, которые, по слухам, владеют засекреченным полным списком благотворительных источников, вызывая черную зависть у отстающих собратьев. Как только вы обживетесь, вы напрочь забудете о душераздирающих страстях, а если и вспомните, то со снисходительной усмешкой. Но пока – какой смех, когда в витринах сплошной импорт, а в кармане, извиняюсь, ни шиша.
Найдя работу чуть ли не на второй день после приземления в Лоде, ваш покорный слуга оставался большим гордецом, пока дело не дошло до покупки автомобиля. Тут я и вспомнил про завалявшуюся у меня записку с адресом какой-то благотворительной кассы и рекомендацией выдать подателю записки денежную ссуду.
Советский человек твердо знает, что учреждение должно помещаться в учреждении, а не в частной квартире. Найдя по адресу искомый дом, я обошел конторы нижнего этажа. Их характер был очень далек от благотворительного. Тогда я заглянул в парадную и в списке жильцов, к своему удивлению, увидел значившуюся на записке фамилию.
Поднявшись на первый этаж и позвонив, я долго стоял перед негласной дверью, с виду ничем не отличавшейся от других. Наконец послышались такие звуки, как если бы в квартире волокли по полу мешок. Дверь приотворилась, и я увидел перед собой старика-инвалида, уцепившегося за притолоку.
Это и был директор-распорядитель общественной благотворительной кассы. У русских в таких случаях говорят "вот тебе, бабушка, и Юрьев день", что говорят у евреев, я, по своему невежеству, не знаю.
В то время я также очень мало понимал в векселях, жирантах и гарантах. Поэтому старик начал с лекции, которой он угощал, по-видимому, всех просителей, впервые попавших в мир кредита. Опустив описание того, как разбитый параличом директор добрался до своего кресла, умолчу и о его нечленораздельной речи. Скажу только, что все это было в высшей степени противно и еще более утверждало меня в моих типично советских мыслях о том, как все-таки унизительно стать жертвой большого капитала и его мелкой благотворительности. Как все-таки жестоко ущемляют тут наше достоинство. При покупке автомобилей на чужие деньги.
Мало того, что старик меня сурово поучал, он еще выспрашивал совершенно не относящиеся к делу вещи: есть ли у меня жена, много ли детей мы с ней народили и откуда именно я приехал из Союза, поскольку и сам он из России. Меня так и подмывало плюнуть и удрать. Но, когда вас долго мучают, вы начинаете любить свое мученье. Вместо того, чтобы выскочить за дверь, когда наконец можно было уходить, я остановился и спросил: "Вы тоже из России? Откуда?"
– Вы не знаете такого места, – промычал старик.
– А все-таки? – не унимался я.
– Из Освея, – выговорил он. Я сел на стул.
Старик был прав. О таком месте, как Освей, не слышали, я думаю, и члены Российского географического общества. Но в нашей довоенной рижской квартире стоял огромный стол резного дерева, покрытый вместо клеенки вощеной бумагой с планом земель, – все, что осталось у моего деда от его имения. В правом верхнем углу этого плана большими буквами с красивыми завитушками было выведено: "Освей".
В восемнадцатом году дед бежал от большевиков в Ригу. Тогда меня еще и на свете не было. И вот в тысяча девятьсот семьдесят пятом, спустя более полстолетия, я сижу в Тель-Авиве в квартире, куда попал каким-то чудом, и говорю ее диковинному хозяину:
– Раз вы из Освея, может быть, вы знали там Иуду Каема?
Если при упоминании Освея озноб пробрал меня, то теперь затрясся старик. Я думал его снова хватит удар.
– Откуда вы знаете Каема?!..
– Я его внук.
У себя в Освее купец первой гильдии был, конечно, фигурой. Но почему и в Риге, в свой последний, нищий период жизни дед пользовался почетом, не знаю. Помню только, что в синагоге, куда он водил меня, приобщая к еврейству, на меня смотрели многозначительно и, понижая голос, говорили: "Иуде Каеме а эйникл!" – "Внучек Иуды Каема!".
Продолжая трястись, старик протянул ко мне парализованную руку и осторожно меня погладил, словно перед ним находился маленький мальчик.
– Иуде Каеме а эйникл...
Ей-Богу, он это произнес. Именно так, как мне говорили полвека тому назад на идиш. Словно внезапно забыл иврит.
Тут он спросил про Риву. И у меня еще страшней захолодело сердце:
– Вы ее помните?!..
– Я ее рисовал. Она была тогда очень молодой девушкой, а я – очень молодым человеком, и я ее рисовал. А когда нарисовал, преподнес ее портрет Иуде Каему.
Лица матери я не помню. Оно не приходит ко мне ни во сне, ни наяву. Помню, как она вела меня, шестнадцатилетнего, к двери, чтобы бежал, спасался от немцев, а ей бежать нельзя было. Нельзя бросить дедушку. Вижу ее волосы, прилипшие к мокрому от слез лицу, а лица не вижу. Может, в наказание за мое предательство, за то, что, спасая себя, бросил мать, не вижу я все годы жизни ее лица, и только ровная тупая боль приходит ко мне.
Я могу, конечно, сказать вам, что дед умер своей смертью, скончался в рижском гетто до расстрелов, а маму убили в Румбуле. Но ведь можно сказать и иначе: до того, как я убежал от немцев, они были, а когда я вернулся, их не было. Вот и все.
Даже могил от той моей жизни не осталось. Потом дрогнула и исчезла моя вторая жизнь – советская. И вот в третьей моей жизни мои мертвые приходят ко мне.
Старик гладит мою руку и плачет, а я смотрю в окно на тридцатиградусный белый зной Тель-Авива и улыбаюсь механической улыбкой.
Скворцы прилетели
Неисповедимый путь внезапных массовых увлечений привел к тому, что с некоторых пор у нас появилось множество орнитологов-любителей. Старцы, юноши и дети едут в поле и часами наблюдают перелетных птиц.