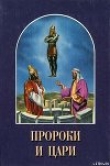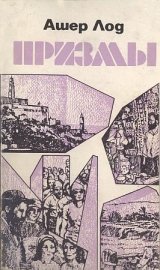
Текст книги "Призмы"
Автор книги: Ашер Лод
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 12 страниц)
Если подняться скоростным лифтом на вершину "Мигдал Шалом" и облокотиться на парапет панорамной террасы, можно убедиться, что и эти два Тель-Авива давно ушли в прошлое. Прибой времени, сплошной конгломерат плоских крыш, возносит над ним теперь очередные мечты из стали, бетона и стекла явно американо-небоскребного типа.
Где-то внизу, в разрывах между крышами, ходит экскурсия тель-авивцев по Тель-Авиву. И созерцает не поднебесные достижения, а обломки старых, отлетевших снов и сбывшихся мечтаний. Разбитый витраж. Осыпавшаяся мозаика. Особнячок-пагода – простодушная дань тогдашней европейской моде – сиротливую ветхость которого милосердно укутала незаметно подкравшаяся за часы экскурсии зеленая вечерняя тень.
Осмотрев китайскую пагоду, а затем уже при звездах, во мраке нежилого переулка и постройку с колоннами ампир, экскурсанты выныривают на улицу английского короля Георга и расходятся по домам. Витрины королевской улицы сейчас оккупированы приборами сантехники. Экскурсанты, уже не задирая головы, спешат мимо современных храмов, где розовые ванны и лиловые унитазы восседают на бархате пьедесталов, подсвеченные прожекторами, как шедевры Праксителя.
Замечательные памятники архитектуры и скульптуры, говорит Мерон, заставляют задуматься над жизнью ушедших поколений. Задуматься же над смыслом своей жизни человека иногда заставляют простые приметы времени.
«Колботек»
В средние века жуликам отрубали руку на городской площади. Этот несколько топорный метод лечения нравов был отшлифован в новейшие времена, когда за один моток народных ниток давали десять лет Ивана Денисовича.
Потом долго и упорно сажали артельщиков, пока не догадались зарубить сами артели. Потом на подмогу ОБХСС в штатском насадили такой контрольно -ревизионный механизм, что на смазку всех его колес уходит полприбыли от "левого" товара.
Гнилая буржуазная демократия, вроде израильской, как известно, не брала на себя обязательств досрочно завершить план по излечению человеческих нравов. Тем более – с помощью топора. Ее суды, полиция и инспекция отличаются не тем, что лучше искореняют зло, а тем, что не слишком его умножают. Это удивляет свежего выходца из системы расстрелов за экономическую контрреволюцию. Выходец возмущен открывающимся его взору безбрежным либерализмом. Он начинает тосковать по скорому суду на площади и совершенно не понимает местного безмятежного спокойствия, воплощенного, например, в улыбающемся Дани Пеэре – дикторе израильского телевидения, который ведет еженедельную передачу о всяких родимых пятнах – бытовых, торговых и т. д. и т.п.
Он ведет, в сущности, израильский "Фитиль", только не в кино, а на телевидении. Но где же советская заставка, тот ящик с порохом и мощный взрыв, уготованный проходимцам? Да и название какое-то беззубое – "Колботек". Что-то вроде "Всякой всячины" в вольном переводе. Ни тебе кровью не пахнет, ни даже доброй крокодильской сатирой на злодеев, разве что Дани Пеэр иронически поднимет брови. Никаких фельетонно-игровых приемов и прочих украшательств. Студия, стол, за которым по ходу действия меняются участники передачи, и неизменный Дани, удобно расположившийся на своем неудобном стуле. Пять-шесть тем за тридцать минут телевизионного времени, "пишите нам о замеченных недостатках", и – прости-прощай, до очередного выпуска "Всякой всячины".
И все же в Израиле эти тридцать минут приковывают к себе не меньше болельщиков, чем, скажем, международный баскетбольный матч с участием национальной городости – тель-авивской команды "Маккаби".
Почему? Возьмем, к примеру, тему одной из передач. Пеэр коротко сообщает, что речь пойдет о случае, в котором замешаны большие деньги, и предлагает посмотреть сюжет, заснятый репортером. В кадр въезжают огромные сверкающие лимузины, оборудованные под такси. Штук двадцать умопомрачительных машин. Нужны, в самом деле, большие деньги, чтобы купить одну такую красавицу, и куда более огромные, чтобы держать фирму, которая их импортирует.
Поэтому волосы встают дыбом, когда таксисты, купившие эти машины, по очереди рассказывают репортеру, сколько горя они хлебнули со своим приобретением.
У всей партии с иголочки новых и безумно дорогих автомобилей летят головки двигателей. Отказывают тормоза. Крошатся подшипники. Вместо того, чтобы возвращать вложенный капитал, таксомоторы возвращаются на ремонт в мастерские фирмы, и там... владельцам заявляют, что они не умеют обращаться с техникой. Репортер спрашивает одного такого злополучного таксиста о его водительском стаже. Тот говорит, что он старый шофер, к тому же тракторист, а по армейской специальности – водитель танка.
Тут бы остановить ленту и идти громить фирму, но репортер продолжает опрос. На глазах у публики он развивает свое журналистское расследование, которое ведется с подчеркнутой сдержанностью, без всякой пены у рта. Вам показывают не обвинительное заключение, а житейское злоключение, и еще неизвестно, чем оно обернется и как закончится.
Так разбирается любая, даже самая мелкая тема. Пришла жалоба, допустим, на недовес в пакетах с мукой какой-нибудь расфасовочной фабрики. В студию из ближайшего магазина приносят пять-шесть таких пакетов. Дани распечатывает их на глазах у публики и, слегка вымазавшись содержимым, взвешивает муку на аптекарских весах. Израиль внимательно следит за колебаниями чашечек: на весах микродетектив и его развязка.
Конечно, изобличить неодушевленный пакет с мукой – фокус несложный, как и небольшой труд расспросить воодушевленного жалобщика. Но совсем не так просто справиться с ответчиками: на репортеров телевизионного журнала возложена общественная миссия, и никакими милицейскими или партийными полномочиями они не наделены. Никто не обязан держать перед ними ответ, даже в форме беседы, и тем более разрешать снимать себя на пленку. Репортеров иногда просто в дом не пускают. Тогда они показывают зрителю пленку на которой заснято, как их не пускают.
Зритель учтет этот факт. Учтет он и то, что противники играют на равных. Редакции журнала не позволены никакие голословные утверждения: говоришь – докажи, а доказать – значит показать. На автостраде из Тель-Авива в Хайфу автобусы повадились превышать скорость и делать опасные обгоны.
Оператор садится в машину и снимает автобус через ветровое стекло. Но так, чтобы зритель одновременно видел и приборную доску мчащегося за автобусом автомобиля телестудии: на спидометре ПО, нет – уже все 120 километров в час! Опасные обгоны? Вот вам, пожалуйста, и обгон заснят.
Кто-то из таксистов, пострадавших от импортной фирмы, мельком замечает, что в довершение ко всем бедам, его еще и оштрафовала полиция за копоть в выхлопе. Сказал – докажи. Репортер выстраивает машины в ряд, просит завести моторы и снимает результат – облака дыма. Но и этого мало. Автомобили отъезжают, камера фиксирует на светлых бетонных плитах копоть, как от старта межконтинентальной ракеты.
Теперь можно остановить ленту и вернуться в студию.
Брови Дани Пеэра невозмутимы: зритель выслушал только одну сторону, так что делать выводы и выносить приговоры рано. Дани Пеэр сообщает, что телевидение, по своему обыкновению, пригласило на студию директора фирмы, чтобы выслушать его объяснения. За столом сидит и репортер. Его присутствие обязательно: он должен публично защищать свой материал. Затем показывают место, приготовленное для директора фирмы. Наезд камеры. На экране пустой стул.
Надо сказать, такие случаи бывают редко. Даже в самых проигрышных ситуациях ответчики являются на студию и спорят, хоть и не повышая голоса, но отчаянно. В итоге не раз оказывается, что бесспорный вроде бы факт раскрывается с неожиданной стороны и дело принимает совсем иной оборот. Так что стул на телестудии вовсе не обязательно служит скамьей подсудимых.
То, что фирма не прислала представителя, конечно, дурной знак, но не более того. Вместо человека фирма прислала бумагу, и это обязывает разобраться в ней.
Что пишут? Ответ не только зачитывается вслух, но и предъявляется зрителю крупным планом, фирма в высшей степени сожалеет. Фирма беспрекословно ремонтирует. Бесплатно. Фирма просит обратить внимание: некоторые туристические агентства приобрели ее автомобили той же марки. Остались довольны. А мы уже видели, что брак ремонтируют отнюдь не беспрекословно и отнюдь не бесплатно. Но утверждение фирмы относительно туристических агентств – это новость.
Дани протягивает руку за какими-то письмами, лежащими на столе. Оказывается, телевизионщики разыскали эти самые туристические агентства, запросили их мнение, и те прислали свои ответы.
Ответы слово в слово сходятся с жалобами таксистов.
Но, оказывается, есть еще одна бумага. Есть еще сам изготовитель злополучных лимузинов, к которому фирме и следовало при первой же жалобе обратиться. Но она этого не сделала, явно рассчитывая на свою неуязвимость. Что ж, за нее это сделало телевидение, отправив запрос в Америку.
Дело в том, что вышеописанный брачок выпустил не какой-нибудь райпотребкомбинат, а сама великая "Дженерал моторс". Именно на ее заводах был допущен грубейший брак при выпуске новой модели роскошных "Олдсмобилей".
Вы будете смеяться, но, оказывается, бывает и такое.
"Дженерал моторс" ответила молниеносно, не письмом – телеграммой: "Тысяча извинений наш афинский представитель срочно вылетает Тель-Авив разобраться исправить".
Вот теперь можно перейти к выводам. В студию приглашено еще одно лицо – представитель израильского Министерства транспорта. Дани спрашивает, собирается ли министерство что-нибудь предпринять по поводу всей этой истории.
Министерство уже предприняло: сообщило фирме, что не пролонгирует разрешение на импорт продукции.
И зритель понимает, что при всем своем реноме и капитале фирма уже может заказывать похоронную музыку. Ее песенка спета. Дело даже не в том, приняты против нее меры или нет: кто после такой передачи рискнет купить у нее машину?
Вот почему ответчики, как правило, в студию приходят как миленькие и на глазах у зрителя сражаются не на жизнь, а на смерть. Не докажешь зрителю своей правоты – тебе обеспечено банкротство.
Так что возможен, оказывается, и другой вид лечения нравов. Без членовредительства, без сгорающих со зловещим треском фитилей, без судей в штатском и палачей в мундирах.
Зарезанный фильм
Молодой кинорежиссер Яки Иеши проиграл в высоком суде справедливости дело по поводу цензурных правок в его новом фильме. Случаи, когда цензура вмешивается в творчество, в Израиле настолько редки, что стоит рассказать об одном из них.
Яки Иеши открывает зрителю очень древнюю истину. Его картина, в сущности, о том, что на земле нет более надежного ремесла, чем ремесло гробовщика, и что при старухе с косой можно не только жить, но и наживаться.
Такое запоздалое открытие у нас никого не взволновало бы, не будь некоторых исторических и национальных обстоятельств.
Сюжет фильма развивается вокруг смерти молодого израильтянина, павшего на войне. Израиль потерял в войнах двенадцать тысяч своих сынов, а память об умерших, святая у всех народов, у евреев имеет еще и свои особые черты.
Евреи ходили под смертью во все века. Возможно, потому и нет другого такого народа, который вкладывал бы столько средств и сил в заведомо безнадежную борьбу с травой забвения. У нас посмертные ритуалы не имеют временных ограничений: сколько живому жить, столько ему и поминать своих покойников. В Израиле принято, чтобы родители печатали воспоминания о погибшем сыне. Не на продажу и не для распространения. Книжечка встанет в ряд себе подобных в семейных архивах и будет желтеть, покрываясь архивной пылью. Родители, однако, верят, что письмена не истлевают, хотя все на свете тлен.
Евреи не только никогда не забудут дорогу к могиле дорогого человека, но и будут созывать к ней людей: на тридцатый день смерти, и на третью годовщину, и на тридцатую. В израильском быту оповещают об этих сроках всех-всех. Расклеивают на столбах траурные объявления. Напоминают через газету, помещая фото улыбающегося, вечно молодого покойника в военном берете.
День памяти павших в борьбе за Государство Израиль, его официальные церемонии, массовые хождения на кладбища, по местам боев, к памятникам и мемориалам в этот день, масштаб и характер самих этих памятников, – все это тоже несет на себе печать исконного еврейского отношения к смерти.
При таком отношении можно себе представить, что тем, кто подрабатывает на ней, среди евреев живется особенно неплохо. Тут недалеко и до наживы. И до спекуляции памятью павших на войне тоже.
И вот молодой режиссер решил вторгнуться в эту специфическую область. Он сделал это нарочито тупым инструментом. Поставив в центр фильма спекуляцию на смерти, он дал картине лобовое название "Аит". То есть "Стервятник". Таким образом режиссер заранее заклеймил главного героя, а затем в подтверждение своего приговора придумал фантастические сюжетные ходы, плохо вяжущиеся с действительностью. Да еще наложил краски погуще и погрубей, чтоб не отстать от беспощадного западного кинематографа.
В принципе такой подход у нас никого не может удивить. От западного кинематографа израильтяне никогда не отрывались. Тем более они привычны к плодам своих собственных правдоискателей и разоблачителей. И даже весьма одобряют самые бурные атаки на общественные язвы, неважно, действительные или мнимые. Да здравствует свобода слова в самых резких выражениях!
Но резкие выражения всегда кого-нибудь задевают. Задетые всегда протестуют. Протесты в силу описанных настроений почти всегда мало помогают.
Хотя у Иеши получился немножко лубок, кое-кто мог вполне узнать себя в его фильме и запротестовать. Но уж родственники-то погибших, казалось бы, должны были сказать молодому режиссеру большое спасибо.
Однако молодой режиссер не учел национальную психологию. Он опрометчиво задел единственную еврейскую черту, которая не терпит соревнования с любыми другими, пускай тоже очень еврейскими чертами.
Говорить о покойнике плохо не принято у всех. У евреев, как оказалось, даже рядом с его именем нельзя говорить ничего плохого.
Фильм Яки Иеши возмутил не спекулянтов – прототипов его "стервятника", а наоборот, тех, кто потерпел от них. Возмущение было таким, что на фасаде кинотеатра, где шла картина, в первый же день появились надписи с требованием немедленно снять фильм с экрана.
Охрана памяти павших солдат находится в ведении Министерства обороны. Комитет семей, потерявших своих близких на войне, обратился в министерство, требуя прекратить демонстрацию фильма. Заместитель министра обороны попросил Общественную цензурную комиссию по театральным зрелищам и кинофильмам аннулировать свое разрешение на демонстрацию картины.
Как видно из названия комиссии, в Израиле цензура на спектакли и фильмы не государственная, а общественная. Но тоже очень нелюбимая публикой. Хотя вся деятельность комиссии сводится к защите подмостков и экрана от чрезмерно порнографических или садистских зрелищ. В фильме Яки Иеши порнографии и в помине нет, однако, по уставу, комиссия призвана не допускать оскорбления общественных чувств, а именно это и произошло.
Цензурной комиссии пришлось выбирать между задетыми общественными чувствами и свободой слова. Одна святая святых столкнулась с другой, и о том, как трудно пришлось цензорам, свидетельствует их решение: запретить картину они не рискнули и ограничились требованием вырезать из нее самые вызывающие кадры.
Режиссеру поблагодарить бы комиссию, а он опротестовал ее решение в Верховном суде справедливости. Яки Иеши указывал, что по закону у общественной цензурной комиссии нет никакого права вмешиваться в идейную сторону произведений и что куски, которые комиссия предложила вырезать, служат лишь средством донести до зрителя авторскую мысль.
И вот постановление Верховного суда справедливости: "Идея фильма проведена настолько ярко, что ее не ослабят купюры, которые предложила сделать Общественная комиссия. Права комиссия, а не жалобщик, ибо наш долг по отношению к семьям павших выше даже нашего естественного отвращения к любой цензуре".
Осталось добавить одно. Может показаться, что святые чувства победили ценою сокрушения святейшей свободы слова. Поэтому стоит сообщить размер утвержденных судом цензурных купюр: в двухчасовом полнометражном фильме режиссеру предписано вырезать кадры длиною в сорок секунд экранного времени.
Пейзаж с птицами
Берег в районе Герцлии. Пляж под обрывами между минаретами мечети и развалинами турецкой крепостной стены. Ее обрушившиеся куски висят на откосе и торчком вздымаются из песка. Ящерица сидит на обломке античного мрамора, вмурованном в грубую крепостную кладку. В песке торчит бутылка из-под кока-колы.
Над берегом медленной каруселью кружат стервятники, высматривая рыбу на отмелях, отороченных белой пеной. Птицы ложатся на ветер и зависают в небе, распластав крылья, словно орлы с жезлов римского легиона. Внизу по самой кромке воды катит джип с длинными антеннами радиопередатчика. В звуконепроницаемом грохоте моря патрульная израильская машина движется, как в немом кино.
Осталось вписать в пейзаж бронзового человека в плавках, соорудившего себе, как ласточка, диковинное глинобитное гнездо на обрыве. Слоистый береговой ракушечник не пригоден в качестве строительного материала. Глина же есть в Герцлии, за пять километров от берега. Человек возил ее мешками, ездя на автобусе взад-вперед. Воду для замеса он таскал из моря ведрами. Глину месил в найденных старых бочках. Бочки поставил на террасу, которую вырубил высоко над пляжем. Затем вырубил и лестницу с террасы на пляж, укрепив ступени древесными плахами, выброшенными морем на берег.
На этом этапе у строителя откуда-то взялась целая команда добровольных молодых помощников. Команда лепила хижину на террасе. Глину из Герцлии теперь возил еще один волонтер на своем личном грузовичке. Нанесли кружки, тарелки, натащили досок для скамеек, приволокли палки для частокола, обсадили террасу кактусами и однажды скинули из грузовичка на песок бракованный унитаз. Из него получилась прелестная белая чаша для сизой молодой агавы.
Хижина росла и приобретала все новые и новые детали. Ее купол с одного боку увенчался глиняным слоновым хоботом, а с другого – петушиным гребнем. Этих двух скульптур строителям, по-видимому, показалось мало. Посматривая в небо на стервятников, они вылепили по их образу и подобию ни на что не похожую птицу и посадили ее на хобот.
Помощники человека в плавках были из сорта тех, кто не ходит ни в школу, ни на работу. Околачивается по кафе, накуриваясь подозрительными сигаретами, или сидит на уличной ограде, уставившись в пространство. А тут они вкалывали так, словно их внезапно подменили. Однако строительство дурацкой избушки на курьих ножках подействовало, как магнит, и на переполненный по субботам амфитеатр пляжа. Все солидные зонты и добропорядочные тенты в радостном изумлении задирали головы, словно перед ними строили родовой английский замок на продажу. Публика вереницами карабкалась вверх по лестнице, чтобы осмотреть его и вступить в почтительную беседу со строителями. Строители же откладывали лопаты, чтобы великодушно выслушать советы, чего бы еще такого вылепить. Команда принимала публику, а ее командир продолжал месить и копать, не снисходя до простых людей.
Нисим Кахалон, так зовут человека в плавках, жил в ста метрах от берега в одном из гнилых бараков, на которые теперь наступает новый район шикарных вилл. Вместе с соседями, ютящимися здесь еще с пятидесятых годов и отказывающимися съехать в человеческие квартиры, пока государство не уплатит им огромной компенсации за землю, он правильно рассчитал, что рано или поздно земля в этом районе подорожает. Цены в самом деле подскочили неимоверно, но как раз в это время лачуга Кахалона сгорела.
Так что можно подумать, будто Нисим Кахалон сейчас гол как сокол. На самом деле он состоятельней не только обитателей всех бараков вместе взятых, но и некоторых хозяев соседних вилл. У него большой дом в Америке.
Впрочем, он и с виду никак не напоминает жалкого погорельца, которого несчастье вынудило перейти на пещерный образ жизни. Он из породы тунисских евреев, как на подбор ладно скроенных и крепко сшитых. К тому же у него фигура натурщика. И борода, черная, как смоль, и ослепительные зубы. Среди разных типов мужской красоты есть особая хищная красота, от которой веет притягательной угрозой. Дом в Америке у Кахалона появился вовсе не потому, что он прилагал большие усилия, чтобы окрутить на пляже богатую американскую туристку. Нет, голубоглазая блондинка в него втрескалась сама, а он всего лишь не сопротивлялся.
И гнездо на обрыве он начал строить отнюдь не потому, что его лачуга сгорела. Просто нормальный дом не подходит Кахалону по его натуре. В доме глухие стены и уйма лишних вещей. Люди, живущие в домах, не ходят круглые сутки в одних плавках. Тем более Кахалону не подошел его американский дом: не стоит на берегу моря. А если бы и стоял, это было бы совсем не то море. И не та речь на переполненном по субботам пляже. И не те спасатели, что сидят на вышках в соломенных сомбреро и гонят купальщиков из воды при самой легкой волне. В то время, как ему, Кахалону, никакие волны не помеха: разогреваясь работой на солнцепеке до температуры железа в горне, он раз тридцать за день сбивает жар, бросаясь в воду и уходя саженками к горизонту.
Ни валы, ни водовороты его не берут, как будто под кожей у него зашито выданное ему от рождения свидетельство на непотопляемость ни в море ни на суше. Произведя на свет с голоубоглазой блондинкой черноокого Дейвида, а затем убедившись, что мать ребенка, такого сладкого, что хочется ножки слопать, никогда не согласится переехать на постоянное жительство в пещеру на Средиземном море, Кахалон понял, что совершил маленькую ошибку. Он затворил за собой калитку американского дома и полетел через океан, размышляя о том, что вылепит на крыше орла. И о том, что скоро зима. Ни туалета, ни электричества, ни водопровода. Но глина как-нибудь выдержит, а он
– тем более.
В Израиле, как и повсюду, нельзя вести самовольное строительство. Даже из глины и даже на обрывах. Это привлекает внимание строительных инспекторов, хотя им прекрасно известно, что против незаконных застройщиков типа Кахалона не помогают ни штрафы муниципалитета, ни даже постановления суда. Помочь может только бульдозер, и то под охраной полицейской роты. Застройщик в таких случаях рвет на себя волосы перед репортерами, которые щелкают его со всех сторон, чтобы представить публике фотодоказательство вопиющего бездушия властей. А он проклинает муниципальных извергов и обещает эмигрировать из Израиля со всеми детьми, братьями, сестрами, дядьями и тетками.
Неприятная в высшей степени сцена. Поэтому власти избегают доводить дело до этой стадии. Однако посылают инспекторов регистрировать нарушения и предупреждать нарушителей о последствиях, которые, скорее всего, не последуют. Явились инспектора и к Кахалону. Выйдя на пляж, они вылупили глаза уже от одного вида незаконной постройки. А еще больше
– от ее местоположения, не доступного никакому бульдозеру. Вскарабкавшись на террасу и попав в хижину, они словно очутились в лесу. Пучки сушеных трав, живые растения, какие-то камни и коряги.
Посреди леса на топчане лежал хозяин в одних плавках и читал Священное Писание. У топчана на земляном полу лежали книжки по физике.
Косясь на Священное Писание и на физику, инспектора, как положено, составили протокол и, как положено, выслушали возражения. Вместо жалоб на бедность и ссылок на малых детей хозяин понес какую-то философию. Что-то насчет своего жилья, выросшего из земли натурально, как дерево, которое тоже часто сносят всякие идиоты.
Словно услыхав про такую недобрую перспективу, из дыры в задней стене, – лаза в пещеру, выкопанную в обрыве, – вывалило целое общество кур, а с террасы примчался кот. Хозяин переговорил с котом и курами по-арабски. Кота после разговора пулей вынесло на улицу, а куры наскочили на инспекторов. Хозяин прикрикнул на кур, а про кота объяснил, что четвероногое нашкодило и наказано трехсуточной высылкой из помещения.
Инспектора махнули рукой и поскорей убрались из этого дурного места.
Кахалон взял лопату и пошел копать новую пещеру.
Их у него задумано десять. Почему именно десять? Неизвестно. Зато известно, что, когда Кахалон добьется электричества, он превратит пещеру в ремесленные мастерские и художественные студии. Так он объяснил корреспондентам, до которых ему пришлось снизойти, чтобы отстоять свои пещеры через газету. В них у него будут работать все желающие камнерезы, художники и скульпторы. Уже сейчас к нему целыми классами ходят школьники, чтобы лепить из глины. Любой прохожий, найдя на берегу интересный камень или корягу, придет и вырежет рыбу или птицу.
Недавно на берегу произошло страшное несчастье. Ночью сгорел очередной барак. Кахалон примчался на пожар, полез в огонь и вынес останки трех маленьких детей. Неделю после этого он не выходил из хижины. Потом поехал в Герцлию – звонить в Америку. Потом отправился в Иерусалим – к Стене Плача.
Вернувшись, он изрек перед своими помощниками очень старую истину: жизнь – как воздушный шарик. Ткни булавкой – и нету. Спешите наслаждаться жизнью.
Открыл Америку. Все уже давно спешат. День за днем наедаются платными удовольствиями – по субботам катят на платный пляж. И там наши израильские мастера глушить деньгами скуку начинают тайно завидовать непутевой избушке на курьих ножках.
Парад в Дамаске
Террориста-смертника, который атаковал израильскую базу в Тире и погиб при взрыве своего заминированного пикапа, видел только один человек – стоявший на часах резервист Давид Илуз из провинциального Кирьят-Гата, где у него жена и двое детей и где он работает шофером автобуса. Илуза в очередной раз призвали на один месяц в санитарную роту в Тире, размещенную в палатках возле двух зданий базы. Он увидел свернувший к базе автомобиль, открыл по нему огонь из ручного пулемета и убил водителя. Машина с пятьюстами килограммами взрывчатки протаранила ворота базы и взорвалась посредине двора.
Воздушной волной снесло одно здание целиком и разрушило часть другого здания. Повторились прошлогодние вылазки террористов, когда в том же Тире погибли люди, и не столь давние – в Бейруте, где тем же способом были взорваны сначала американское посольство, а затем штабы американцев и французов.
К моменту взрыва в двух зданиях базы находились евреи и друзы – наши пограничники и арестованные палестинцы и ливанцы. Погибло пятьдесят человек. Их разорвало так, что не каждого удалось бы опознать без солдатского номерного знака или замаранного кровью документа. Илуза, предотвратившего еще более ужасное несчастье, отшвырнуло на десять метров. Этот дюжий красавец все же поднялся на ноги и поковылял за носилками выносить своего раненого ротного врача. Потом задержал арабов, которые пошатываясь, как и он сам, спешили убраться со двора. Потом сел на землю и обхватил руками контуженную голову, чтобы не слышать истошных воплей из-под развалин. О террористе-самоубийце Илуза спросили несколько часов спустя, уже в хайфской больнице, когда контузия окончательно сломила его и он едва мог говорить.
Ответственность за все атаки террористов-смертников приняла на себя подпольная бейрутская организация "Священная война ислама". Известно, что эта организация – ширма для неливанских вдохновителей и исполнителей террористических актов нового рода. Хомейни откомандировал на Ближний Восток около восьмисот подростков и юношей из числа так называемых "революционных караулов" в Тегеране. Их лагерь расположен в городе Баалбеке на северо-востоке Ливана, занятом сирийскими войсками. Смертники носят на груди записку со словами "Аллах велик", начертанными лично Хомейни. Им также выдают штампованную из красной пластмассы розу. Этот жетон, который полагается носить на сердце, служит пропуском в загробный магометанский рай. Долгое время обладатели таких пропусков сидели тихо – пока Цахал не эвакуировал свои войска с Шуфских гор и не открылся путь из Баалбека в Бейрут.
Газеты у нас теперь говорят об этой новой опасности для Израиля. Да и для других стран, причисленных Сирией и Ираном к гидре мирового империализма. Газеты считают, что террор иранских религиозных фанатиков пострашней палестинского. Это верно: самоубийцу остановить трудно. Разница, впрочем, чисто техническая. Потому что презрение к человеческой жизни, своей и чужой, в обоих случаях одинаковое. Как одинакова идейная накачка. Во всех случаях противника изображают в образе гада, а с гадами, как известно, один разговор, независимо от их породы. В то самое время, как иранец-смертник повернул на израильскую военную базу, палестинцы в районе Триполи резали друг друга так, будто перед ними не люди, и тем более не соплеменники, а гадюки. Когда израильтяне выбивали террористов-палестинцев из лагерей палестинских беженцев в Ливане – предварительно дав срок палестинским женщинам, старикам и детям уйти с места предстоящего боя, – это был геноцид. Теперь, когда палестинцы, переметнувшиеся от Арафата к Сирии, бьют из сирийских пушек и собственных минометов по палестинским женщинам, детям и старикам в лагерях, удерживаемых Арафатом, – это торжество справедливости. Хотя недостатка в информации нет: вездесущее телевидение, американское и французское, снимает и в Триполи. Так что мы, как и весь западный мир, видели молодую арабку с кровавым месивом вместо лица. И арабских врачей, которые роются в этом месиве, отыскивая рот, чтобы вставить в него кислородную трубку.
Но лучше описать другую документальную сцену, вполне бескровную. Месяца два назад в Дамаске состоялся большой военный парад. В нем участвовали не фанатики-иранцы и не анархисты-палестинцы, а дрессированные сирийцы, послушно демонстрирующие как народное ликование, так и народный гнев по хорошо знакомому нам образцу. В Сирии тоже не может быть никакой отсебятины, никакой "инициативы снизу".
Парад передавался по сирийскому телевидению, и наше телевидение показало в записи один эпизод.
Группа сирийских девушек в военной форме выполняла упражнение по закалке воли в борьбе с гидрой сионизма. Упражнение состояло в том, что девушки по команде перегрызли белыми зубами живых черных змей, проглатывая чешую вместе с мясом. Затем мужчины-инструкторы зажарили змей на вертелах и тоже закусили. Все это происходило под самой трибуной, на которой сидел президент Асад со своими соратниками. Соратники энергично выражали одобрение. Лицо президента было, скорей, умиротворенно-задумчивым, что вполне соответствовало отзывам о нем на Западе, где его считают умным и дельным политиком. Лишь при бурных аплодисментах и он степенно похлопал. Видно было, что его мысли заняты более существенными вещами, чем показательные упражнения девушек из сирийского комсомола.