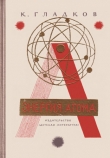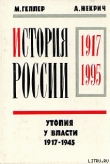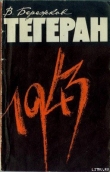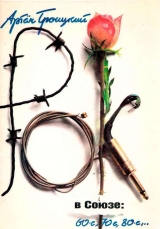
Текст книги "Рок в Союзе: 60-е, 70-е, 80-е..."
Автор книги: Артемий Троицкий
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 14 страниц)
В начале 80-х, с появлением "филармонического" рока, это стало совершенно очевидным. При всех своих почетных званиях, привилегиях и непоколебимой лояльности ТВ и радио "образованные" композиторы теряли популярность, престиж и – самое неприятное – деньги [69]69
Авторские гонорары у нас начисляются с теле– и радиопередач, публичных концертов и исполнения песен в ресторанах и кафе. Только в первом из этих пунктов члены Союза сохранили свои позиции.
[Закрыть]. Они старались конкурировать с молодыми авторами, но не очень успешно: даже искусные аранжировщики были не в силах сотворить нечто современное из их допотопных песен. Рокеры, даже поставленные в заведомо неравноправные условия, выигрывали битву за публику. И, отказавшись от честной игры, Союз композиторов воспользовался своими широкими связями, чтобы буквально заставить поп-группы исполнять старческие сочинения его членов.
Менее влиятельной, но громкой и претендующей на "духовность" фракцией антирокового лобби были и так называемые "почвенники", то есть русофильски настроенные деятели культуры, в основном литераторы, идеалом которых является патриархальный деревенский уклад. Соответственно, у них принципиальная аллергия на все "нерусское" и урбанистическое. Фактически это хрестоматийно-реакционное движение с сильными монархическими и шовинистическими тенденциями и излюбленным тезисом о том, что "Ленин был немец, а революцию сделали евреи". Однако в своих публикациях они мудро воздержались от изложения подобных соображений и вместо этого с легким сердцем громили рок, дискотеки и майки с нерусскими надписями. Все это, по мнению "почвенников", отрывало нашу молодежь от "русских корней", заставляло ее забывать о "национальной гордости" и "великом наследии прошлого" и ввергало ее в пучину бессовестности и разврата.
Зима 1984 года. Профессиональные группы – в полном смятении. Каждая должна была выступить перед комиссией Министерства культуры с новой программой, состоящей на восемьдесят процентов из "не своего" материала… "Карнавал" дважды "не прошел" прослушивание и распался. "Машина времени" с трудом наскребла несколько чужих песен и трепетно ждала своей участи, сидя в Москве без права на гастроли. "Автограф" отрепетировал программу инструментальной камерной музыки ("надеемся, что для нас сделают исключение").
Владимир Кузьмин нашел циничный, но остроумный выход: он объявил себя солистом, а "Динамик" сделал безымянной аккомпанирующей группой. Все, таким образом, оставалось по-прежнему, за исключением одного: драконовское постановление Министерства культуры его как "солиста" уже не касалось!
Смешно. И горько: казалось бы, официоз должен трубить в фанфары, радоваться тому, что подростки наконец-то получили в кумиры своих соотечественников, что впервые за пятнадцать лет советская поп-музыка и песни на русском стали популярны и престижны у молодых… Но у бюрократов своя извращенная логика и свои представления об интересах страны. Я помню заседание одной комиссии. Программу сдавал "Круиз", и группа подготовилась очень хорошо – на обсуждение были приглашены известные музыканты, журналисты, режиссеры и даже несколько либеральных членов Союза композиторов. В течение двух часов все они дружно пели дифирамбы таланту, трудолюбию, виртуозности и актуальности прекрасного ансамбля "Круиз"… Затем встал председатель комиссии, заместитель министра культуры Российской Федерации Колобков, бывший аккордеонист с манерами неврастеника, и сказал примерно следующее: "Мы очень благодарны столь авторитетным и уважаемым специалистам за внимание к работе ансамбля. Ваши теплые слова, мы надеемся, помогут молодой группе в дальнейшем. Пока же мы считаем, этот коллектив не созрел для самостоятельной концертной работы". Таков "совет"… "Зачем он нас всех дурачил, если все было известно заранее?" – возмущался на обратном пути композитор-лауреат Тухманов, меланхолично крутя руль своей черной "Волги".
Напряжение росло не только в филармониях. Слово "рок" начали вычеркивать из статей, и приходилось прибегать к идиотской эквилибристике, ища подходящую замену: "современная молодежная музыка", "электрическая гитарная песня"… Вышеупомянутый опрос критиков не печатали в течение трех месяцев. Наконец он был опубликован, но с некоторыми усовершенствованиями: из списков бесследно исчезли "группа № 2" – «Машина времени» и"вокалист № 1"– Александр Градский. Мотивировка редактора газеты: «Кое у кого из начальства они вызывают сомнение…» Очень забавно, что при этом в списке остался «Аквариум»: «кое-кто из начальства» их просто не знал.
Но вскоре узнали, и даже слишком хорошо. Весной 1984 года пошла вторая волна атак на рок. Главным объектом ее на сей раз были уже не деморализованные профессиональные группы, а "самодеятельность". Наконец-то на ребят "из подполья" всерьез обратили внимание! Однако совсем не так, как им хотелось бы. Пока любительские ансамбли существовали на локальном уровне, у них были локальные проблемы. "Пленочный бум" не только прославил их, но и сделал гораздо более уязвимыми. Государственный культурный аппарат пришел в замешательство, обнаружив под боком целый альтернативный "рекорд-бизнес". Немедленным позывом было: "Запретить!" И все было бы сделано для этого, но проект оказался нереалистичным. Невозможно было запретить звукозапись, невозможно было пресечь перезапись и тиражирование "альбомов". Тем более их прослушивание – дома и на вечеринках. Единственным беззащитным звеном этой цепи были дискотеки – по этим многострадальным заведениям и был нанесен удар. Самодеятельные рок-записи были окрещены емким и зловещим словом "магиздат" – по аналогии с диссидентским литературным "самиздатом". Непонятно откуда появились и распространились со страшной скоростью загадочные "черные списки": никто точно не знал их происхождение и того, насколько они "официальны", но у чиновников, всегда чувствующих себя увереннее с бумагой в руках, они имели большой успех [70]70
Когда возмущенные диск-жокеи и музыканты приходили в органы культуры за разъяснениями по поводу «списков», им отвечали, что эти бумаги силы не имеют и представляют собой «личное мнение» неких сотрудников Минкультуры. Однако это было известно только в Москве, поскольку никакого официального опровержения «черных списков» не поступило, некоторые «деятели культуры» в провинции руководствуются ими до сих пор!
[Закрыть]. В списках, под шапкой «идейно-вредные», были перечислены практически все более или менее известные русскоязычные любительские рок-исполнители. Сегодня все это выглядит совершенно анекдотично: многие «враги» стали респектабельными профессионалами, выпустили пластинки, не сходят с телеэкранов… Но тогда это было грустно и несправедливо. «Идеологический» и прочий вред наносился не теми, кого запрещали, а теми, кто запрещал. Молодежь лишалась права выбора, музыканты – «легальной» перспективы, музыка – будущего. «С рок-музыкой у нас все в порядке – у нас ее нет!» – гордо отрапортовал начальник одного из провинциальных горотделов культуры корреспонденту столичной газеты… И тем не менее музыка была.
В марте 1984 года "Комсомольская правда" опубликовала мою статью, где говорилось о том, что рок-группы глупо ставить вне закона, они только уйдут еще более глубоко в "подполье". С ними надо работать: "воспитывать" музыкантов. (Резонная, написанная с "государственных" позиций безобидно-либеральная вещица, где в качестве положительного примера приводились ленинградский и рижский рок-клубы…) Но даже это вызвало остервенелую реакцию культур-бюрократии, ведь в статье шла речь о ее безделье и некомпетентности, о том, что запретить легче, чем сделать что-то позитивное… Вскоре я обнаружил, что сам тоже "запрещен". Придя в одну, другую, третью редакции, я повсюду встречал кислые физиономии сотрудников и слышал сокрушенную фразу: "Ты знаешь, шеф сказал, что с тобой сотрудничать не рекомендовано. Было какое-то постановление. Они там даже назвали твой псевдоним… Так что это серьезно".
Ситуация напоминала случай с Йозефом К., описанный Францем Кафкой. Я ничего толком не мог узнать: ни кто меня "запретил", ни каким образом меня "запретили". (Я не знаю этого до сих пор.) Можно было только примерно догадаться, за что был наложен запрет: знакомые и коллеги приносили интересные, иногда даже лестные слухи о каких-то совещаниях, циркулярах и инструктажах, где меня называли лидером панков, пособником подпольного движения, человеком, дезориентирующим советскую молодежь, и просто негодным журналистом, копирующим западный стиль. Я был бы счастлив услышать это все собственными ушами из первых источников и задать несколько вопросов, но меня никто никуда не приглашал.
Это было время очень глупых решений. Однако разрушительный эффект их был невелик: требования культур-бюрократов и их советчиков оказались настолько абсурдными, что не было никакой возможности контролировать их исполнение. Таким образом, профессиональные рок-группы разными способами, но всегда успешно обходили постановление о "восьмидесяти процентах". В дискотеках вовсю крутились "нерекомендованные" пленки – хотя иногда наведывались ревизии и случались скандалы. Я продолжал печататься в Москве под фамилиями своих подруг, а в Прибалтике, куда ветры из столицы не всегда доходят, как ни в чем не бывало выступал по телевидению. Гребенщиков, Майк и прочие "запрещенные" ленинградцы увлеченно записывали новые альбомы в студии Андрея Тропилло… В целом это был активный и плодотворный период, что подтверждает известный тезис о том, что лучший рок часто рождается "под давлением".
Московская сцена до 1983 года была скучной и пустынной. Посредственные группы, да и тех немного. Группа «Воскресенье»была оперативно задержана во время левого концерта в Подмосковье, после чего ее главный автор, Леша Романов, один из скромнейших и интеллигентнейших людей в столичной рок-компании, был осужден и посажен как злостный махинатор в особо крупных размерах! Большой несбывшейся надеждой осталсяСергей Рыженко, скрипач и певец из «Последнего шанса». Он начал писать превосходные песни, которые коллеги по ансамблю сочли слишком «грубыми», и собрал собственную «электрическую» группу «Футбол». Рыженко – резкий, артистичный вокалист и мастер «сюжетных» песен. Он сочинил новую, довольно сексуальную версию истории о Красной Шапочке и Сером Волке, трогательную песню о маленькой девочке, посланной в большой гастроном за водкой, историю о том, как парень вышел в теплый день попить пива, но встретил столько друзей, что так и не вернулся домой, и т. д. Будучи хорошим стилизатором, он, в отличие от других наших авторов «новой волны», редко писал о собственных переживаниях и предпочитал разные маски:
"Утром, как всегда, вставай
В полседьмого.
Переполненный трамвай,
Злое слово.
Суета у проходной —
Весь день как в сказке.
А потом спешишь к пивной —
Все как всегда…"

Сергей Рыженко
Здесь онпоет от именирабочего, хотя сам никогда не жил такой жизнью. У меня это не вызвало особого доверия: все наши интеллигентные рокеры, даже большие пьяницы и драчуны, знали жизнь рабочего класса более чем поверхностно. Главным достоинством песен Рыженко была их живость и… как бы эго сказать? – близость к народу… Этоименно не «фолк-рок», а электрические народные песни, простые, напевные и бесшабашные. К сожалению, за год существования группа дала всего два или три концерта, после чего распалась и Рыженко взялся играть на скрипке в «Машине времени». (Там его песни тоже не захотели играть, и он ушелспустя два года.)
Первой настоящей группой нового поколения московского рока стал "Центр". Сначала я услышал их катушку, записанную весной 1982 года. Настоящий "гаражный" рок: свингующий электроорган с дешевым звуком, беспорядочная гитара и очень натуральные "грязные" голоса. Песни назывались

Василий Шумов

«Центр»
«Мелодии летают в облаках», «Звезды всегда хороши, особенно ночью», «Танго любви», «Странные леди». Интересны были три обстоятельства. Во-первых, это было очень весело. Во-вторых, масса прекрасных, просто классических рок-риффов, которыми могли бы гордиться ранние «Кинкс» или «Студжес». В-третьих, удивительный лексикон и образность: это не были ни «улично-алкогольные» атрибуты ленинградского розлива, ни возвышенный символизм школы Макаревича с ее «свечами», «кораблями» и «замками». Что-то другое: смесь самой наивной сказочной романтики (остров Таити, принцессы и ведьмы) и самой конкретной бытовой прозы (аэробус, радиоактивность, теннисные туфли). Скажем, описание космического путешествия с любимой девушкой заканчивается так:
"И секунды станут столетьем,
Во дворце из крох метеоров,
И когда ты вернешься на Землю,
То напишешь об этом очерк.
Если будут еще газеты
И в войне не погибнут люди…"
Можно быть уверенным, что ни одна другая рок-группа никогда не использовала в текстах слово«очерк». При всей мечтательности песни не были глупыми или избегающими реальности:
"Кто-то смотрит в окно:
Телевизора синь.
Все давно решено,
Без особых причин.
Забываясь в ночи,
Утром вскочишь с постели
В одинаковый ритм
Семидневной недели".
Там был и один из самых трогательных гимнов року:
"Когда в океанах любви
Поселились акулы секса,
Русалок нежные плавники
Стали похожи на пистолеты.
Когда золотые рокмены
Разбивали гитары и усилители,
Становилось ясней и ясней —
Их тамбурины били тревогу.
«SOS» слышит каждый, «SOS» —
ты и я.
Сказка носится по ветру —
Открыта новая земля".
Так 80-е годы пришли в Москву. Вскоре я увидел «Центр» живьем, в уютном черном подвале, где играл спектакли лучший московский любительский театр – «Студия на Юго-Западе». Им было по двадцать лет, они были одеты в аккуратные костюмы, их лидера, бас-гитариста и автора песен, звали Василий Шумов – идеальная фамилия для рокера. Они были невозмутимы. Дружелюбны, но загадочны.
Летом я привез их на незабываемый фестиваль в Выборг: первое турне московской группы второго поколения прошло триумфально. "Центр" играл мощно и сосредоточенно и не оставил шансов расслабленным ленинградцам. Спустя несколько месяцев, в ноябре 1983 года, я решился устроить им "генеральный показ": престижный зал на 1200 мест, с трудом арендованная аппаратура "Динакорд" и множество важных гостей – пресса, ТВ, композиторы, рок-звезды. Мне хотелось доказать им всем, что есть жизнь и после "Машины времени", есть талантливая молодежь и реальная "новая волна". Я приехал во Дворец культуры за сорок минут до концерта и в комнате артистов застал роскошную картину: множество пустых бутылок из-под водки и четыре невменяемых существа. Только пятый, молодой ритм-гитарист Андрей, сын известного композитораАльфреда Шнитке, обнаруживал признаки жизни – он предложил мне допить бутылку. Оказывается, сегодня был день рождения ударника. Нужно было или отменять выступление, или надеяться на чудо. Я с трудом растолкал музыкантов и попросил их подготовиться к выходу на сцену… Концерт был уникальный: они пели мимо микрофонов, не попадали по клавишам и струнам, хотя, к счастью, никто не упал. Катастрофа, конечно. Мало кто понял, что они совершенно пьяны, но все удостоверились, что они очень плохи… Эта история показывает, почему «Центр», при своих редких достоинствах, никогда не был особенно популярен: они всегда были искренне равнодушны к успеху.
Непредсказуемость "Центра" проявлялась не только в поведении, но и в музыке. Василий Шумов одержим самыми неожиданными идеями и влияниями: китчевый советский поп 30-х и 60-х годов, проза Эдгара По и поэзия Артюра Рембо, русский декаданс начала века и мрачный пост-панк… Удивительно, что при этом – в отличие от "Аквариума" – не создавалось впечатления эклектики.
В 1984 году группа вошла в фазу "концептуализма". Они записали два коллажных мини-альбома, состоящих помимо нескольких "нормальных" песен из крошечных музыкальных скетчей. Как, например, "Воспитание":
"Мама сказала: "Все твои подруги
устроили свою жизнь".
Мама сказала: "Подумай, сколько
тебе лет!"
Мама сказала: "Чтобы в моем доме
не было этого проходимца".
Папа сказал: «Смотри у меня!»
Папа сказал: «Оставьте меня…»
Или «Вспышка» (под клавесинную мелодию в духе музыки Возрождения):
"Мужской голос.Иванова!
Голос девушки.Я!
Мужской голос.Вспышка справа!
Голос девушки.Есть!
Мужской голос.Вспышка слева!
Голос девушки.Есть!
Мужской голос.Вспышка справа!
Голос девушки.Есть!
Мужской голос.Вспышка-а-а!"
Шум, треск, звук короткого замыкания, испуганный голос девушки – "Ой", – и мелодия продолжается.
Трудно сказать, что это означает, но похоже на занятия по гражданской обороне.
У "Центра" не нашлось прямых последователей и горячих поклонников. Любительская сцена была пестрой, но скучной. Фаны тоже выглядели растерянными. Авторитет профессиональных рок-групп упал по сравнению с недавним ажиотажем. Никаких заметных новых течений не было. Одевались все как попало. Самым шумным, массовым среди тинэйджеров было движение футбольных болельщиков: скандирующие толпы в одинаковых красно-белых ("Спартак") или синебелых ("Динамо") шарфах и соответствующие граффити на стенах домов. Кажется, футбол был посредственным, но рок убеждал не больше.
Сенсация наконец-то произошла на одном концерте в декабре 1983года. Это было большое диско-кафе в пристройке олимпийского велодрома. Выступали разные группы: «Центр» сыграл вяло и покинул сцену, не снискав аплодисментов, публика с нетерпением ждала момента, когда диск-жокей запустит Майкла Джексона или тему из «Флэшданс». Вместо этого вышли четверо парней, одетых как стиляги 50-х и очень неплохо сыграли инструментальную увертюру из «Мэднесс». Как я выяснил во время соло на саксофоне, это была новая группа под названием «Браво». Гитариста по имени Евгений Хавтан я сразу узнал – он раньше играл в «Редкой птице». Хрупкий, испуганный и кудрявый, в мешковатом костюме, он был очень похож на молодого Чарли Чаплина… Когда закончилось инструментальное вступление, на сцену буквально вылетела девица в замшевой мини-юбке и кожаной куртке явно с чужого плеча. В первую секунду я ее пожалел: Барбра Стрейзанд выглядела бы рядом с ней как курносая куколка. В следующую секунду гадкий утенок предстал абсолютно восхитительным созданием. Она пела самозабвенно и плясала так, будто ее год держали взаперти, ее глаза сияли счастьем… Публика стояла на ушах – и было от чего сходить с ума.
Конечно, и до "Браво" у нас бывало на сцене весело. Особенно если музыканты напивались. Но в этот раз… Девушка воспринималась как откровение. Советский рок, по-видимому, самый «дефеминизированный»из всех. Женских групп, за исключением пары декоративных ВИА, у нас никогда не было. Девушек-музыкантов – буквально единицы; я вспоминаю бас-гитаристку из «Интеграла» и двух эстонок: пианистку Анне Тюйр из «Ин Спе» и вибрафонистку Терье Терасмаа ("Е=МС 2; «Куллер»), Далее солистки – Айва Браун («Сиполи»), Настя Полева («Трек»), Лариса Домущу («Джонатан Ливингстон» из ленинградской группы второй лиги), – но они не играли в своих ансамблях главных ролей. Можно долго гадать о том, почему так. Думаю, что виноваты давние русские традиции.
Во всяком случае, "Браво" эти традиции сломали: их девочка блистала, затмевая всех вокруг, и ее удивительная личность – смесь примадонны и хулиганки – трансформировала непритязательные веселые твисты во что-то более глубокое и трогательное.
Девочку звали Жанна Агузарова. Амбициозная провинциалкаприехала завоевывать Москву, но провалилась на экзаменах в театральный институт. Ей было негде жить и нечего делать, но уезжать из столицы не хотелось. Кто-то дал телефон Хавтана, она позвонила из автомата и сказала, что хочет петь. «Она пришла, спела какой-то импровизированный блюз, и мы все обалдели…». Тогда же она придумала престижную сказку, что ее зовутИвана Андерс,а родители– дипломаты и работают за границей. Это было очень по-детски, но и свидетельствовало о прекрасных актерских способностях: ни у кого из музыкантов и даже близких друзей не возникло сомнений в том, что так и есть на самом деле. «Браво» покорили Москву за одну ночь.
Со времен танцев под доморощенных битников мы успели отвыкнуть от того, что живой рок-н-ролл – это не только "круто", но и весело… Со всех сторон посыпались предложения от подпольных менеджеров, и группа пошла играть по кафе, клубам и студенческим общежитиям. Увы, на дворе стоял трудный 1984 год, и турне продолжалось недолго. Один из концертов был прерван появлением милиции. Возникло дело о нелегальных пятирублевых билетах, аппаратура группы была арестована, а дальнейшие концерты объявлены нежелательными. (К счастью, до этого "Браво" успели записать удачный мини-альбом.) Вся столичная рок-тусовка замерла в нерешительности:выказывать признаки жизни в родном городе стало рискованно.
В марте многие лидеры московской любительской сцены (Чернавский, "Альянс", "Альфа" и другие) снимались на Ленинградском телевидении в главной дискотеке города "Невские звезды". Это был и теледебют "Браво". Жанна пела "Белый день". Она была в грязных белых балетных тапочках, инезнакомая публика слушала как зачарованная:
"Верю я,
Ночь пройдет, сгинет мрак.
Верю я,
День придет, весь в лучах…"
На обратном пути, когда мы уже подходили к вокзалу, она вдруг вцепилась в мойлокоть и жалобно попросила: «Давай еще останемся в Ленинграде. Я так не хочу возвращаться в Москву…» Конечно, мы уехали, и через пару дней ее задержала милиция. Оказывается, безумная Жанна, боясь развенчать свою легенду, подделала удостоверение личности на имя «Иваны Андерс»… Дело закрыли, аппаратуру «Браво» вернули, а вот певицу – нет. Ее послали в Сибирь, где жила ее ничего не подозревающая родня. Первая леди московского рока замолчала на полтора года, все это время она работала приемщицей в таежном леспромхозе [71]71
В Сибири Жанна Агузарова участвовала в областном конкурсе молодых талантов и заняла там первое место. Местная газета констатировала: «Богата талантами Тюменская земля!» Кстати, это было первым упоминанием о ней в нашей прессе.
[Закрыть].
Тем временем в Москве заявил о себе новый рок-аттракцион, "Звуки Му". Некто Петр Мамонов (р. 1951), лысеющий, с щербатыми зубами и страшным шрамом на груди от удара напильником в областьсердца, началписать песни в 1982 году. Я знал его уже лет десять как остроумного пьяницу, дикого танцора и поэта-неудачника. Однажды он пришел ко мне домой с гитарой и запел. Это было потрясающе смешно, сильно и необычно. Маниакально-напряженные «польки-роки» на одном-двух аккордах, исполненные с криками, хрипами вперемежку с молчанием. Песни касались в основном личных переживаний Петра, навеянных тяжелыми отношениями с любимой девушкой.


Евгений Хавтан, Жанна Агузарова ("Браво"")

Петр Николаевич Мамонов
Вскоре он организовал группу со своим еще более непутевым младшим братом Алексеем на ударных и длинным флегматичным клавишником по имени Павел. Я взялся было солировать на электрогитаре, но дело становилось слишком серьезным, репетиции – регулярными, и я ушел. «Добрым гением» «Звуков Му» оказался Александр Липницкий, наш общий друг юности, добрейший и увлекающийся «старый хиппи», пожертвовавший своей коллекцией старинной живописи ради инструментов и аппаратуры. Он «с нуля» начал играть на басу.
Первое выступление "Звуков Му" (февраль 1984 года) произошло в школе, где Мамонов и Липницкий учились двадцать лет назад и откуда они были в свое время исключены за плохое поведение. В этот раз повзрослевшие хулиганы вели себя не лучше. Петр оказался крайне буйным, эпилептическим шоуменом: по гротескности и накалу энергии зрелище можно было сравнить с лучшими шоу Волконского – при этом оно имело отчетливый русский колорит. Мамонов представлял самого себя, но в немного гиперболизированном виде: смесь уличного шута, галантного подонка и беспамятно горького пьяницы. Он становился в парадные позы и неожиданно падал, имитировал лунатизм и пускал пену изо рта, совершал недвусмысленные сексуальные движения и вдруг преображался в грустного и серьезного мужчину. Блестящий, безупречный актер! Публика единодушно сочла его шизофреником или невменяемым, но в действительности это была потрясающая артистическая интуиция.
Аранжированная "в электричестве" музыка группы звучала довольно интересно: верный рок-минимализм вклинивался в традиционные бытовые мелодии блюза и вальса. Тексты сам Петр определил как "русские народные галлюцинации": цепочки невнятных психоделических [72]72
Отличительная черта «русского» психоделика в том, что он базируется не на наркотическом, а сугубо алкогольном опыте.
[Закрыть]образов, навязчивый бред сумеречного сознания.
"Я засыпаю, я ложусь спать,
Подо мною скрипит и трясется кровать,
И ночью надеюсь я только на то,
Что утром меня не разбудит никто…".
Другая песня:
"Проснулся я утром, часа в два,
И сразу понял – ты ушла от меня.
Ну и что? Ну и что, что ты ушла?
От меня?
Все равно, опять напьюсь".
Еще одна:
"Я совсем сошел с ума,
И все от красного вина,
Ночью я бухать люблю.
Ночью мне поет Кобзон,
Не пойму, где я, где он.
Ночью все цвета страшны,
Одинаково черны…"
И т. д.
В словах не было особого смысла и фантазии, но все вместе "работало" хорошо. Публика истерически хихикала, но было скорее не смешно, а страшно. Такого раньше не приходилось испытывать.
В июле "Звуки Му" попробовали дать концерт в день рождения Липницкого на небольшой открытой площадке в дачном поселке. Перед началом выступления подъехали машины милиции, и все пришлось перенести на "частную территорию" – дачу именинника. Позже я слышал, что в "инстанциях" это квалифицировалось как успешная операция по пресечению опасной идеологической диверсии. Все самодеятельные рок-концерты в Москве прекратились почти на год.
Единственным цветущим оазисом рока оставался Ленинград. В мае 1984 года прошел II фестиваль, и здесь новый рок уже не оставил шансов ветеранам.
Виктор Цой представил "электрическое" "Кино", уже без исчезнувшего "нелауреата" Рыбина. Крепкий и жесткий постпанковый квартет исполнил в числе прочих "Безъядерную зону" – одну из немногих популярных по-настоящему и искренних антивоенных рок-песен.

«Телевизор»
Фото А. Усова
"Как ни прочны стены наших квартир,
Но кто-то один не подставит
за всех плечо.
Я вижу дом, я беру в руки мел,
Нет замка, но я владею ключом.
Я объявляю свой дом
безъядерной зоной.
Я объявляю свой двор
безъядерной зоной.
Я объявляю свой город
безъядерной зоной!.."
Даже у этой песни нашлись гневные критики, заклеймившие ее как «мягкотелый пацифизм»…
Хорошую пару "Кино" составила новая группа "Телевизор". Как у типичных представителей ленинградского рока, тексты были интереснее, чем музыка, и. пожалуй, все было сыровато и недорепетировано. Они начали выступление, проломив огромный картонный телеэкран на сцене, и это не было пустой претензией. "Телевизор" обнаружил настоящую страстность. Их лидер, клавишник и певец Михаил Борзыкин, несомненно находился под влиянием поэзии Гребенщикова. Только он был моложе, драматичнее, злее. Я запомнил отличную песню о ленинградских фарцовщиках:
"Он знает, что где в моде,
Изучена фирма,
Ему не надо бога —
Он верит в свой карман.
Всегда собой доволен
И недоволен всем.
Была бы только воля —
Он ушел бы насовсем.
Всегда немного желчен
И простенько умен.
Любимец лживых женщин,
Продажных, как и он…"
Точный портрет… Впрочем, Борзыкин был полон не только сарказма, но и надежд:

Андрей Отряскин у микрофона (редкий кадр)

Игорь Тихомиров («Джунгли» – «Кино»)
"Пускай за моим фо-но – я и снег.
Черно-белые клавиши ждут весны.
Пускай не хватает красок в этом сне —
Я еще не забыл цветные сны…"
Было здорово и одновременно больно слушать эти песни и наблюдать восторг публики в рок-клубе: неужели это «идеологическая диверсия»? Музыка, «чуждая» нашей молодежи? И когда наступит весна?
Самое сильное впечатление фестиваля – "Джунгли". Настоящего инструментального рока у нас никогда не было. Я не могу отнести к нему виртуозную "фоновую музыку", обожаемую коммерческими джазменами и студентами музыкальных училищ. "Джунгли" заполнили этот зияющий пробел, и как! С тех пор как я услышал его в тот фестивальный день, Андрей Отряскин занимает первое место в моем списке лучших советских рок-гитаристов. Он использовал самодельную гитару с максимально выведенным флэнже-ром и извлекал самые невероятные звуки, играя ритм, соло и "шумовые" партии одновременно. Стилистически это был неистовый фри-фанк с неожиданными атональными поворотами и взрывным ритмом. Я помню, меня это так завело, что я заорал коллегам по жюри: "Это лучшая музыка в Ленинграде со времен Шостаковича!" Потом, за кулисами, Отряскин сказал, что работает дворником в консерватории. Впрочем, это было нормально. "Джунгли" показали рок-клубу, что такоенастоящая бескомпромиссная музыка… К сожалению, они так и остались в одиночестве: модные английские пластинки воздействовали все-таки сильнее.
Кстати говоря, новым важнейшим фактором "западного влияния" стало видео. Вначале видеомагнитофоны были уделом элиты, но постепенно жуткие цены падали, видеодек становилось все больше, и бедные музыканты тоже получили к ним доступ. У более богатых приятелей или даже покупая аппаратуру в складчину. Видео повсюду заметно умерило домашнее веселье: вместо застолья и танцев все гости усаживались к монитору и молча начинали смотреть. Как фактор престижа, видео отодвинуло на второй план "фирменные" пластинки, и из-за этого их стали привозить меньше. Разумеется, все эти мелкие неприятности возмещались самим фактом наличия видеоинформации. Мы смогли увидеть "в движении" то, что до сих пор только слушали и про что читали. Видео здорово раздвинуло сознание музыкантов и, естественно, вдохновило их на новые трюки.


Костя Кинчев



Сцены из "Популярной механики"
Первой советской рок-звездой видеостиля стал Костя Кинчев. Он жил в Москве, писал песни, но подходящих партнеров нашел только в Ленинграде в лице средней рок-клубовской группы «Алиса». Во главе с новым солистом «Алиса» наделала шуму в рок-клубе еще осенью и произвела, как и ожидалось, сенсацию на III городском фестивале в начале 1985 года. Костя, пластичный парень с выразительной мимикой, большим ртом и глазами навыкате, выглядел на сцене как гуттаперчевый демон. Он пугал и заклинал публику, простирая к ней руки в черных перчатках, стонал, шептал и агонизировал в стиле рэп. Но прежде всего он был призывно сексуален. Запретный плод, воспетый в словах мешковатым Майком, здесь представал в натуре. Как это ни странно, тексты «Алисы» не имели к сексу никакого отношения. Напротив, это была социальная сатира пополам с патетическим молодежным мессианством. Alter ego Кинчева был герой песни «Экспериментатор»:
"Экспериментатор движения вверх-вниз
Видит простор, там где всем видна стена.
Он знает ответ, он уверен в идее,
Он в каждом процессе достигает дна".
Костя Кинчев не побоялся взвалить на себя роль «рупора поколения» и открывателя новых горизонтов. Он начисто отбросил двусмысленность и скрытую иронию, столь характерные для нашего рока, и взял на вооружение самые громкие слова и страстные призывы – все то, что наша недоверчивая публика привыкла издевательски называть словом «пафос». Плакатность его песен часто бывала сродни официальным комсомольским гимнам, но музыкальный и визуальный контекст, естественно, переводил их в иное измерение. И ребят это удивительно воодушевляло. Оказывается, рок-народ устал от собственной социальной ущербности и нуждается в лозунгах и лидерах. Песни назывались «Энергия», «Мое поколение», «Идет волна», «Мы вместе»…

«Кино»
"Импульс начала, мяч в игре.
Поиск контакта, поиски рук.
Я начал петь на своем языке,
Уверен – это не вдруг.
И я пишу стихи для тех, кто не ждет
Ответ на вопросы дня.
Я пою для тех, кто идет своим путем.
Я рад, если кто-то понял меня —
Мы вместе, мы вместе!"
Слова звучали актуально. Холод доходил и до Ленинграда. «Аквариум», «Кино» и особенно «Зоопарк» часто ругали в прессе. III фестиваль проходил в довольно нервной обстановке: присутствовали наблюдатели от Министерства культуры. Делать фотографии и записи разрешалось только избранным членам рок-клуба. При входе все сумки обыскивались.