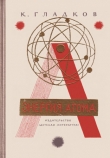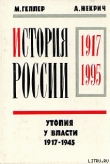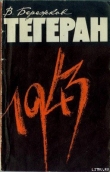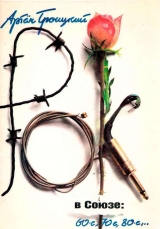
Текст книги "Рок в Союзе: 60-е, 70-е, 80-е..."
Автор книги: Артемий Троицкий
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 14 страниц)
Самый популярный ансамбль Эстонии – "Рок-отель". Фактически это супергруппа ветеранов: седой бас-гитарист Хейго Мирка, игравший еще в "Оптимистах", Маргус Каппель, стильный клавишник из "Руи", певец Иво Линна, разочаровавшийся в бесконечных халтурных гастролях знаменитого "Апельсина"… В репертуаре "Рок-отеля" были почти исключительно классические рок-н-роллы 50-х годов. Они вежливо отказались от участия в официальной программе фестиваля – ("мы не исполняем оригинальный материал") – и играли по ночам на танцах.
1982. "Гран-при" получил "Радар" – эстонская сборная команда по джаз-року, возглавляемая Паапом Кыларом, бывшим ударником "Психо". Они звучали "живьем" точно так же, как Билли Кобхэм и Джордж Дюк на пластинках. "Надеждой на будущее" объявили молодую фанки-группу "Махавок".
Среди изобилия кантри-рока, поп и фьюжн единственным настоящим открытием (для меня по крайней мере) стал ансамбль "Контор". Одетые в глухие "конторские" костюмы, – некоторые даже в нарукавниках! – они показали программу в духе декадентского кабаре, стилистически варьирующуюся от слезливого ретро-свинга до невротической "волны". Тон задавал тощий гибкий парень в черном котелке и с тростью – профессиональный актер, мим и фокусник Хейно Селъямаа. Шоу было выдержано в духе мрачноватого китча и, по мнению эстонцев, содержало элемент довольно острой сатиры.
Вообще говоря, об эстонском роке мне писать в каком-то смысле даже труднее, чем об английском или американском, поскольку смысл песен всегда ускользает. Одной-двух ключевых фраз, которые переводили друзья, конечно, недостаточно. И тот факт, что тамошние группы ориентированы на текст в меньшей степени, чем русские, служит слабым утешением, особенно в те моменты, когда весь зал смеется или аплодирует какой-то фразе, а ты сидишь и чувствуешь себя отчужденно и глупо. Это остро проявилось на следующем фестивале.
1983. Впервые в Тарту была допущена группа Харди Волмера – самое веселое и проблематичное порождение эстонской рок-сцены первой половины 80-х годов. Основу ансамбля составляли изобретательные молодые интеллектуалы из Таллиннской художественной академии. Вследствие постоянных трений с властями они неоднократно меняли названия: сначала – "Фиктивный трест", затем – "Турист". В Тарту группа предстала под названием "Тоту кул" ("Незнайка на Луне").

Харди Волмер («Тоту Кул» – «Турист»)
Фото Т. Нооритса
Харди Волмер, певец и вдохновитель группы, выбежал на сцену с сачком для ловли бабочек и жестяным барабаном на груди. Подобно знаменитому герою Гюнтера Грасса, он страстно бил в этот барабанчик и как бы с чисто детской наивностью пел об абсурдном и лживом «взрослом» мире: о карьеризме, погоне за вещами, светских сплетнях, культе денег.
Группа играла энергичный неприглаженный рок – немного похоже на "Клэш" позднего периода. Сами они назвали свой стиль "невро-рок", и это соответствовало действительности. Замечательная группа! У них было все, чего не хватало большинству эстонских ансамблей с их сонным блеском и академичностью.
Группа Хейно Селъямаа не смогла собраться на фестиваль в полном составе, поэтому публике было представлено вокальное трио "Контор-3". Они вышли на сцену в официальных костюмах, с портфелями в руках и запели, прекрасно имитируя всем знакомую казенно-помпезную манеру, массовые песни конца 40-х вроде "Марша женских бригад" или "Славы шахтерам-ударникам"… Это был беспощадный гротеск. Постоянный председатель жюри тартуских фестивалей, эстрадный композитор-ветеран Вальтер Оякяэр, сокрушенно убеждал меня: "Конечно, сейчас это выглядит нелепо, но зачем ворошить прошлое? Певцы, которые пели тогда эти песни, уже старые люди, как можно над ними издеваться?" Нет, "бюрократический поп" отнюдь не принадлежал прошлому, он существовал и процветал по сей день, пусть и в "модернизированной" форме [55]55
Достаточно было посмотреть любую эстрадную передачу по Центральному телевидению, чтобы убедиться в этом.
[Закрыть].
"Контор-3" только своевременно напомнил о его уродливых, но реальных корнях.

«Желтые почтальоны»
Петер Волконский вернулся. Из реквизита своего театра, который когда-то ставил «Физиков» Дюрренматта, он взял костюмы, маски и парики, нарядил в них музыкантов «Ин Спе», назвал их Архимедом, Паскалем, Оппенгеймером, Курчатовым и т. д., себя – Эйнштейном, а всю группу – "Е = МС 2". Он сочинил антиядерную сюиту под названием «Пять танцев последней весны» (будто предчувствовал, что произойдет спустя три года) – и это было нечто потрясающее [56]56
Сразу после концерта я прибежал в передвижную студию Эстонского радио: "Есть пленка "МС 2"? – «О, нам сказали, что передавать все равно не будут, поэтому мы как следует не записывали…». Потом сюита исполнялась еще один или два раза, и тоже без записи. Это трагично: одно из самых впечатляющих произведений советского рока, похоже, исчезло бесследно.
[Закрыть].
Музыка была гиперэмоциональным коллажем рока, шума, классики, авангарда; Волконский своим вулканическим присутствием заставлял музыкантов играть с невозможной интенсивностью. Сам он не только пел, но и популярно рассказывал в полной тишине о принципах ядерной реакции и истории создания атомной и водородной бомб.
В финале, при полной темноте на сцене и в зале, долго продолжался мантрический хорал-заклинание: "Слушайте, как свет падает вниз".
На ночном джем-сейшне после фестиваля Хейно Селъямаа и Петер Волконский устроили дикий танец танго; Петер пришел в такой раж, что в одном из пируэтов сломал себе ногу, прямо на глазах у умирающей со смеха публики. Да, а "Приз надежды" опять получил "Махавок", что свидетельствовало не только о нежелании поп-истэблишмента принимать новую музыку, но и об общем застое. В этом я смог убедиться на фестивале следующего года, где, кроме "Туриста", слушать было вообще нечего.
Более драматично, чем в Эстонии, складывалась ситуация в соседней Латвии. В роли неожиданных меценатов рока там оказались богатые колхозы, предложившие наиболее известным группам своеобразную форму взаимовыгодной кооперации. Колхозы покупали музыкантам дорогую аппаратуру, предоставляли место для репетиций, а группы, в свою очередь, гастролировали от имени своих колхозов, прославляя эти передовые хозяйства и принося им денежную прибыль. По сути дела, эти ансамбли работали полупрофессионально и составляли ощутимую конкуренцию исполнителям из государственных концертных организаций. Такая форма сотрудничества оказалась настолько выгодной, что в "колхозную филармонию" перешли некоторые знаменитые профессиональные артисты: больше денег и меньше давления… В эту систему попали и известные нам "Сиполи". Репертуар группы Мартина Браунса теперь складывался из двух половин: простых поп-песенок для подростков из маленьких городков и деревень и больших театрализованных сюит (в том числе "Маугли" по Р. Киплингу) для поддержания собственной творческой формы и "серьезной репутации".
С другой стороны, после долгой депрессии оживилось местное музыкальное подполье, но положение этих групп было очень жалким. Для колхозов они не представляли коммерческого интереса, и всем остальным до них тоже не было никакого дела. Поскольку группы не могли играть буквально нигде, они решились на отчаянный шаг: летом 1983 года устроили абсолютно спонтанный, без намека на какое-либо легальное "прикрытие", фестиваль в деревне Иецава, километрах в ста от Риги.
Это событие неожиданно имело огромный резонанс в республике, тем более что кто-то не то утонул, не то – по зловещим слухам – был убит… Только таким образом непризнанные музыканты смогли обратить на себя внимание. Официальные инстанции увидели перед собой проблему и постановили ее решить. Так при рижском горкоме комсомола возник второй в стране рок-клуб. Интересно, что у рижского рок-клуба не было вообще никакого помещения, даже маленькой комнаты. Общие собрания музыкантов проходили во дворе у входа в кафе "Аллегро". Летом это было еще терпимо, но зимой или в дождь… Даже имея свои клубы, рок оставался "музыкой отверженных".
Компания там подобралась исключительно странная и разношерстная: Пит Андерсон с группой ностальгического рока-билли "Допинг" (по просьбе кураторов она была переименована в "Архив"), трио индуистов с ситарами и таблой, сатирический хард-рок "Поезд ушел" (песни про низкую зарплату инженеров, плохие местные инструменты и т. п.), фри-джаз "Атональный синдром", психоделический фолк "Тилтс", шумовой авангард "Зга" и т. д. Объединяло их лишь одно – нонконформизм и неприкаянность. Общие проблемы сдружили в рок-клубе латышей и русских, что, к сожалению, довольно редко случается в артистических кругах Прибалтики [57]57
К примеру, во всей латышской «колхозной филармонии» и среди всех участников тартуского фестиваля не было ни одной русскоязычной группы.
[Закрыть].
Бесспорно, лучшим ансамблем были "Желтые почтальоны". В прошлом они назывались "Юные малиновые короли" и, как видно из названия, находились под сильным влиянием "Кинг Кримсон". Однако с приходом "новой волны" их стиль радикально трансформировался: четыре крайне флегматичных молодых человека самой прозаической наружности играли на игрушечных электронных инструментах. Музыка была минималистическо-монотонной и очаровательно мелодичной одновременно. Она была похожа на Ригу – большой серый город, по-немецки прямой, но с какой-то грустной, тусклой изысканностью… "Желтые почтальоны" пели о закрытых кафе, чемоданах, красивых водолазах и о том, что лето уходит.
Построенные на компьютерных ритмах, их песни имели большой успех в студенческих дискотеках, но недолго. Кто-то счел записи "сомнительными", и "Почтальоны" оказались перед закрытой дверью.
Некоторые надежды внушала и группа "Железная дорога" – ребята семнадцати лет, очень шумные, агрессивные, в цепях и собачьих ошейниках. Певец, натуральный нордический блондин, долго кричал на зал, требуя освободить проход посередине, ибо там должна пройти железная дорога. Они были очень милы, но никак не могли сочинить больше пяти песен [58]58
В главном хите, как мне рассказали, пелось о мертвых младенцах, плывущих по озеру.
[Закрыть]– так что идея панка в Латвии не получила развития. Ударник «Железной дороги» стал впоследствии одним из интереснейших самодеятельных кинорежиссеров [59]59
Именно его метафорический фильм с коридорами и людьми, стоящими в море, использовал Юрис Подниекс в «Легко ли быть молодым?».
[Закрыть]. Сейчас он снимает документальный фильм о нелегкой судьбе трех поколений латышского рока на примере изломанных карьер Пита Андерсона, Мартина Браунса и «Почтальонов». К чести латышей, надо сказать, что некоторым группам – «Сиполи», «Почтальонам», даже более ортодоксальным «Ливам» и «Перкунс» – удалось найти оригинальные национальные интонации – то, что у русских рокеров пока не получалось никак.
Завершая путешествие по Балтийскому побережью, остается заглянуть в Литву, Рок там пребывал в эмбриональном состоянии. Определенный успех имела "Гипербола" (незамысловатый студенческий хард-рок, нечто вроде "Машины времени"), отдельные интеллектуалы посещали редкие выступления техничного симфо-рока "Солнечные часы". Вместе с тем процветали литературная песня и модерн-джаз. То, что рок в Литве никак не прививался, я объяснял мягким климатом, общим комфортом и обилием красивых девушек.
При такой-то жизни зачем бунтовать?

Глава 7
Шаг вперёд и два назад


Детки, детки —
Мы за вас боимся что-то…
Это что? Это что?
Группа «Центр»
Фотолаборатория
 се произошло как-то незаметно и постепенно, но ситуация в роке в 1983 году разительно отличалась от той, что была в 1978-м… Начать с того, что западный рок стал гораздо менее популярным. Он приелся и начисто утратил статус культурного откровения и образца стиля жизни. Только в лексиконе редких реликтовых хиппи сохранились словечки типа «мэн», «герла», «шузы» или «кантровый», утих ажиотаж вокруг «контрабандных» пластинок, исчезли самодельные значки и «просветительские» дискотеки. Более того, и в качестве «любимой музыки» западный рок сдал свои позиции: относительным успехом пользовались записи «ветеранов», а популярность новых групп, даже таких, как «Дайер Стрейтс» или «Полис», была умеренной. Живых рок-ансамблей, поющих по-английски, практически не осталось совсем.
се произошло как-то незаметно и постепенно, но ситуация в роке в 1983 году разительно отличалась от той, что была в 1978-м… Начать с того, что западный рок стал гораздо менее популярным. Он приелся и начисто утратил статус культурного откровения и образца стиля жизни. Только в лексиконе редких реликтовых хиппи сохранились словечки типа «мэн», «герла», «шузы» или «кантровый», утих ажиотаж вокруг «контрабандных» пластинок, исчезли самодельные значки и «просветительские» дискотеки. Более того, и в качестве «любимой музыки» западный рок сдал свои позиции: относительным успехом пользовались записи «ветеранов», а популярность новых групп, даже таких, как «Дайер Стрейтс» или «Полис», была умеренной. Живых рок-ансамблей, поющих по-английски, практически не осталось совсем.
Таким образом, в музыкальном сознании нашей молодежи образовались пробелы. Их заполнили, с одной стороны, диско и, чуть позднее, сладкая итальянская поп-музыка, с другой стороны – отечественный рок.
Профессиональная рок-сцена процветала. Слава "Машины времени" несколько померкла: тинэйджеры находили их старомодными, а поклонники со стажем справедливо сетовали на то, что новые песни слишком беззубы и приглажены. "Автограф" и "Диалог" взяли на вооружение лазеры, секвенсоры и прочую "высокую технологию" и вполне удовлетворяли запросы любителей "арт-рока". "Хэви метал" представлял Гуннар Грапс и новая группа "Круиз" во главе с сенсационным гитаристом Валерием Ганной. Сюда же можно отнести ужасающую группу "Земляне", соединившую "металлическую" героику с помпезностью официальной эстрады и создавшую главный хит того периода – песню о космонавтах под названием "Трава у дома" (к сожалению, даже недорастающую до китча, чтобы все это выглядело совсем смешно…). "Карнавал" долго блуждал по московским ресторанам [60]60
Кстати, и в ресторанах все стало по-другому: произошла смена поколений, и места засыпающих джаз-бэндов заняли современные поп-группы с синтезаторами и световыми шоу. В ресторанах нашли свое призвание многие «англоязычные» рок-певцы.
[Закрыть], но в конце концов тоже выбрался на профессиональную концертную сцену. Аромат варьете, однако, остался: «Карнавал» исполнял красивую танцевальную музыку – от расслабленного реггей до жеманных баллад а-ля Брайан Ферри, а певец Александр Барыкин был одной из немногих советских рок-звезд с – очень, очень скромным! – намеком на «сексуальность».

Валерий Гаина («Круиз»)

Александр Барыкин («Карнавал»)
Самой многообещающей группой был «Динамик», созданный в начале 1982 года бывшим гитаристом «Карнавала» Владимиром Кузьминым. Они играли действительно динамичный современный рок с хитроумными электронными аранжировками, сделанными клавишником Юрием Чернавским, и располагали лучшей в стране ритм-секцией в лице ударника Юрия Китаева и бас-гитариста Сергея Рыжова. Сам Кузьмин был многосторонним лидером: он прекрасно играл на гитаре, а иногда на флейте и скрипке, пел и очень старался выглядеть шоуменом – переодевался, бегал но сцене во время «спортивной» песни и т. д. Его сценическое поведение и вокал выглядели наивно и не очень компетентно, но это, как ни странно, шло только на пользу общему мальчишескому образу. Кузьмину удавалась роль «своего парня», он был гораздо доступнее прочих героев и «умников» рока. Тексты не были ни острыми, ни претенциозными, но имели некий несложный смысл и «личную» окраску. Особый успех у публики имела песня, где герой жаловался на любимую девушку за то, что та предпочла ему иностранца, подарившего ей «фирменные» джинсы… Даже такая безобидная сатира выглядела довольно смелой на сцене дворцов спорта. Вообще, в каком-то смысле «Динамик» заполнял пустоту между стерильными филармоническими группами и «уличным» роком. Это было свежо, и многие видели в них преемников «Машины времени» в качестве лидеров жанра.

Владимир Кузьмин («Динамик»)
В конце 1983 года газета «Московский комсомолец» [61]61
К тому времени почти во всех молодежных газетах существовали постоянные поп-рубрики. Небольшой объем и копеечные гонорары компенсировались возможностью давать «горячую» информацию-репортажи с концертов, рецензии на новые диски и т. п.
[Закрыть]провела первый в советской практике опрос экспертов. Свои личные хит-парады" представили примерно тридцать журналистов и всяческих рок-деятелей из Москвы. Ленинграда и Таллинна. В категории «Ансамбли» первая десятка получилась такой:
1. "Динамик". 2. "Машина времени". 3. "Аквариум". 4. "Автограф". 5. "Диалог". 6. "Руя". 7. "Рок-отель". 8. "Магнетик Бэнд". 9. "Круиз". 10. "Земляне" [62]62
Мой персональный «Топ-3» выглядел так: 1. «Аквариум». 2. «Турист». 3. «Центр».
[Закрыть].
Третье место "Аквариума", который полностью игнорировали все средства массовой информации (не говоря уже о гастрольных организациях), можно было бы считать крупным сюрпризом, если бы не одно обстоятельство. Начало 80-х ознаменовалось рождением нового феномена – и это было, наверное, самым важным событием в истории советского рока со времени его появления. Речь идет о самодеятельных магнитофонных альбомах.
Как ни печально, но все, что осталось от нашего рока 60 – 70-х годов, – это воспоминания, фотографии и немногочисленные газетные заметки. Более весомых "вещественных доказательств" не существует. Музыка "Скоморохов", "Санкт-Петербурга" и многих, многих других исчезла без следа, поскольку никто ее не записывал. (Так что трудно теперь проверить утверждения Градского, что он был первым панком…) Случайные концертные записи были такого качества, что сохранять их для потомства казалось бессмысленным… Трудно сказать, почему эта проблема, сегодня очевидная для всех, тогда никого не заботила. Наверное, хватало ежедневной суеты, чтобы еще думать о "запечатлении" для вечности.

Юрий Морозов
Пионером самодеятельной звукозаписи стал ленинградский хиппи по имени Юрий Морозов. Он редко выступал «живьем», работал техником в студии звукозаписи и по ночам творил там бесконечные альбомы (хард-рок и «космическая» музыка с глупомистическими текстами). Он занялся этим еще в начале 70-х и записал, по слухам, порядка пятидесяти альбомов, но примером для подражания не стал: даже немногие знавшие его работы считали Морозова эксцентриком-одиночкой. Время от времени он гастролировал с филармоническими ансамблями, что и вовсе ставило его рокерскую репутацию под сомнение.
Первый настоящий современный самодельный альбом [63]63
Конечно, это спортивный момент. В конце 70-х годов у коллекционеров появились первые прилично звучащие пленки «Машины времени» («Солнечный остров»), «Високосного лета» («Прометей»), «Воскресенья». Однако, на мой взгляд, это были скорее компиляции относительно удачных концертных и случайных студийных записей, чем полноценные альбомы. И фаны имели к ним большее отношение, чем музыканты, – они даже придумывали названия. Сам Макаревич считает, что первый «ленточный» альбом «Машины времени» («Чужие среди чужих») вышел в 1984 году.
[Закрыть], явившийся по формату и дизайну прототипом всего, что последовало за ним, – это «Сладкая N» и другие" Майка Науменко. Фактически это обычная, фабричного производства катушка, рассчитанная на


"Воскресенье": Костя Никольский, Леша Романов
время звучания 45 минут (при скорости 19 см/сек), на картонную коробку которой с обеих сторон нежно и аккуратно (как правило, этим занимались сами музыканты) наклеены соответствующего размера фотографии. Здесь все было всерьез, с гордым соблюдением всех условностей и деталей «настоящего» продукта, вплоть до надписи «Стерео» и значков С и Р. Хотя, конечно, никакого реального отношения к авторским и прочим правам этот артефакт не имел. На лицевой стороне обложки – рисованная картинка: некая обворожительная особа в шляпке (сама «сладкая N», надо полагать) несет под мышкой «диск» Майка, а тот угрюмо смотрит ей вслед. На оборотной стороне, естественно, перечислены названия песен, а также музыканты и все прочие, помогавшие при записи. Да, это была настоящая вещь… Стоила эта прелесть всего десять рублей, что примерно соответствовало стоимости катушки плюс фоторасходы плюс ручная работа с клеем и ножницами… Это называлось «альбом с оформлением», и таких циркулировало очень немного, порядка двадцати-тридцати экземпляров. Музыканты дарили (или продавали, что не имело большого значения) их близким друзьям, а те, в свою очередь, давали их переписать разным знакомым – и дальше в геометрической профессии, от магнитофона к магнитофону, росло количество альбомов «без оформления»…

«Магиздат» в действии
«Сладкая N» прошла почти незамеченной – из-за недостаточной рекламы, по-видимому. В 1981 году вышло две пленки «Аквариума» – «Синий альбом» и «Треугольник».

Андрей Тропилло
Фото из архива А. Троицкого
Если первый из них только качеством звука отличался от нормальной «акустической» концертной программы, то «Треугольник» уже имел все признаки специальной студийной работы: «концептуальная» последовательность песен, «приглашенные музыканты» (джазовый виртуоз Сергей Курехин играл соло на рояле), масса звуковых эффектов – обратная запись, конкретные шумы… Здесь необходимо назвать человека, который несет за это ответственность: Андрей Тропилло, звукоинженер одного из Домов пионеров, продюсер всех ранних альбомов «Аквариума» и множества прочих ленинградских рок-записей. Человек фанатического склада, он шел путем праведника: никогда не брал с музыкантов денег и стойко отбивал набеги милиции и начальства на свою двухдорожечную студию. Сейчас у него в подчинении уже весь ленинградский филиал «Мелодии» и десятки дорожек, он страдает манией величия в легкой форме и требует от групп безусловного подчинения. Но в его фразе: «Я изменил судьбу советского рока» – есть немалая доля истины.
Самодельные альбомы открывали новый мир – и для музыкантов, и для их поклонников. Наши рокеры увидели преимущество работы со звуком, они могли сделать свою музыку такой (или почти такой), какой они ее хотели слышать, без скидок на ужасную концертную аппаратуру. Далее, они получили прекрасную возможность распространять эту музыку повсюду. Они ощутили себя в некотором подобии шоу-бизнеса, и пусть это была, скорее, игра – как значки С и Р на самодельных обложках, – но какая приятная и увлекательная игра! "Я впервые почувствовал себя настоящим рок-музыкантом только после того, как мы записали первый альбом… Пока я не почувствовал вес своей пленки в своих руках, все казалось совершенно эфемерным", – признался много позже Борис Гребенщиков. Наконец, приватные записи не подлежали никакой цензуре… Не так давно я был свидетелем беседы Майка с корреспондентом журнала "Роллинг Стоунз"; американец настойчиво спрашивал об ущемлениях свободы творчества, ссылаясь на жалобы неких музыкантов, которым "не разрешали делать, что они хотят…". "Пусть не врут, – ответил Майк. – Если им есть что сказать, то на своих альбомах они могут записать абсолютно все, включая то, что не прошло цензуру. И люди эти песни услышат" [64]64
У самого Майка богатая практика в этом смысле: «Вперед, Боддисатва, вперед». «Гопники» и некоторые другие песни долго не звучали со сцены, но миллионы знали их наизусть благодаря альбомам.
[Закрыть]. Парадокс, но истинная правда.
Идея, конечно же, носилась в воздухе. Хотя альбомы "Аквариума" были самыми популярными и влиятельными, справедливости ради необходимо заметить, что одновременно и независимо аналогичные предметы появились в Свердловске ("Путешествие "Урфина Джуса"; "Кто ты есть", "Трека" [65]65
Обе группы – остатки развалившегося «Сонанса». Александр Пантыкин разочаровался в авангарде и теперь руководил хардроковым «Урфин Джусом». «Трек» играл очень своеобразную, хотя и монотонную «новую волну».
К сожалению, записав три альбома, они распались в 1983 году.
[Закрыть]) и Риге (дебют «Желтых почтальонов» под названием «Болдерайская железная дорога»),
В 1982–1983 годах пленочная эпидемия охватила все рок-центры, за исключением Эстонии – единственного места, где оперативно работала государственная фирма "Мелодия"… Вкус к новому трюку неожиданно обнаружили и профессионалы: на катушках распространялись "неофициальные" альбомы "Динамика", "Диалога", "Землян" и даже некоторых ВИА! Они совершенно обоснованно не надеялись на "Мелодию" и предпочли простейший путь пропаганды своих бесконечно далеких от цензурных проблем песенок.
Реклама оказалась не только простой и не подвластной вездесущей бюрократии, но и исключительно эффективной: не ограничиваясь частными квартирами, все изобилие самодельной музыкальной продукции зазвучало в дискотеках. А их в стране были десятки тысяч, и все страдали от одного – интенсивной борьбы с "влиянием Запада". Конкретно эта борьба выражалась в установлении неких репертуарных лимитов и процентных соотношений, например: "не менее 50 % советских произведений, не менее 30 % произведений авторов из социалистических стран, не более 20 % произведений западных авторов" [66]66
Однажды мне попался в руки официальный репертуарный список какой-то дискотеки, где были такие строчки:
"Бранденбургский концерт" (произведение) – Бах (автор" – ГДР (страна)" и "Симфония № 5" – Бетховен – ФРГ"… Я не мог поверить своим глазам, но мне спокойно объяснили, что Бах родился в Лейпциге, а Бетховен – в Бонне и, таким образом, бумага составлена абсолютно верно.
[Закрыть]…

«Урфин Джус» (А. Пантыкин – слева)
(Цифры варьировались в различных городах, областях и республиках в зависимости от либерализма местных органов культуры.) В результате абсурдной «борьбы» некогда модное и процветавшее диско-движение утратило популярность: публика не хотела или просто не могла танцевать под плохо записанные и лишенные всякого «драйва» советские эстрадные пластинки, в то время как реальные хиты выдавались измученными диск-жокеями лишь под занавес мизерными порциями. Бум самодельных записей оказался для тонущих дискотек спасательным кругом и буквально вдохнул в них новую жизнь. Наконец-то диско-аудитория получила советский музыкальный материал, который если не по качеству звука, то по крайней мере по стилю и характеру удовлетворял ее запросы.
Песни из "катушечных альбомов" сразу же составили львиную долю репертуара. Зимой 1984 года, готовя статью о "пленочной лихорадке" (которая никогда не была напечатана), я провел опрос ведущих диск-жокеев Москвы и Ленинграда, на основании которого получился следующий "топ тэн" советских танцевальных хитов:
1. "Здравствуй, мальчик Бананан" (Юрий Чернавский).
2. "Каракум" ("Круг").
3. "Сладкая жизнь" ("Примус"),
4. "Я робот" (Юрий Чернавский).
5. "Бумажный змей" (Алла Пугачева).
6. "Глупый скворец" ("Машина времени").
7. "Московский гуляка" ("Альфа").
"Когда нам было по семнадцать лет" ("Динамик").
9. "Квадратный человек" ("Диалог").
10. "Кукла" ("Альянс"),

Юрий Лоза («Примус»)
Только одна из этих песен («Бумажный змей») звучала по Центральному ТВ и еще одна («Глупый скворец») – вышла на «сборной» пластинке. Прочие записи были стихийными. Список интересен и с другой точки зрения: в нем (причем даже во «втором десятке») не было никого из лидеров андерграунда – инициаторов всего «пленочного движения». Тут дело в том, что из простого потребителя записей дискотеки превратились в активных заказчиков. Поскольку музыка «Аквариума», «Кино» или «Центра» не очень годилась для танцев, гильдия диск-жокеев нашла более «гибкие» группы для выпуска нужной ей продукции. Возникла настоящая внегосударственная индустрия звукозаписи и тиражирования, подчинявшаяся не столько творческим, сколько коммерческим законам. Законы были странные: музыканты не получали ничего, кроме «славы», а все деньги расходились между производителями и распространителями пленок. Последним было несложно поддерживать монополию, так как студий звукозаписи было очень немного и почти все они концентрировались в Москве [67]67
Часто это были даже не студии, а просто предприимчивые «мобильные» продюсеры с магнитофоном «Ревокс» или переделанной квадродекой.
[Закрыть]. Оригинал каждой новой записи тиражировался сразу в сотнях экземпляров и одновременно рассылался провинциальный клиентуре за солидные деньги. Те окупали расходы, делая вторую копию…


"Банановые острова": В. Матецкий, Ю. Чернавский
Большая часть дискотечного рока была явным барахлом: так же, как танцевальные хиты во всем мире, эти песенки держались «в топе» по нескольку месяцев и затем исчезали без следа. Исключение составили альбом «Примуса» «Путешествие в рок-н-ролл» и «Банановые острова» Юрия Чернавского. «Примус» – точнее, бывший гитарист-вокалист «Интеграла» Юрий Лоза с ритм-боксом и секвенсором – это электронный рокабилли с текстами, в которых банальность лексикона и образов странно сочеталась с «запретностью» тем (пьянство, прожигание жизни и даже намеки на гомосексуализм…). Я помню, услышав «Примус», подумал: это какой-то ВИА, получивший государственное задание «записать панк-рок» – так, как они его себе представляли. Фактически это был «Зоопарк» «для бедных» – поверхностный и упрощенный, к тому же лишенный изысканной самоиронии, столь характерной для Майка. Однако «бедных» оказалось невероятно много, и альбом Лозы имел огромный успех, а песня «Сладкая жизнь» стала просто легендарной:
"Девочка сегодня в баре,
Девочке пятнадцать лет.
Рядом худосочный парень,
На двоих один билет.
Завтраки за всю неделю,
Невзирая на запрет,
Уместились в два коктейля
И полпачки сигарет.
Девочка, конечно, рада,
Что на ней крутые штаны,
Девочке щекочут взгляды,
Те, что пониже спины.
Девочка глядит устало,
Ей как будто все равно,
Мол, узнала, испытала
Все уже давным-давно.
Вот это жизнь! Живи, не тужи.
Жалко, что не каждый вечер
такая жизнь,
Мама, держись! Папа, дрожи! —
Если будет каждый вечер
такая жизнь!.."
«Банановые острова» были не менее популярны и гораздо более занятны. Это один из самых веселых советских рок-альбомов, записанный одним из самых мрачно выглядящих людей. Юрий Чернавский тощ как спица и угловат в движениях, он носит огромные очки, говорит скрипучим «индустриальным» голосом и вообще похож на персонажа из видеоклипа – не то гуманоида, не то «безумного профессора». Он немолод (родился в 1947 году) и успел переиграть на саксофоне и клавишных в десятках джаз-ансамблей, ВИА и рок-групп (последней был «Динамик»), где создал себе репутацию одного из лучших аранжировщиков в стране и главного эксперта по электронике. Если большинство наших хорошо образованных клавишников подходило к синтезаторам почти так же, как к роялю, играя с фантастической беглостью в стандартных регистрах, то Чернавский исследовал именно тембровые возможности и старался извлекать из инструментов звуки неслыханные. «Банановые острова» – первый сольный проект Чернавского, записанный с помощью экс-члена «Удачного приобретения» Владимира Матецкого и ритм-секции Рыжов – Китаев. Это коллаж стилей, от рок-н-ролла до компьютерной робот-музыки, пронизанный ритмическим «заводом» и по качеству записи стоящий на голову выше любого другого советского диска – официального или «самодельного». Трудно поверить, что это удалось сделать на двух дорожках…. Дотошный аккуратист, Чернавский так и не смог найти подходящего вокалиста («они все поют фальшиво») и вынужден был исполнить все песни собственным странным голосом, который в чистом виде звучит почти как «Вокодер». Он не тянул нот, скорее, декламировал и великолепно по-актерски передавал интонации – вся манера напоминала какой-то смешной русский рэп. Тексты не вызвали больших споров, и жрецы «подпольной» лирики и официальные поэты-песенники дружно сочли их забавной ерундой. Да, это была смесь детских стихов и абсурдных парадоксов – песни про крошечного мальчика, живущего в телефонной трубке и говорящего «ту-ту-ту», про робота, сошедшего с ума после того, как его включили не в ту розетку, про зебру, которая не то белая в черную полоску, не то черная в белую… Это было неглупо и со вкусом придумано. Но в одной песне впрямую прорвалась боль и горечь, обычно закамуфлированная у Чернавского в юмористический нонсенс:
"Я открываю дверь свою
И выхожу наружу на закат,
Чтоб с ним исчезнуть
И провалиться прямо в ад.
Но не успел я сделать шаг,
Как прибежали тысячи людей
С бумагами в руках…
Когда я один —
Не надо за мной следить.
Я сам!.."
Нет уж, дорогие товарищи. Чиновники вовсе не собирались оставлять музыкантов в покое. Совсем наоборот. Эра беспечной коммерческой эксплуатации рока, едва забрезжив, вдруг подошла к концу. Во второй половине 1983 года мы вступили в новую фазу рок-конфронтации и «холодной войны». Все началось с подготовленной кампании в прессе: газеты обрушились на поп-ансамбли за их «серость», «безвкусицу» и «безыдейность». Как пример посредственности приводились действительно тошнотворные ВИА, поэтому критика выглядела убедительной. Однако резолюция, принятая Министерством культуры после публикации статей, била не столько по ВИА, сколько по рок-группам. Потому что главный пункт ее гласил: отныне в репертуаре каждого профессионального ансамбля должно быть не менее восьмидесяти процентов песен, написанных членами Союза композиторов [68]68
Формулировка была несколько иной, не столь очевидной, но на деле она трактовалась именно таким образом.
[Закрыть]…
Тут сразу стали видны уши реальных вдохновителей кампании. Союз композиторов – элитарная и очень влиятельная организация, объединяющая в своих сплоченных рядах как авторов академической музыки, так и официальных "песенников". Члены Союза (их всего порядка трех тысяч в СССР, включая массу классических музыковедов) имеют значительные привилегии в плане выпуска пластинок, пропаганды через средства массовой информации, получения заказов на киномузыку. Государство закупает у них в неограниченных количествах оперы, балеты и песни, которые (к счастью) никто потом не слышит. Короче, все специально устроено так, чтобы композиторы получали как можно больше денег.
И все-таки они негодовали! Да, до 70-х годов их монополия была абсолютной. Затем откуда-то стали появляться сомнительного вида молодые люди с электроинструментами, и они смели утверждать, что тоже могут писать песни… Союз композиторов встал на защиту своих привилегий, чужакам там не было места. В 1973 году Давид Тухманов вступил в песенную секцию московского отделения Союза, и после этого в течение десяти с лишним лет не было принято ни одного нового члена! Неудивительно, что средний возраст патентованных творцов советской музыки – около шестидесяти лет. Время от времени сердитые композиторы совершали вылазки из своего бункера слоновой кости и клеймили позором в прессе, на ТВ и конференциях рок, бит, поп-арт (они думали, это один из стилей рока) и вообще непричесанную молодежь. Главный пункт обвинения: они безграмотны, они шарлатаны; люди без специального образования не могут (некоторые говорили даже "не имеют права") писать музыку. Коронным и "смертельным" аргументом, после которого должна была воцаряться полная тишина, было: "Некоторые из них даже не знают нот!.." Но, несмотря на свою неправомерность, музыка молодых авторов завоевывала все больше симпатий, а песни членов Союза все больше воспринимались как анахронизм.