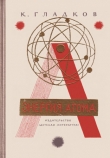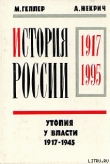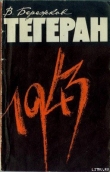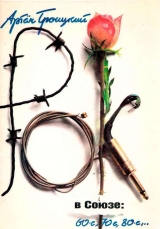
Текст книги "Рок в Союзе: 60-е, 70-е, 80-е..."
Автор книги: Артемий Троицкий
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 14 страниц)

Глава 9
Игра наверняка


…Но не сбить креста,
Если клином клин.
Если месть как место
На звон мечом.
Если все вершины
На свой аршин.
Если в том, что есть,
Видишь что почем.
А. Башлачев
Вечный пост
 ивописно была одета группа «Чудо-юдо»: этикетки от водочных бутылок, рублевые и туалетные бумажки пришпилены английскими булавками к засаленным френчам и милицейским фуражкам без кокард. Вокалист коллектива, стеснительный парень по кличке Мамонт, львиным рыком огласил актуальный лозунг «Секс-революцию – стране!» со сцены московского «Фестиваля надежд». Дальнейшее подтвердило, что секс в самом деле все еще революционен: надувание на сцене и разбрасывание в зал пачек презервативов членами «Чуда-юда» вызвало шумный скандал и объяснения с начальством.
ивописно была одета группа «Чудо-юдо»: этикетки от водочных бутылок, рублевые и туалетные бумажки пришпилены английскими булавками к засаленным френчам и милицейским фуражкам без кокард. Вокалист коллектива, стеснительный парень по кличке Мамонт, львиным рыком огласил актуальный лозунг «Секс-революцию – стране!» со сцены московского «Фестиваля надежд». Дальнейшее подтвердило, что секс в самом деле все еще революционен: надувание на сцене и разбрасывание в зал пачек презервативов членами «Чуда-юда» вызвало шумный скандал и объяснения с начальством.
Что до "рок-революции", то она, по общему мнению, уже практически победила на одной шестой земной суши – не прошло и четверти века. Символизировать это мог и тот факт, что тогда же, в феврале 1987 года, в Москву приехала Йоко Оно и у нее состоялась аудиенция с М. С. Горбачевым. Судя по всему, это был первый в истории очный контакт советского лидера с представителем рок-культуры. И прошел он, согласно сообщениям прессы, в обстановке дружбы и взаимопонимания.
Стремительное превращение ранее гонимого рока в официальный культурный институт вызывало крайне раздраженную реакцию у экстремистов – как левых, так и правых.

Харди Волмер («Сингер Вингер»)
Главным рупором консерваторов на сей раз были не «советские композиторы» [89]89
Предельно затхлая, не изменившаяся с конца 40-х годов (то есть за все время правления Т. Хренникова) атмосфера Союза композиторов стала объектом острой критики, В ответ на это наши музыкальные бонзы ушли в глухую оборону и занялись искоренением реформаторской ереси в собственных рядах. Таким образом, рок-музыка и борьба с ней оказались забыты – надеюсь, навсегда.
[Закрыть], а «русские писатели», борцы с космополитизмом. На прошедших весной 1987-го форумах отечественных литераторов о роке было сказано на удивление много. Жанр квалифицировался как угроза морали и национальному достоинству, сатанизм и наркотик, а также просто как вредный для здоровья. Афористичнее всех высказался Сергей Михалков, наш смелый сатирик, одинаково удачно (для себя) бичевавший пороки сталинизма, волюнтаризма и застоя… Он назвал рок «духовным СПИДом». Этот диагноз имел некоторый резонанс в начальственных сферах, опять вспомнили «черные списки». Кампания получилась очень непродолжительной, жертв оказалось всего две: «Рок-панорама-87», которую пришлось перенести с апреля на декабрь, и телемост «Московская Рок-лаборатория – Ленинградский Рок-клуб», показанный спустя два с лишним года. Рокерам к этому не привыкать…
На левом фланге ситуация сложилась более любопытная. Некоторые рок-деятели с огорчением (переходящим в озлобление) констатировали, что в прошлом "независимые" группы переходят под крыло официальных организаций и легализуют формы своей деятельности. По сути, это был тот же исход из "подполья", что в 1980 году ("Машина времени" и т. д.), только несравненно более массовый, Конечно же, это обескровливало хорошо налаженную инфраструктуру нашего рок-подполья, лишало менеджеров средств к существованию, "идеологов" – сферы влияния. Повернуть процесс вспять было нереально, однако максимум усилий был положен на то, чтобы притормозить его, не дать "андерграунду" растаять. При всем очевидном сектантстве подобной тактики в лозунге "Не отдадим наш рок государству!" было рациональное зерно (не говоря уже об "эмоциональном"), но средства, которыми велась борьба, могли бы дискредитировать любую идею… Скажем, был выпущен поддельный "Бюллетень Рок-лаборатории", где под фамилиями реальных членов худсовета (моей в том числе) шли совершенно запредельные материалы о преследованиях рокеров со стороны КГБ, МВД и т. д. Рок-лаборатория ответила на провокацию истеричным письмом в газеты и инстанции – и пошла междоусобица. Самиздатовские рок-журналы получили пищу для комментариев, в остальном же ничего не изменилось. К тому же перед любительскими группами забрезжил еще один "легальный" стимул, еще недавно казавшийся утопией: гастроли за границей. Самыми первыми нашими непрофессионалами, выехавшими на зарубежное рок-мероприятие, были "Желтые почтальоны", выступившие на фестивале "Кэррот" в Варшаве в апреле 1987 года. Вскоре по тому же маршруту отправились "Джунгли".

Рихо Сибул («Ультима Туле»)
Традиционная майская поездка на «ближний Запад», в Прибалтику, дала следующие результаты. Тартуский фестиваль (кстати, последний, на котором я был) прошел под знаком экологической озабоченности и спасения от хищных московских министерств земли и традиционного хозяйства северо-западной Эстонии, где обнаружили крупные залежи фосфатов… Было заметно, что эстонцы, которые и раньше не очень-то «клеились» к общесоюзной рок-тусовке, сейчас и подавно сконцентрировались на своих проблемах. У Харди Волмера была новая крепкая группа, «Сингер Вингер», и никаких проблем с цензурой. Очередной проект Пети Волконского – «Окна РОСТа». Как всегда, ненавязчивая театрализация: музыканты представляли типажи того времени (матрос-анархист, пузатый буржуй, идейный пролетарий…), сам Волконский, естественно, – Поэт революции. Стихи Маяковского и всегдашняя Петина страстность, конечно, были хороши, однако некоторая прямолинейность замысла и простота формы (хард-рок с элементами блатного «ретро»), скорее, разочаровали. Фаворитами «Тарту-87» были две новые группы: «Седьмое чувство» – романтический рок с аристократичным солистом Хенри Лауксом, и «Ультима Туле» – строгая ритм-энд-блюзовая команда, возглавляемая двумя прекрасными гитаристами, Вячеславом Кобриным и Рихо Сибулом.

Слава Бутусов

«Наутилус Помпилиус»
Фото Г. Молитвина
После камерного, «герметичного» Тарту «Литуаника-87» производила впечатление масштабами и амбициями. Фестиваль впервые проходил во Дворце спорта, параллельные акции и концерты имели место на улицах и площадях Вильнюса. К сожалению, местные группы, кроме панк-водевильного «Антиса», ничем не блистали, большинство именитых гостей («Кино», «Бригада С», «Николай Коперник») также выступило не очень удачно. Больших сюрпризов было даже два. Во-первых, «Наутилус Помпилиус» из Свердловска.
Немногим посвященным эта группа была уже известна по магнитофонным записям, однако "живьем" она забралась так далеко впервые. "Наутилус" произвел на меня сильное, но довольно странное впечатление. По всем признакам это была стильная "нововолновая" группа: отточенное клавишно-саксофонное звучание, саркастичные тексты, "декадентский" грим и костюмы… Что очень смутило меня – это крайне "попсовая", на грани ресторанных боевиков мелодика большинства песен ("Гудбай, Америка", "Казанова", "Ален Делон"…). Это напомнило мне "Машину времени" их "шлягерного" периода начала 80-х, возникли даже ассоциации с ВИА. По-видимому, именно это качество плюс неотразимое мужское обаяние лидера группы Славы Бутусова и сделали "Наутилус" спустя несколько месяцев крупнейшей российской поп-сенсацией. Впрочем, это тот успех, которому можно было только радоваться: "НП", бесспорно, не был эстрадной дешевкой и песни стоили того, чтобы в них вслушаться. Одна была настоящим шедевром:
"Можно верить и в отсутствие веры,
Можно делать и отсутствие дела.
Нищие молятся, молятся на
То, что их нищета гарантирована.
Здесь можно играть про себя на трубе,
Но как ни играй – все играешь отбой.
И если есть те, кто приходят к тебе,
Найдутся и те, кто придет за тобой.
Здесь женщины ищут, но находят
лишь старость.
Здесь мерилом работы считают
усталость.
Здесь нет негодяев в кабинетах
из кожи,
Здесь первые на последних похожи
И не меньше последних устали,
быть может,
Быть скованными одной цепью,
Связанными одной целью…"
Если лучшая песня «Наутилуса» – мрачный словесный диагноз тоталитарной системы, то новый состав «АВИА» (и это вторая замечательная вильнюсская премьера) воплотил на сцене фантастический визуальный портрет этого же монстра. За год существования ансамбль вырос из оригинального трио до небольшого оркестра с танцевально-физкультурной (!) группой. Около десятка девушек и юношей в черно-белых униформах маршировали по сцене, выкладывали из собственных тел живые звезды и живые пирамиды, имитировали доменную печь и конвейер – словом, воссоздавали наивно-помпезные формы советского агитпропа 20—30-х годов.
Бравурная эстетика "Синей блузы" на удивление удачно вписалась в рубленые рок-ритмы и была дополнена соответствующими по энтузиазму текстами типа:
"Песню радости гремящей
Громче запевай!
Эта радость будет нашей —
Только не зевай!"
Некоторые песни, в частности великолепная «Ночью в карауле», были решены в иной манере – более суггестивной, пантомимической – и производили не меньшее впечатление. Хореографом и ключевым исполнителем в шоу «АВИА» был Антон Адасинский – известный ленинградский мим, в прошлом актер театра «Лицедеи». Загадочный, бритоголовый, обладающий удивительной пластикой, он привлекал к себе внимание, едва появившись на сцене, и уже не отпускал завороженных зрителей… Со временем представление «АВИА» обрастало нюансами, становясь более цельным и сфокусированным. Появилась роль Ведущего – своего рода синтез партийного фюрера и массовика-затейника, появились речевки-связки вроде:
"Сегодня здесь мы все собрались,
Чтоб вместе встретить праздник тут.
И этот праздник, все мы знаем —
И этот праздник – концерт".
Все вместе складывалось в кошмарную и одновременно уморительную картину казенного массового действа…
Ничего похожего в нашем роке, да и вообще в современном искусстве не было. И реакция публики тоже была далеко не однозначной. Вскоре после Вильнюса "АВИА" показали свою программу на очередном ленинградском рок-фестивале, и она вызвала большие споры. "Это здорово, но это не рок" – таков был один из типичных отзывов.
А что же показал славный питерский рок? Фестиваль состоялся в неуютном Дворце молодежи и проходил с гораздо меньшим воодушевлением, чем предыдущий. Самую хлесткую программу вновь показал "Телевизор". Давешний скандал с "Выйти из-под контроля" нисколько не образумил группу, напротив – в противостоянии музыкантов и цензоров последние вынуждены были отступить. Новые песни Борзыкина были еще жестче и конкретнее. "Три-четыре гада", "Рыба гниет с головы", "Сыт по горло" – все они были о лицемерии людей, занимающихся "перестроечной" демагогией, но на деле остающихся держимордами, трусами, политиканами. Его самая сильная песня, однако, была менее прямолинейна, начиналась она как тяжелый разговор с любимой девушкой:

Антон Адасинский


"АВИА" на сцене

«Твой папа – фашист!»
"Не говори мне о том, что он добр.
Не говори мне о том, что он любит
свободу.
Я видел его глаза – их трудно забыть …
А твоя любовь – это страх:
Ты боишься попасть в число неугодных,
Ты знаешь, он может прогнать,
он может убить —
Твой папа – фашист!
Не смотри на меня так… я знаю точно:
Он просто фашист".
Постепенно Миша доводит беседу до политических обобщений:
"И дело совсем не в цвете знамен, —
Он может себя называть кем угодно,
Но слово умрет, если руки в крови.
И я сам не люблю ярлыков.
Но симптомы болезни слишком
известны:
Пока он там, наверху, он будет давить!
Твой папа – фашист".
В финале Борзыкин скандировал уже вместе со всем вставшим на ноги залом: «Твой папа фашист! – Мой папа фашист! – Наш папа фашист!» Никогда в нашем роке еще не было песни, столь круто и безжалостно поставившей проблему «отцов и детей».
Свежих исполнителей на фестивале почти не было, но один "полудебют" прошел с оглушительным успехом. Юрий Шевчук, изгнанный из родной Уфы в 1985 году, выступил с новым, ленинградским составом "ДДТ". (Строго говоря, премьера состоялась за полгода до фестиваля – в январе.) В новой команде Шевчука были люди из давно распавшихся "Россиян" [90]90
Зимой 1984 года лидер «Россиян», Жора Ордановский, исчез при таинственных обстоятельствах и с тех пор так и не объявился. Скорее всего, его уже нет в живых.
[Закрыть]– и преемственность, несомненно, ощущалась: «ДДТ» играли тот же размашистый, задушевный хард-рок. По сравнению с «Россиянами» они были значительно «осмысленнее» в плане текстов, изобретательнее мелодически, но лишены (годы!) первозданного «кайфа» группы Ордановского. Шевчук пел о горестях российской жизни – иногда философски, иногда с тоской, чаще всего – сердито. Наибольший успех имели его издевательские сатирические куплеты, разносящие в пух и прах известных врагов нашей рок-общественности: богатеньких сынков и спекулянтов («Мальчики-мажоры»), люберов («Мама, я любера люблю»), ненавистников рока («Террорист») и т. д. Пел Шевчук с замечательным эмоциональным напором, иногда даже слишком страстно, надрывно. Это был «рок раздирания рубашки» – предельно искренний, но уж слишком безыскусный. Похожим пафосом было окрашено и выступление новой группы «Ноль» во главе с аккордеонистом и певцом, юным «Дядей Федором» Чистяковым. Музыканты «Ноля» еще, правда, и играли очень плохо.
Впервые спел на фестивале Саша Башлачев. К сожалению, силы его уже были на исходе. Три года сверхчеловеческого творческого напряжения и нищей, неустроенной жизни не прошли даром. На сцене ЛДМ он очень волновался, очень старался… То, что раньше походило на божественное озарение, теперь явно давалось ему с трудом. Новых песен он не спел, и все равно это было нечто большее, чем вся рок-тусовка вокруг. Думаю, что публика это понимала.

«ДДТ»

Юрий Шевчук
Параллельно с умным ленинградским роком, модернизмом свердловчан и прибалтов существовал и совершенно иной пласт жанра, едва ли с ними соприкасавшийся и столь же, если не более бурно процветавший. Я имею в виду «хэви метал». В 1987 году мода на этот стиль достигла пика, а коммерческая эксплуатация приносила рекордные прибыли. Отчасти «металлический» бум был вызван тем, что худсоветы наконец-то вывесили белый флаг и перестали вести борьбу с пресловутой атрибутикой «хэви» – железными цепями, крестами, браслетами и налокотниками. И вот братия в черной коже хлынула на арены во всей своей долгожданной красе, покоряя воображение юношей допризывного возраста. Главными экспонатами были «Ария» и отпочковавшийся от нее «Мастер», «Круиз», «Черный кофе», «Август». «Левое крыло» представляли рок-лабораторские «Тяжелый день» и «Коррозия металла», ленинградский «Фронт».

Хэви-лето Гуннара Грапса
Я боюсь, что группы «хэви метал» подвергаются в этой книге дискриминации и не занимают в ней объема, соответствующего их реальной популярности в стране. Увы, я ничего не могу с этим поделать! И дело даже не в том, что лично я не принадлежу к поклонниками стиля. Проблема иная: о «металлистах» почти нечего писать. Говорить о каком-либо своеобразии «советского металла» не приходится: если наши группы и отличаются чем-то от западных, то лишь худшим качеством звучания и пониженным сексэппилом. О текстах хэви-групп лучше не говорить, иначе их авторы обидятся. Наиболее честно (и рационально) поступило, на мой взгляд, московское трэш-трио «Шах»: не мучая себя поисками (все равно не очень-то нужных) русских слов, они запели по-английски, воскресив традицию двадцатилетней давности… Возможно, с моей оценкой текстов «хэви метал» кто-нибудь и не согласится. Группа «Черный кофе», например, пела очень проникновенно о «Владимирской Руси» (один из главных рок-хитов того периода), но и это произведение по глубине содержания недалеко ушло от «Травы у дома»… Как бы там ни было, в августе у «металлистов» всей страны случился большой праздник: фестиваль «Хэви-лето» на Певческом поле в Таллинне. Публики собралось порядка ста тысяч (!) человек. Организатором мероприятия, прошедшего очень мирно, был неутомимый Гуннар Грапс.
Итак, рок-жизнь шла достаточно резво, однако социальные процессы в стране шли еще быстрее. Слово "гласность", поначалу звучавшее как полуабстрактный призыв, становилось ежедневной реальностью. Публикации уважаемых газет и журналов, речь в которых шла о преступлениях сталинизма, коррупции и злоупотреблениях аппарата времен "застоя", развале экономики и сельского хозяйства, деградации общественной морали и т. д., мало чем отличались от того, что еще совсем недавно квалифицировалось как "клевета диссидентов".
Во многом рок выиграл от демократизации. По сути дела, благодаря этому процессу он получил право на полноценное существование. Но в чем-то, как выяснилось, рок и проиграл. Он потерял монополию. Если раньше рок был одним из очень немногих заповедных мест, где водился зверек по имени "правда", то теперь это колючее существо вырвалось на оперативный простор… Более того, многие публикации в прессе были гораздо умнее, глубже и острее философских откровений и инфантильных разоблачений наших рокеров. Читать становилось интереснее, чем слушать. Конечно же, у рока оставался важный козырь – эмоциональное восприятие, однако на уровне чистого содержания он превратился в нечто вроде безобидной "гласности для недорослей". Неприятная ситуация для привыкших быть "на острие".

Дима Ревякин («Калинов Мост»)
Уже тогда мне казалось, что единственный достойный выход, дабы не растерять репутацию и не прослыть среди умных людей дураками, – это отказаться от чистой декларативности и перенести акцент на художественные средства выразительности. Проще говоря, больше думать о музыке, режиссуре, а не только уповать на «волшебные слова», которые уже мало кого удивляли. Кстати говоря, и упомянутый «эмоциональный фактор» действовал бы куда сильнее, умей музыканты как следует играть и петь… Но это был бы самый нелегкий путь, это означало бы ломку традиций «текстового» советского рока, заложенных еще в начале 70-х Андреем Макаревичем…
Перед лицом грядущих перспектив радикальная фракция рокеров осуществила попытку консолидации на фестивале в подмосковном Подольске. Поскольку слово "подпольный" уже никак не выглядело адекватным, был придуман термин "национальный (вариант – "русский") рок". Основными критериями "национальности" считались: а) озабоченность социальными (национальными) проблемами; б) противостояние "попсу" и коммерции. В Подольске выступили "Наутилус Помпилиус", "Телевизор", "Облачный край" (Архангельск), "Калинов Мост" (Новосибирск), "Цемент" (Рига), "Хронопы" (Горький) и другие более или менее бескомпромиссные группы. (Странно, что не были приглашены "Звуки Му": более "русского" рока, чем у них, я не слышал.) Играли, как и положено героям подполья, на холоде под открытым небом, а иногда и под проливным дождем.
Я не был на фестивале, но просмотрел видеозапись: впечатление осталось грустное. Во-первых, утомило тотальное фрондерство. Группа за группой из песни в песню повторяли очень похожие гневные обвинения в адрес гнусных "них" и выражали сочувствие униженным и оскорбленным "нам". Справедливые, конечно, сетования, уместная ирония, но скучновато. К тому же в этой всеобщей "левизне" был элемент своего рода конформизма, точнее, "униформизма". Для политической партии это, может быть, и неплохо – но вот для искусства… Во-вторых, ужасный уровень игры и вообще музыкального мышления (было несколько исключений, правда). Если в эпоху квартирных концертов и подвальных сэйшенов это было терпимо, в чем-то даже адекватно, то теперь резало слух. Явно прошло то время, когда "халяву" [91]91
Нечто сделанное без особых усилий (слэнг).
[Закрыть]и убогость легко можно было оправдать аргументами типа: «Зато мы поем честно и от всей души…» К тому же, уж если говорить всерьез об оппозиции натренированной эстраде – разве можно реально конкурировать с ней, обладая арсеналом наивной самодеятельности? Впрочем, о конкуренции речи не шло. Красивый тезис о «национальном роке» выродился, по сути, в отчаянный призыв: «Назад, в подполье!» Однако мало кто из музыкантов откликнулся на него с энтузиазмом.


Саша Башлачев

Рок-клуб. Февраль, 1988
Между тем происходящее «наверху» вновь дало поводы для пессимизма. Сначала – известные события, связанные с отставкой Б. Н. Ельцина. Затем – письмо троих писателей (Ю. Бондарев, В. Белов, В. Распутин) в газету «Правда», вновь призывающее к искоренению рока. Наконец, упорные слухи о том, что многострадальная «Рок-панорама-87» опять переносится (или отменяется). К счастью, последнего не произошло. Московские городские власти позаботились только о том, чтобы запретить какую бы то ни было рекламу фестиваля, а также наводнили Дворец спорта в Лужниках невиданным количеством милиции и дружинников. Несмотря на это, концерты проходили при почти аншлагах, в течение всех шести дней. Выступило несколько десятков групп, профессиональных и «клубных», со всей страны. Зияющим пробелом был Ленинград: большинство групп отказалось ехать в знак солидарности с запрещенными в Москве «Алисой» и «Телевизором»… Но в целом – грандиозное мероприятие.
Филармонические группы вновь доказали свою полную импотентностъ. Успех имели "АВИА", "Наутилус" и – довольно неожиданно – группы московской Рок-лаборатории. (Хотя "Звуки Му" вновь не были допущены.) Сергей Попов (группа "Алиби") оказался автором самой популярной песни фестиваля, "Ответ "Правде", с хорошей фразой о том, как хочется плюнуть вслед "вельможным черным "Волгам". "Алиби" получили главный приз – электроорган "Электроника"… Не на шутку испугал публику маниакально-депрессивный квартет "Нюанс", играющий нечто среднее между фанком и арт-роком, но в сугубо истеричной манере. Пожалуй, их выступление было верхом музыкального экстремизма "Рок-панорамы". "Ва-Банк" во главе с бывшим дипломатом Сашей Скляром дал под занавес лабораторского шоу немного элегантного позерского панк-рока… Об остальном я умолчу, ибо оно того стоит. Выдохнув кислую громадину "Рок-панорамы", советский рок застыл в изнеможении. Под Новый год было минус тридцать.
Семнадцатого февраля в Ленинграде покончил с собой Саша Башлачев.
Я не думаю, что состояние дел в роке хоть как-то повлияло на его решение. И тем не менее смерть нашего лучшего (может быть, единственного настоящего) поэта точно совпала и символически обозначила конец одной эпохи.
1987 год, как мне кажется, был последним, сумбурным годом определенной формации советского рока. Той самой "классической" формации, что зародилась в середине 60-х и постепенно развивалась под знаком запретов, изолированности от внешнего мира, идеализма и нищеты. Итоги этого развития неоднозначны. Есть достижения: несомненный духовный потенциал, чувство сопричастности и жажда правды, выраженные в лучших песнях, – а их были сотни и тысячи. Хороший уровень владения словом, заряженность на то, чтобы будить мысль… Все это позволило нашему року вершить свою тихую революцию в умах молодых людей в самые беспросветные годы, быть эмоциональным и психологическим тоником, а в каком-то смысле – и предтечей гласности. Можно сказать, что в специфических условиях нашей страны рок взял на себя функции, вообще не свойственные молодежной развлекательной музыке (каковым рок изначально и во всем остальном мире является). В этом его уникальность и в этом же – его обреченность… Ибо по мере того как наше общество начало возвращаться к цивилизованным формам, стало очевидно, что духовная миссия рока в общем и целом исчерпала себя. Теперь его место надлежит занять тем, кому положено, – честной литературе, невымышленной истории, религии… А року, в свою очередь, предстоит занять место в своей культурной нише – той самой развлекательной и молодежной… К чему он, естественно, не готов. Не готов потому, что этой самой музыки, а уж тем паче веселья и жизнерадостности, в нашем роке (за редкими исключениями) никогда толком и не было. Даже ритм, строго говоря, мало какая группа может держать… Таков несомненный минус развития формации.
Итак, на рубеже 1988 года остались в неповторимом прошлом: запреты на жанр (осенние передряги были последней на моей памяти крупной акцией антирокового лобби), свирепая цензура (если говорить только о концертных выступлениях – то практически и цензура вообще), уравнительные или же нулевые гонорары, "невыездной" статус. Последние два года десятилетия проходят под знаком бурного развития двух новых процессов: перевода советского рока на рыночную основу и вовлечения его в международную тусовку. Начну с первого.
С внедрением хозрасчета и появлением концертных кооперативов у нас наконец-то стала возможной принятая во всем мире практика. Согласно ей артисты получают реальную часть доходов от своих выступлений. Грубо говоря, система такая: исполнители через посредников (те самые кооперативы) заключают прямые договоры с концертными площадками, называя при этом свою "цену". Цена может выражаться двояко: или как фиксированная сумма, или как определенный процент от общего дохода мероприятия [92]92
Именно по такой схеме у нас издавна проводились «подпольные» концерты, Но это, с одной стороны, было нелегально и наказуемо, с другой – речь не шла, разумеется, о стадионах и дворцах спорта.
[Закрыть].
(Прошу прощения за казенную терминологию.) В любом случае это не мизерные "концертные ставки", придуманные чиновниками, а суммы несравненно большие. Гонорары популярных групп колеблются в пределах от пяти до десяти тысяч рублей за концерт, рекордсмены вроде "Ласкового мая" брали и по двадцать пять.
В принципе это абсолютно разумная система, и, рассуждая логично, можно было ожидать, что она, подобно западному шоу-бизнесу, позволит упорядочить концертную деятельность и будет стимулировать артистов в плане всяческого "повышения качества", дабы оправдывать суперзаработки… Однако Советский Союз лишний раз продемонстрировал свою полную непредсказуемость ("умом Россию не понять"), поскольку вышло все как раз наоборот.
"Коммерческие" гастроли стали раскручиваться вовсю с начала 1988 года. Уже осенью можно было наблюдать печальный результат: публику так перекормили роком, что она перестала ходить на концерты. Впервые в истории выступления рок-звезд и даже международные фестивали проходили при полупустых залах. Несколько раз я наблюдал поистине вопиющие картины, когда в многотысячных манежах сиротливо ютилось 200–300 человек, половину которых, по-видимому, "составляли знакомые и родственники выступающих"… Как докатились до такого после десятилетий аншлагов? Я вижу три главные причины: неуемная, близорукая жадность организаторов, и неумение и нежелание заниматься рекламой, и отсутствие какой-либо координации. Последний пункт заслуживает небольшого комментария. Как во времена Клондайка, наша поп-сцена мгновенно раздробилась на множество фирм и фирмочек, конкурирующих друг с другом в полном соответствии с "законом джунглей", не исключающим даже "физическое" воздействие. Нашумела, например, история с "Черным кофе": когда группа переметнулась из одной концертной фирмы в другую, ее бывший опекун просто-напросто похитил лидера, Диму Варшавского, и держал его взаперти, срывая гастроли новым хозяевам… Отчасти обиженного менеджера можно понять: ни контрактной системы, ни прочих юридических норм, касающихся исполнительского права, у нас не было и нет. О какой же разумной кооперации может идти речь?
Что касается "качества"… Всеобщая любовь к выступлениям на стадионах (где деньги лежат) породила массовую эпидемию пения под фонограмму. Если раньше этого как-то стыдились, считали "лип-синк" прерогативой эстрадных и дискохалтурщиков, то ныне редкие рок-знаменитости могли похвастать тем, что устояли перед соблазном… Уровень концертов, таким образом, катастрофически снизился; пустые залы и имитация игры на сцене хорошо дополняли друг друга.
Что уж говорить об очевидных и предсказуемых последствиях коммерциализации, уже в полной мере испытанных западным роком! Если говорить о музыкальной стороне дела, то это завал "денежной" работы и полный застой творчества. Единицы нашли в себе силы не втянуться в "крысиные бега". "Кино", например, хотя и требует пятизначные суммы гонораров, выступают очень редко. (Хотя и они поддались синдрому явных само-повторов, "съевших" и "АВИА", и "Аквариум", и "Алису".) "Наутилус Помпилиус", ошалев от изматывающих турне, вообще надолго прекратил "живые" выступления. Слава Бутусов предпочел изоляцию студийной работы, объяснив это так: "Мы стали заниматься роком, потому что нам было интересно, потому что это была возможность самовыражения… Бесконечные концерты, толпы, суета – все это не имело к творчеству никакого отношения. У меня не было времени собраться с мыслями, не было возможности что-нибудь придумать. Я почувствовал, что стал тупеть…"
В отношении артистов острых и не желающих "тупеть" рыночная система достаточно безжалостна. Группы, не попавшие в элиту, продолжали влачить жалкое существование, перебиваясь случайными концертами и будучи не в состоянии скопить денег, чтобы заплатить за студийную запись. Если раньше эта нищета воспринималась как нечто естественное и в чем-то компенсировалась чувством морального удовлетворения оппозиционера-нелегала, то теперь, на фоне "про-роковой" демагогии и благоденствия отдельных экс-соратников по "подполью", она вызывала только горечь и озлобление. Нигде я не слышал столько презрительных, исполненных отчуждения слов в адрес "нового курса", как в среде непризнанных рокеров. "Совок остался совком" – таков лейтмотив… И что самое обидное, среди этих людей много талантливых музыкантов и поэтов, создающих вещи оригинальные и бескомпромиссные.
Тут дело не столько в "совке". Я впервые съездил на Запад в конце 1987 года и воочию убедился, что тамошняя ситуация тоже не сахар. Радикальные, некоммерческие музыканты, даже знаменитые и легендарные, обретаются на задворках системы… Тогда я вынашивал идею о некоем "третьем пути", лелея надежду на то, что наш рок, вырвавшись из-под пресса культур-бюрократии и идеологического контроля, не попадет тут же во власть коммерсантов. На что я рассчитывал? На стойкий идеализм и духовную сплоченность рокеров, на образование новых художественных институций, на ум и хороший вкус госчиновников нового поколения, в конце концов [93]93
Кстати, один светлый прецедент в истории уже был – я имею в виду бум советского авангардного искусства первого послереволюционного десятилетия.
[Закрыть]… Полагаю, что ожидания эти были наивны. Экономическая реальность оказалась сильнее. Неуклюже, со скрипом и перекосами, телега нашего рока начинает путь по западной автостраде. Тем более интересно, как складывается за границей судьба советских рок-артистов.
Слюнь (Олег Гаркуша, «Аукцион»)

Фото А. Усова
Ржавый «железный занавес» висел очень долго, подвергаясь отчаянному натиску с обеих сторон. Первые пробоины появились в 1986–1987 годах, когда на Запад по каналам Минкульта были выпущены некоторые заслуженные филармонические коллективы. Большого эффекта это не произвело – группы отличались от расхожих мировых стандартов разве что некоторой скованностью и старомодностью. С модными словами «перестройка» и «гласность» ни «Автограф», ни «Диалог», ни «Группа Стаса Намина» никак не ассоциировались, ничем новым и революционным там и не пахло. Этот рутинный «культурный обмен» (обман?) мог бы продолжаться еще долго, если бы не долгожданное известие: рухнула монополия Гос-концерта на организацию заграничных гастролей! И плотину прорвало: «Браво», «Ва-Банк», «Бригада С», «Окна РОСТа» и «Сингер Вингер» поехали в Финляндию, «АВИА» и «Круиз» – в ФРГ, «Аквариум» – в Канаду, «Машина времени» – в США, «Антис», «Телевизор» и «Звуки Му» – в Италию, и т. д. В 1989году гастроли приняли лавинообразный характер. Назову лишь те, в организации которых я сам принимал участие: «АВИА» и «Звуки Му» в Британии, фестиваль «Де Сингел» в Антверпене («Вежливый отказ» «Джунгли», «Николай Коперник», «Альянс»), фестиваль «Советский рок» в Италик («Кино», «Звуки Му», «АВИА», «Бикс»), фестиваль «Новые открытия» в Глазго («Коллежский Асессор», «Не ждали», «Агата Кристи»). Как у нас водится, контакты с заграницей развивались абсолютно хаотично и (может быть, и к счастью) без намека на какую-либо стратегию. Тем не менее очень скоро появились две основные тенденции, соответствующие двум подходам, характерным для западных партнеров.